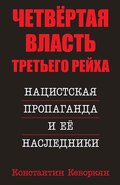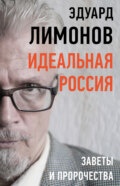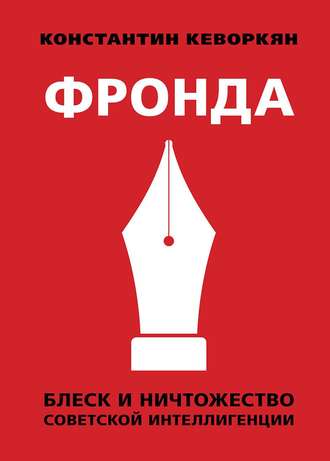
Константин Кеворкян
Фронда. Блеск и ничтожество советской интеллигенции
От народного повального вандализма несостоявшиеся просветители пришли в шок. П. Струве, хорошо знавший революционное движение изнутри, будучи автором «Манифеста Российской социал-демократической рабочей партии»[47], позже писал:
«Интеллигентская доктрина служения народу не предполагала никаких обязанностей у народа и не ставила ему никаких воспитательных задач… Народническая, не говоря уже о марксистской, проповедь в исторической действительности превращалась в разнузданность и деморализацию» (13).
Века накопленной ненависти хлынули безудержным половодьем и вопрос, кто положит половодью предел, кто поставит плотину и заслон, стал вопросом выживания государства.
И когда у В. Шульгина в конце его жизни спросили, как он по прошествии стольких лет оценивает приход большевиков к власти, он, по свидетельству очевидца, немного помолчал, а потом медленно, но многозначительно сказал, что, конечно, «не такого пути желал бы он России, но другого у нее, по-видимому, не было» (14). То, что оправдывал очевидец – гениальный Блок – в наше время подвергается осмеянию и вызывает презрение у той же элиты. Э. Рязанов высокомерно заявлял: «7 ноября (годовщину Октябрьской революции – К.К.) я считаю трагической датой в жизни нашего Отечества… К сожалению, народ оказался очень восприимчив к демагогическому лозунгу “Грабь награбленное”.
Многим миллионам пришлась по душе психология погромщика, полюбилась мораль мародера, прикипели к душе повадки убийцы… Седьмого ноября началось семидесятилетнее царство жлобов» (15).
«Мародеры», «убийцы», «жлобы»… Как же далеко от этого пасторальное описание Платона Каратаева. Почему получилось так, что интеллигенция из союзника угнетенного народа превратилась в его злобного эксплуататора и ненавистника, пойдет речь в этом разделе книги.
II
Социалистическое государство появилось на свет в результате победы социальной революции, когда народ (преимущественно крестьянство, движимое перенаселением и голодом) единодушно поднялся на борьбу за хлеб и землю против тех, кто не хотел эту землю отдавать. Либеральная интеллигенция, к топору неустанно призывавшая Русь, явно не ожидала, что во время революции неблагодарный люд начнет истреблять ее с не меньшим остервенением, чем другие правящие классы. Ведь «благородная» кровь хлынула даже не после Октябрьского переворота, а сразу после Февральский буржуазной революции.
Разложение царской армии, которому всячески потакали А. Керенский и компания, армии, которая, будучи организованной, вооруженной силой могла бы сдержать страсти – этой армии пришлось первой пережить ярость разагитированного эсерами, большевиками и «трудовиками» народа. Писатель М. Пришвин в своих дневниках описывает разговор с бывшим солдатом царской армии, который вспоминал события 1917 года; автор передает прямую речь собеседника:
«Сначала объявили, что Николай отказался от царства. Потом объявили, что царем будет Михаил. А когда в третий раз выстроили, то подполковник вынул шпагу и сломал. Тут же было объявлено, чтобы честь не отдавать, что солдаты и офицеры на равном положении, и все товарищи. Стали, конечно, догадываться и веселеть, разговоры пошли всякие. А что это значит, полковник шпагу сломал – этого понять не могли. Но вскоре приехали делегаты и все объяснили. Тогда солдаты согласились и «перемундировали» полк. Я спросил:
– Что это значит: «перемундировали»?
Так спокойно ответил Агафон Тимофеевич.
– Известно что: перестреляли…
– Всех?
– Всех.
– А того подполковника?
– Прикололи.
Что-то было в этом последнем слове до того противоестественное, будто о курице разговор был или о баране.
– Агафон Тимофеевич, – сказал я, – за что же всех-то, как это понять?
– Это отмщение, – ответил Агафон, – мучили нас они, вот и отмщение» (16).
Отмщенье не носило характер мести конкретному человеку – мстили всем господам, жгли усадьбы и «добрым» дворянам. Старое общество воспринималось народом как несвободное, вернее, построенное на «неволе». Это было связано, в первую очередь, с отчетливо понимавшейся социальной несправедливостью дореволюционного строя. Н. Бердяев: «Новые люди, пришедшие снизу, были чужды традициям русской культуры, их отцы и деды были безграмотны, лишены всякой культуры и жили исключительно верой. Этим людям свойственно было ressentiment[48] по отношению к людям старой культуры, которое в момент торжества перешло в чувство мести. Народ в прошлом чувствовал неправду социального строя, основанного на угнетении и эксплуатации трудящихся, но он кротко и смиренно нес свою страдальческую долю. Но наступил час, когда он не пожелал больше терпеть, и весь строй души народной перевернулся… Кротость и смиренность может перейти в свирепость и разъяренность» (17).
Прорыв из старого общества воспринимался как прорыв к истинной свободе. Но «свобода» в крестьянском понимании означала «волю». Возможно, мы имеем дело с одной из наиболее грандиозных и, вместе с тем, трагических иллюзий народного сознания. Логика социального творчества потребовала от народа некий прообраз, тот идеал, в соответствии с которым он собирался преобразовывать существующую реальность. В арсенале народной культуры этот идеал справедливости чаще существовал как религиозная надежда на «Царство Божье», как некая гуманистическая абстракция. В качестве его нравственного императива выступал принцип социальной справедливости. Как и в социализме.
В русском менталитете понятия «свобода» и «социальная справедливость» неразрывны, они представляют две стороны одного целого. Слово-понятие «воля» в народном понимании означает выражение свободы от принуждения и любых ограничений. «Воля», предполагала освобождение от гнета чиновничества, от налогов, от государственных повинностей, включая обязательную армейскую службу, от правовых ограничений… Соответственно, революция большевиков, воспринимаемая как акт освобождения, виделась как решающий шаг в переходе к «воле». Но когда большевики принесли новую неволю, их начали резать, как и всех прочих.
Вот что пишет тюменский писатель К. Лагунов о Сибирском (конкретнее— Тобольском) народном восстании начала 1921 года: «Дикая ярость, невиданные зверства и жестокость – вот что отличало крестьянское восстание 1921 года… Коммунистов не расстреливают, а распиливают пилами или обливают холодной водой и замораживают. А еще разбивали дубинами черепа; заживо сжигали; вспарывали животы, набивая в брюшную полость зерно и мякину; волочили за скачущей лошадью; протыкали кольями, вилами, раскаленными пиками; разбивали молотками половые органы; топили в прорубях и колодцах. Трудно представить и описать все те нечеловеческие муки и пытки, через которые по пути к смерти прошли коммунисты и все те, кто хоть как-то проявлял благожелательное отношение к Советской власти…» (18).
Зафиксируем основные черты русского общества, точнее, его крестьянской подноготной – отсутствие чувства меры и границы дозволенного (западная законопослушность во многом была продиктована вынужденной скученностью, необходимостью уживаться на ограниченных земельных и городских пространствах); перепады активности от лени до энтузиазма (крестьянская привычка к кратковременному напряжению всех сил во время уборки урожая, хорошо знакомая нам «кампанейщина»); коллективный принцип: «Будь как все» (основа коллективизма крестьянской общины).
Не надо видеть в этих чертах особенной доблести, ума или народной мудрости. Но не нужно и думать, что многовековые черты народного характера улетучились, поскольку несколько десятилетий на территории Российской империи правили большевики. Удаль на грани и за гранью идиотизма мы можем наблюдать каждый день – в исступленном заплывании за буйки, и в распитии загадочных спиртосодержащих напитков, и «какой же русский не любит быстрой езды». Пожалуй, эти качества хороши на войне, но не в мирной жизни. Нельзя вооружать непредсказуемый народ, а тут по стране бесконтрольно разошлись миллионы вооруженных, озлобленных крестьян. Правительство с ними и безоружными во время первой русской революции едва справилось[49]. Либералы не смогли, а вот Сталин не постеснялся – не только взнуздать революцию, но и заставить работать врожденные качества народа на идею модернизации страны, что дало свои неоспоримые плоды.
В. Шульгин вспоминал об одной его лекции о Февральской революции, на которой присутствовал упомянутый выше бывший революционер, профессор П. Струве. После лекции начались прения, и Струве заявил: у него был единственная причина для критики Николая II – что тот был излишне мягок с революционерами, которых нужно было «безжалостно уничтожать». Шульгин в шутку спросил, уж не считает ли Струве, что и он сам должен был быть уничтожен. Струве, чрезвычайно разволновавшись, воскликнул:
– Да!
И, встав со своего места, зашагал по зале, тряся седой бородой.
– Да, и меня первого! Именно так! Как только какой-нибудь революционер поднимал голову свою – бац! – прикладом по черепу! (19)
Собственно, позже Сталин так и поступил, однако это не решило накопившихся проблем социума. «Царство Божие» (символ Высшей Истины) в понимании освобожденного народа – это жизнь без государственных тягот («воля») и заслуженное рабство бывших господ («справедливость»). В массовом сознании народа «свободный строй» представлял собой перевернутую социальную пирамиду, в которой менялись местами господа и подчиненные. Вспомните процитированное выше письмо В. Короленко («Повеличались одни. Теперь пусть повеличаются другие…») А теперь иное послание: «Нам, большевикам, пришло время жить и наслаждаться жизнью. Пускай теперь поработают те, на которых мы работали сотни и сотни лет! Пускай эти зажиревшие люди поработают до пота лица и поймут и сознают, что вели неправильную жизнь, – писал в ноябре 1930 года «всесоюзному старосте» М. Калинину член коммуны «Красный Октябрь» Ленинградской области В. Скурдинский (20). Можно не сомневаться, что работяга Скурдинский не читал личной переписки писателя В. Короленко, и вообще не факт, что знал о его существовании. Но мысли изложены те же!
Там, где имеется Царство (пусть даже и Справедливости), там есть Царь, мудрый поводырь и народный заступник. Такова многовековая традиция крестьянского мировосприятия. Помощник присяжного поверенного, интеллигент и дворянин В. Ульянов-Ленин, ставший во главе власти, признанной большинством народа, быстро превратился в сознании масс в такого царя. «Сидит Ленин на престоле, два нагана по бокам. Дал он нам, крестьянам, землю – разделить по едокам», – в этой народной частушке в образе Ленина отражена и высшая справедливость («земля по едокам»), и легитимность новой власти («на престоле»), и ее могучая сила (пистолеты, целых два!). Долгие годы мифический «Ильич» являлся неиссякаемым источником добра, силы, света и жизни для миллионов безвестных каратаевых русского народа.
Общий настрой определялся тем, что Ильич казался покаявшимся за перегибы «военного коммунизма» и пострадавшим, искупившим тяжелой болезнью свои прежние грехи, почти мучеником. Вот что говорил один старый крестьянин, пришедший в Горки проститься с Лениным 22 января 1924 г.: «Ведь он, наш-то Ильич, за крестьянство страдал, ну вот и кончина его праведная, легкая… без муки… сел… дайте, говорит, испить… тут в одночасье и кончился». Еще в 1926 году селькор с Северного Кавказа пересказывал местную легенду о том, что «Ленин жив, но он тайно ходит по земле и следит за работой Советской власти», а похоронен вместо него кто-то другой[50](21). Эта вера в высшую справедливость надолго стала для Советской власти чем-то вроде охранной грамоты. Но реальность радикально отличалась от крестьянских сказок о добром царе, пришедшем защитить простой народ и его землю.
Ленин крестьянство не любил и не понимал. Все его представление о сельском хозяйстве ограничивалось кратким хозяйствованием на небольшом хуторе, который в 1889 году Ульяновы купили вблизи Самары. Работа сразу невзлюбилась. «Я начал было, – рассказывал Ленин Крупской, – да вижу – нельзя, отношения с крестьянами ненормальные становятся» (22). Да и второй опыт крестьянского хозяйствования состоял лишь в том, что под конец жизни Владимир Ильич украсил свой дом в Горках горшочками с овсом, просом, ячменем, гречихой и прочей озимой пшеницей. На этом отношения типично городского жителя со средой обитания подавляющего числа населения его страны и заканчивались. Однако Ленина подобная нестыковка абсолютно не тревожила, поскольку любовь к отеческим гробам не волновала в принципе. Сам Ленин говаривал: «Пролетариат не может любить того, чего у него нет. У пролетариата нет отечества». Его не было и у окружавших Ильича интернационалистов, оно просто не подразумевалось доктриной. Марксизм – это городская, космополитическая религия. И кого щадить – народ, дремучий погромный нрав которого революционеры, особенно еврейского происхождения, оценили в полной мере?[51] Презренных интеллигентиков, которые так и не смогли удержать полученную ими в Феврале власть? Монархистов, которые первыми бросили своего императора? Любовь к некоему географическому пространству или березовым лесонасаждениям глубоко противна материалистическому уму. Более того, нелюбовь к России у русских революционеров продиктована самим марксизмом. Ведь никто никогда не говорил об их родине с такой проникновенной ненавистью, как К. Маркс (разве что его русские ученики, считавшие эту ненависть одной из самых святых и правых). «Оплот мировой реакции», «угроза свободному человечеству», «единственная причина существования милитаризма в Европе», «последний резерв и становой хребет объединенного деспотизма в Европе» – вот излюбленные его выражения. Известный политолог и философ А. Дугин обращает наше внимание, что все «атлантисты» (т. е. участники западноевропейской, основанной на «рынке» цивилизации – К.К.), включая коммунистов, в их «мессианском» измерении, всегда вели себя по отношению к евразийскому населению… как колонизаторы, как пришельцы» (23).
Нет, конечно, во время Гражданской войны, когда припекло, большевики использовали весь арсенал дорогих патриоту слов, включая «Отечество», даже невзирая на то, что у пролетариата его вроде бы не имеется. Воззвания, вроде «Социалистическое отечество в опасности» авторства Л. Троцкого, были четко рассчитаны на крестьянские массы, военспецов из офицеров да примкнувшую к большевикам интеллигенцию. Позже Лев Давидович вспоминал: «Написанный мною проект – “Социалистическое отечество в опасности” – обсуждался вместе с левыми эсерами. Эти последние, в качестве новобранцев интернационализма, смутились заголовком воззвания. Ленин, наоборот, очень одобрил: “Сразу показывает перемену нашего отношения к защите отечества на 180 градусов. Так именно и надо”» (24). То есть «новобранцы» испытали девичий стыд за слова из буржуазного лексикона, но более опытные товарищи свои принципы легко меняли по мере необходимости – на том стояла и стоять будет мировая политика.
Самих же радикальных большевиков вопросы жизни отдельного «отечества» не слишком тревожили – их интересовал надежный плацдарм для Мировой Революции и все, что могло разжечь пожар, поддерживалось и одобрялось. Собственно, здравицей Мировой Революции воззвание про «защиту социалистического отечества» и заканчивалось. Так рождалось противоречие между отравленной доктринерством коммунистической революционной элитой и мечтой простого народа о спокойной жизни на своей земле.
Изначально леворадикальному государству было наплевать на чаяния своих граждан, щепок для костра мировой революции, но когда революционный медведь, изнуренный войной, разрухой и голодом вынужденно угомонился в своей берлоге, перед правителями стала задача обустройства занятой ими территории. Причем, обустройства, которое не могло не принимать во внимание интересы подавляющего числа граждан – крестьян. Провал политики военного коммунизма заставил большевиков искать обходные пути к общечеловеческому счастью с помощью долговременной социальной инженерии, и в этих стратегических планах усиление позиций новой крестьянской «буржуазии» (кулаков) представляло серьезную политическую опасность для коммунистической диктатуры. Но окончательное решение вопроса, к сильному раздражению правоверных революционеров, откладывалось. В 1922 году был издан новый закон «О трудовом землепользовании», который предоставлял крестьянству самому избирать способ землепользования: а) общинный (с уравнительным переделом земли); б) участковый (с неизменным правом двора на землю); в) товарищеский (артели и коммуны).
Итак, вековая мечта русских интеллигентов, казалось, свершилась – Платон Каратаев свободен. Он, правда, оказался другим: более решительным, злым, что ли? Часть радетелей пустил в расход, другие в ужасе разбежалась. Но при власти был, какой-никакой, интеллигент Ленин, окруженный вполне образованными соратниками, с большевиками сотрудничали многие лидеры дореволюционной культурной жизни. Присмотревшись, начали возвращаться из эмиграции некоторые беглецы. Один из наиболее знаменитых – граф и писатель Алексей Толстой. В 1924 году в одной из своих первых после возращения на родину статей – «Задачи литературы» – он выделил одну из самых главных задач писателя нового времени: «Лев Толстой написал Платона Каратаева; они, Платоны, миллионами в то время бродили по Русской земле. Теперь Платон – да не тот»[52] (25). Изучение Платонов (а не только «быстрых разумом Невтонов») становится во главу угла советского искусства.
III
Изменение генотипа народа, перестройка основ народной жизни – вот главная задача, которая определила линию большевиков после неудачи спонтанной мировой революции. Для долговременного и успешного строительства коммунистического государства необходимо было совершить еще одну революцию – культурную. Даже в середине 1930-х годов значительно более половины взрослого населения СССР составляли люди, родившиеся до 1900 года, то есть ставшие взрослыми еще в Российской империи, со всеми своими предрассудками, традициями, суевериями и представлениями о мире. А что же тогда говорить о годах двадцатых?
Масштаб задач, стоявших на пути развития мышления нового человека, был огромен – от преодоления неграмотности до культивирования особого социалистического искусства. И здесь нашлось широкое поле деятельности для интеллигенции, действительно ставшей нужной своему народу. «Самое же главное было в том, – писал об этом времени С. Эйзенштейн, – что здесь каждый укреплялся в осознании того, что делу революции нужен всякий. И прежде всего, именно в своем неповторимом, угловатом, индивидуальном виде» (26). Допустим, он писал неискренне, для публики, но можно вспомнить частную переписку А. Толстого, критиковавшего свою жену Н. Крандиевскую за снобизм: «На тебя болезненно действует убожество окружающей жизни, хари и морды, хамовато лезущие туда, куда должны бы входить с уважением. Дегенерат, хам с чубом и волосатыми ноздрями повергает тебя в содрогание, иногда он заслоняет от тебя происходящее. Я стараюсь этого не замечать, иначе я не увижу того, что тот заслоняет» (27). Выговаривал ей не только в письменном виде, но и в форме домашних скандалов:
– Интеллигентщина! Непонимание новых людей! – кричал в раздражении на супругу великий писатель. – Крандиевщина! Чистоплюйство! (28)
И ведь таки развелся, и не только молодая любовь тому причиной. А. Толстого особо раздражала манера за частностями, мерзкими деталями, не видеть тектонических изменений, первой за всю историю России полномасштабной попытки образовать и духовно раскрепостить народ. Пёс с ними, с домашними скандалами, но и здесь мы наблюдаем четкую разделительную полосу: существует ли долг интеллигенции перед народом (просвещать его), либо жить своей отдельной интеллектуальной жизнью. В 1920-е и 1930-е году в ходу была первая точка зрения, просвещение рассматривалась как гражданский долг образованных людей перед гражданами своей страны. Это обстоятельство и определяло гуманистический характер социального творчества. Вот почему, несмотря на свою подчиненность решению прикладных проблем жизнедеятельности нового строя, оно имеет, в первую очередь, огромное культурное значение.
«Гуманистическое начало и Ренессанса, и советской художественной культуры несет в себе ориентацию на идею всестороннего развития личности… И Ренессанс, и советская художественная культура являли собой результат синтезирования вдохновенно переживаемой духовности с материально понимаемой жизнью» (29). Новый строй отрицал врожденную алчность, корысть, продажность людей, презирал ненависть по расовым, религиозным или национальным признакам. Социалистическая власть хотела вообще стереть как можно больше противоречий, оставленных «проклятым прошлым». Должна была оставаться одна большая разница: между трудящимися и нетрудящимися.
Понятное дело, что просветительская и пропагандистская работа должна была кропотливо организовываться, в первую очередь, коммунистическим государством. А государство не могло не принимать в расчет крестьян, тех самых миллионов каратаевых и присущую им манеру поведения, сформированную многовековой традицией русской крестьянской общины. А она, в свою очередь, имела весьма мало общего с западноевропейскими устоями марксизма.
Когда средневековая Европа превращалась в современный Запад, произошло освобождение человека от связывающих его солидарных, общинных человеческих связей. Капитализму нужен человек, свободно пеpедвигающийся по стране и вступающий в отношения купли-пpодажи на рынке рабочей силы. Поэтому община всегда была главным врагом буржуазного общества и его культуры. В соответствии с представлениями о человеке и с теми связями, которые соединяют людей в общество, строится политический порядок, определяющий тип государства. Традиционное общество, имея как образец идеал семьи, порождает т. н. патерналистское государство (от лат. pater – отец). Здесь отношения власти и подданных иерархичны и строятся по образу отношений отца и детей. Значит и представления о свободе, взаимных правах и обязанностях здесь принципиально иные, нежели в государстве западного общества, роль которого сведена к функции регулятора («государство – ночной сторож»).
Когда после Второй мировой войны на Западе возникла необходимость изучения новой сверхдержавы, феномен советской государственности стал объектом пристального внимания исследователей. В то время на Западе проживали сотни тысяч бывших советских людей, по тем или иным причинам не возвратившихся после войны в СССР. Детальный опрос среди них, изучение их мнений и менталитета облегчало европейской элите понимание страны, психологии ее граждан, мотивов их поведения. Этот т. н. «Гарвардский проект», осуществленный в 1950–1951 годах на основе опроса очень большого числа перемещенных лиц, был обобщен американцами А. Инкелесом и Р. Бауэром в монографии «Советский гражданин».
В результате большой и кропотливой работы авторы исследования сумели очертить политический идеал русских: «Патерналистское государство с чрезвычайно широкими полномочиями, которое решительно их осуществляет, направляя и контролируя судьбу страны, но которое в то же время благожелательно служит интересам гражданина, уважает его личное достоинство и оставляет ему значительную свободу желаний и чувство защищенности от произвольного вмешательства и наказания» (30). Это вызвавшее сенсацию исследование в целом адекватно отразило многовековой стереотип, особенность восточноевропейского менталитета.
Государство, помогающее своим гражданам, плотно опекающее их, но не вмешивающееся в их личную жизнь – это, по сути, один из признаков авторитарного режима. Он существенно отличается от тоталитарного, который контролирует все стороны жизни гражданина. Тоталитаризм сталинского толка перегнул палку, люди были бы вполне удовлетворены общественным (общинным) контролем, но без репрессивных крайностей.
В числе прочего, во взаимосвязи с крестьянским сознанием советский строй породил необычный тип промышленного предприятия, где производство было неразрывно переплетено с поддержанием важнейших условий жизни работников, членов их семей – т. н. «социальная сфера», которую создавали советские промышленные предприятия для своих работников. Это переплетение, идущее от тысячелетней традиции общинной жизни, настолько прочно вошло в коллективную память и массовое сознание, что казалось естественным.
Такое коллективное сознание диктовало подтягивание всех членов общины до единого знаменателя, в том числе и в отношении культуры производства и поведения, включая заботу об отстающих (даже на уровне учебного класса). Но размеренная жизнь общины несовместима с динамичным строем, который задумали построить в СССР реформаторы, надеясь создать модель экономики, не уступающей по эффективности западному капитализму.
Объяснимы попытки революционной власти преодолеть экономическую пропасть между Востоком и Западом в максимально короткий срок, опираясь на народный подъем, как говорили раньше, «энтузиазм масс». Кратковременное напряжение всех сил свойственно крестьянскому сознанию, привыкшему полностью мобилизовать рабочую энергию в период, скажем, сева и уборки урожая. Разумеется, построение Царства Божьего на земле требует больших, более долговременных усилий, что энтузиасты охотно понимали и принимали. Н. Бердяев анализирует феномен массового энтузиазма: «Каждый молодой человек чувствует себя строителем нового мира. Мир стал пластичен, и из него можно лепить новые формы. Именно это больше всего соблазняет молодежь. Каждый чувствует себя участником нового дела, имеющего мировое значение. Жизнь поглощена не борьбой за собственное существование, а борьбой за переустройство мира» (31).
Подспорьем (а порою и помехой) им служили сами черты народного характера. Анализ высказываний иностранцев и высказываний в средствах массовой информации позволяет фиксировать следующие особенности поведения русских (россиян): неточность во времени[53]; не следование технологической дисциплине, технологическому регламенту; но при этом выполнение порученной задачи, несмотря на отсутствие всех необходимых средств; эмоциональность, энтузиазм, увлеченность в период стремления к цели.
Эту особенность народа – к восприятию и стремлению к возвышенной цели – не раз отмечали писатели. Например, И. Эренбург вспоминает, как во время собрания на строительстве магистрали Москва – Донбасс «один землекоп, в бараньей шапке, с обветренным лицом, говорил: «Да мы во сто раз счастливее проклятых капиталистов! Они жрут, жрут и дохнут – сами не знают, для чего живут. Такой прогадает, смотришь – повесился на крюке. А мы знаем, для чего мы живем: мы строим коммунизм. На нас весь мир смотрит…» (32) А какое разнообразие типов этих народных строителей коммунизма описывают Ильф и Петров: «Был здесь сормовский рабочий, посланный в поездку общим собранием, и строитель со Сталинградского тракторного завода, десять лет назад лежавший в окопах против Врангеля на том самом поле, где теперь стоит тракторный гигант, и ткач из Серпухова, заинтересованный Восточной Магистралью, потому что она должна ускорить доставку хлопка в текстильные районы. Сидели тут и металлисты из Ленинграда, и шахтеры из Донбасса, и машинист с Украины, и руководитель делегации в белой русской рубашке с большой бухарской звездой, полученной за борьбу с эмиром».
Медленный эволюционный путь не мог удовлетворить вечно пришпоривающих ход истории революционеров. Вообще, стремительная переделка человека – отличительная черта всех утопистов. Тем более, таких радикальных, как большевики образца 1920-х годов. Ради ускорения предлагалось даже переделывать народ искусственно. Л. Троцкий (1923 г.): «Человеческий род, застывший хомо сапиенс, снова поступит в радикальную переработку и станет под собственными пальцами объектом сложнейших методов искусственного отбора и психофизической тренировки». Здесь уже недалеко и до прозрений светочей перестройки вроде академика Н. Амосова, писавшего в 1992 г.: «Исправление генов зародышевых клеток в соединении с искусственным оплодотворением даст новое направление старой науке – евгенике – улучшению человеческого рода. Изменится настороженное отношение общественности к радикальным воздействиям на природу человека, включая и принудительное (по суду) лечение электродами злостных преступников… Но здесь мы уже попадаем в сферу утопий: какой человек и какое общество имеют право жить на земле» (33).
Были не только слова, но и всяческие эксперименты над человеческой природой – профессор Преображенский из «Собачьего сердца» был не одинок в своих изысканиях. Например, в 1926 году доктор Манойлов с помощью изобретенного им реактива определял половую принадлежности крови. Ну, ладно половую, но речь шла и национальной принадлежности. По мнению Манойлова, кровь разных народов окисляется по-разному. И в 187 случаях из 222, если верить прессе тех лет, он определил национальность правильно. А это уже прямая перекличка с последующими нацистскими изысками в области чистоты крови и расы. Только цель переделки человека была диаметрально другой – не возвращение к национальным истокам, а создание человека будущего.
Целью всех мук и страданий, жесточайшей коллективизации и героической индустриализации должно было стать осуществление мечты: создание на востоке Европы народа, не менее энергичного и целеустремленного, чем его западные соседи. Знаменитый испанский философ Х. Ортега-и-Гассет пишет в 1930 году: «Москва прикрывается тонкой пленкой европейских идей – марксизмом, созданным в Европе применительно к европейским делам и проблемам. Под этой пленкой – народ, который отличается от Европы не только этнически, но, что еще важнее, по возрасту; народ еще не перебродивший, молодой. Если бы марксизм победил в России, где нет никакой индустрии, это было бы величайшим парадоксом, который только может случиться с марксизмом. Но этого парадокса нет, так как нет победы. Россия настолько же марксистская, насколько германцы Священной Римской империи были римлянами» (34).
Индустриализация, коллективизация, создание новой армии – все это были части большой программы модернизации СССР. Главным в ней было превращение человека с крестьянским типом мышления, восприятием времени, стилем труда и поведения в человека, оперирующего точными отрезками пространства и времени, способного быть включенным в координированные, высокоорганизованные усилия огромных масс людей. То есть, в человека современного индустриального общества, способного быть оператором сложной производственной и военной техники. 26 декабря 1934 года на приёме передовых сотрудников металлургической промышленности в Кремле Сталин пролил свет на ход рассуждений тогдашнего советского руководства: «У нас было слишком мало технически грамотных людей. Перед нами стала дилемма: либо начать с обучения людей в школах технической грамотности и отложить на 10 лет производство и массовую эксплуатацию машин, пока в школах не выработаются технически грамотные кадры, либо приступить немедленно к созданию машин и развить массовую их эксплуатацию в народном хозяйстве, чтобы в самом процессе производства и эксплуатации машин обучать людей технике, выработать кадры. Мы выбрали второй путь. Мы пошли открыто и сознательно на неизбежные при этом издержки и перерасходы, связанные с недостатком технически подготовленных людей, умеющих обращаться с машинами… За 3–4 года мы создали кадры технически грамотных людей как в области производства машин всякого рода (тракторы, автомобили, танки, самолёты и так далее), так и в области их массовой эксплуатации. То, что было проделано в Европе в продолжение десятков лет, мы сумели проделать вчерне и в основном в течение 3–4 лет. Издержки и перерасходы, поломка машин и другие убытки окупились с лихвой. В этом основа быстрой индустриализации нашей страны».