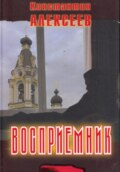Константин Александрович Алексеев
Чужой
– Знаете, кто это написал? – торжествующе возглашал Савельев. – Сама Новодворская!
Это было в девятом классе, в самом начале сентября. А через три с небольшим месяца ранним утром Влад ворвался в школу с криками, что уроки необходимо прекратить и тотчас же отправляться на похороны академика Сахарова. Занятия, разумеется, не отменили, но бузотеру удалось увести с собой человек тридцать, в основном старшеклассников. Тех, кто не присоединился к ним, Влад чуть ли не прилюдно проклял, объявив врагами перестройки и соглашателями.
После этого он практически перестал появляться в колледже на Арбате, борясь за окончательную победу над тоталитарным государством, как объяснял он сам. Поначалу все думали, что одноклассник действительно целыми днями пропадает на манифестациях и в пикетах, пока однажды Савельев не угодил в милицию. И загребли его не на площади за скандирование антисоветских речевок, а в притоне, где мошенники обыгрывали в карты доверчивых лохов. При десятикласснике английской спецшколы нашли бешеные по тем временам деньги: тысячу триста рублей! А в ту пору, между прочим, квалифицированный работяга получал от силы двести пятьдесят!
Родителям юного шулера пришлось подключить все свои связи, вдобавок за школьника впряглись и соратники по митингам. От статьи Савельева отмазать удалось. Думали, что после попадания в милицию он хоть немного остепенится, но куда там! На уроках его не видели по-прежнему, однако аттестат юный борец с империей зла как-то получил.
На своих митингах Влад познакомился и привел в компанию тогда никому еще неизвестного Борю Гринкевича. Да-да, того самого. В то время будущий идейный вдохновитель террористов учился в обычной школе где-то в Алтуфьево, но уже грезил о будущей революции, о том, что разнесет в прах ненавистную страну, в которой ему, Гринкевичу, не посчастливилось родиться. Кстати, он еще тогда, будучи девятиклассником, доказывал, что Холокост устроил не Гитлер. Нет, авторами геноцида были как раз кремлевский генералиссимус и его сообщники, решившие отомстить бедным евреям за семнадцатый год. И поэтому, вещал алтуфьевский гость, «русня» не имеет никакого права на существование. После такого не по себе стало даже парочке соплеменников Бори, которые сами, мягко говоря, не любили русских.
12
Монолог Нэсса был прерван звонком моего телефона. Я глянул на экран и вздохнул. Нет, мне абсолютно не хотелось общаться с ней при Вознесенском. Тем более можно было побиться об заклад, что моя собеседница звонила как раз по поводу него.
«Ишь ты, как тебя разбирает! Угомонись, Ларионова!»
Мысленно высказав это назойливой подруге, я отклонил вызов, сопроводив отбой вбитым в память смартфона месседжем: «Я не могу сейчас говорить».
– Со службы, что ли? – поинтересовался Серый, наблюдая за моими манипуляциями.
– Угу, – кивнул я и для достоверности сердито добавил: – Нет от них покоя ни днем ни ночью. Спокойно выпить вечером нельзя.
– Смотри, а то вдруг срочно вызовут, а ты бухой…
– Разберемся.
– Слушай, а ведь ты давным-давно пенсию выслужил, так?
– Верно.
– А почему на дембель не уходишь?
– Неохота пока.
– Скажи уж лучше честно: привык к погонам и несвободе!
– Смотря что считать несводобой.
– Дело не в том, что конкретно считать, а что нет, – Нэсс махнул рукой. – Просто когда человек живет много лет в определенном социуме, ему начинает казаться, что вне этого так называемого мира жизни нет. И условный Вася или Петя, как волк в песне Высоцкого, боится сделать шаг за эти невидимые флажки. Пусть даже он уже устал от прежней жизни, а там, за чертой, она на самом деле если не лучше, то по меньшей мере не хуже.
Сию теорию мне впервые объяснила Лиза, моя однокурсница, тоже занимавшаяся в мастерской у Курылева. Она носила редкую фамилию Браже, по семейным преданиям, происходившую от француза, еще в девятнадцатом веке юным солдатом наполеоновской армии попавшего в плен и так и осевшего и пустившего свои корни на Руси.
Когда я в первый же день увидел Лизавету, то поначалу принял сокурсницу за парнишку. Невысокого роста, с короткой стрижкой, в неизменных расклешенных джинсах, она казалась ничем не примечательной. Мелкие, не запоминающиеся черты лица, быстрая походка, привычка слушать, чуть надломив тонкую бровь. Правда, когда при знакомстве девушка подала руку, пожатие оказалось не по-женски сильным и жестким.
Лиза была старше меня на три года и к своим двадцати имела титул мастера спорта по верховой езде. Говорили, что ее заметил сам Ростоцкий-младший на съемках какого-то фильма про кавалеристов, где юная наездница прозябала в массовке, и порекомендовал в качестве каскадера знакомому режиссеру. Последний как раз снимал картину со сценами конных баталий. А уж тот разглядел в девушке не только трюкачку, но и прирожденную актрису и сосватал ее во ВГИК, к давнему приятелю – Курылеву.
Помнишь Андрея Ростоцкого? Вот уж кто был универсальным солдатом в кино! Каждая его роль, будь то Николай в «Днях Турбиных», юный Гайдар, Денис Давыдов или Хромов в «Непобедимом», смотрелась шедевром. А ведь еще Андрей Станиславович зарекомендовал себя непревзойденным каскадером и толковым режиссером. Короче, и швец, и жнец, и на дуде игрец! Так вот, наша Лиза была точной его копией, только в женском обличье. И не только по куче разнообразных талантов, но и по характеру.
Ты знаешь, как Ростоцкого-младшего звали в школе? Бешеный! Он же был маленький, щуплый, но, если что, мог броситься в драку на тех, кто намного здоровее. Рассказывали, что однажды он в одиночку накостылял аж троим громилам-старшеклассникам!
Наша Амазонка – так звали Лизу в институте – была из того же теста. Не знаю, как в школе, но по ВГИКу долго ходил рассказ про студентку Браже, бесстрашно бросившуюся на выручку сокурснику. Как поведал сам потерпевший, тщедушный очкастый паренек, в тот вечер он возвращался после занятий домой. У метро «Ботанический Сад» его тормознули два амбала. Как водится, спросили, кто такой, откуда, а затем, отвесив пару затрещин, потребовали снять дорогую кожанку. Вот в тот момент, когда юноша дрожащими руками расстегивал молнию на одежке, из темноты появилась Лиза.
Мгновенно сообразив, в чем дело, девушка с ноги зарядила в пах тому, что поздоровее, а затем несколько раз насадила головой на свое колено. Все это произошло за какие-то секунды, и когда второй грабитель попытался было взять реванш над неизвестно откуда взявшейся заступницей, Лизавета остановила его точным ударом в голень. А затем, вырвав из рук противника недопитую бутылку пива, разбила о его же лоб.
Когда ошалевший от неожиданности и боли гопник пришел в себя, Браже подступала к нему, угрожающе помахивая перед его физиономией «розочкой». Юнец в ужасе подхватил своего поверженного сообщника и ретировался. А Лиза, успокоив несостоявшуюся жертву ограбления, взялась проводить его до дома, несмотря на то, что сама жила аж в Реутово. Кстати сказать, после того вечера наш очкарик-ботаник остерегался появляться около «Ботанического Сада», добираясь кружным путем до соседнего метро. Елизавета же принципиально возвращалась именно мимо того места, где отметелила двоих аборигенов, нисколечко не боясь, что обиженные могут встретить ее и отомстить.
Правда, свидетелем этого сам я не был, и за достоверность всех деталей той драки, понятное дело, ручаться не могу. Но в том, что сокурсница не только великолепно скакала на лошади, но и была асом в рукопашной, убедился лично.
Был среди нас один ухарь, здоровенный, под два метра брюнет, считавший себя суперменом и одновременно неотразимым мачо, приставаний которого жаждут все женщины на свете. Вот он как-то раз и попытался в шутку зажать Лизу. Но та вмиг сбила его с ног и заломала так, что наш чудо-богатырь заверещал, как баба!
Да, наша барышня не боялась никого. В том числе и мастера. Курылев любил поразносить своих учеников по делу и не по делу. Особенно грешил этим, когда выпьет. Частенько бывало: даст задание, а сам пойдет в соседнюю аудиторию к кому-нибудь из друзей-преподов. Возвращается оттуда под хорошими парами и начинает нас костерить!
– Ну и что это такое? – вопрошал Борислав Владимирович, окидывая мутным взглядом подопечных. – Это разве игра? Мало того, что вы халтурщики, так еще и бездари! Где были мои глаза, когда я брал тебя?! – обычно при этих словах он выбирал себе жертву и наставлял на нее палец, словно ствол пистолета. – Отчислю к… матери! Понял?!
Обычно тот, кому выпадало стать козлом отпущения, тут же бледнел и лихорадочно лепетал оправдания. Вылететь боялись все. Кроме Лизы.
Однажды под горячую и хмельную руку мастера попала и она. Обычно он не докапывался к ней зазря, но в тот вечер, выпив больше обычного, неосмотрительно избрал ее в качестве мальчика для битья. Точнее, девочки. И когда Борислав, брызгая слюной, закончил свой истеричный монолог привычным: «Отчислю на хрен!» – иза спокойно пожала плечами:
– Отчисляйте!
В аудитории резко воцарилась тишина. Все посмотрели на сокурсницу, как на самоубийцу, забравшегося на подоконник и уже занесшего ногу над бездной.
– Что-о-о?! – Курылев аж поперхнулся.
– Говорю, отчисляйте! Хотя нет, – Браже сделала выверенную паузу, а затем отчеканила: – Я сама уйду. А подобным тоном извольте говорить со своими подстилками! И остальной… – она внятно произнесла редкое, но крепкое ругательство. Затем подхватила сумку и зашагала к дверям, мимо застывших, словно статуи, сокурсников.
А следующим же утром явилась в деканат и подала заявление об отчислении. Об этом немедля проинформировали нашего мастера. Тот бросился к студентке чуть ли не с извинениями: мол, был неправ, погорячился, не пори горячку, Елизавета Батьковна… Но куда там! Та лишь презрительно фыркнула в ответ.
Весть об этом разлетелась по всему институту и за его пределы. Дошла она и до режиссера, который порекомендовал Браже и был на короткой ноге со вгиковским начальством. В конце концов Лиза все же сменила гнев на милость и забрала заявление. После того, как Курылев попросил у нее прощения сначала в присутствии первого проректора, а затем и перед всей нашей мастерской.
На какое-то время Борислав притих. И хоть и продолжил свои регулярные возлияния во время занятий, но не накидывался на нас с трехэтажной руганью и угрозами выгнать. Продержался наш наставник аж больше месяца, а затем все возвратилось на круги своя. Правда, и в самом крепком подпитии мастер не решался даже глядеть в сторону Лизы, но вот остальным доставалось порой больше, чем раньше. Очевидно, Курылев решил отыграться за других учениках за свои публичные извинения.
Первой жертвой после перерыва стал как раз тот самый мачо, которого при всех скрутила мадемуазель Браже. Когда мастер начал орать на него привычное: «Выгоню на…!», наш супермен в прямом смысле рухнул на колени перед наставником и начал слезно умолять смилостивиться. Мы выпали в осадок, а Лиза… Лиза смотрела на него с таким нескрываемым презрением! И я, наблюдая за ней в тот момент, с ужасом думал, что, не дай Бог, такого взгляда от сокурсницы когда-нибудь могу удостоиться и я… Нет! Никогда!
Да, я был влюблен в Лизу с первого же дня. И со временем это чувство не приутихло, а наоборот, стало превращаться в какую-то смесь обожания и преклонения. И не только как перед понравившейся девушкой, а словно перед каким-то суперсовершенным созданием, которое, ко всему прочему, являлось для меня своеобразным судьей и мерилом всему. Прежде чем сделать хоть что-то или сказать, я в первую очередь думал, как к этому отнесется возлюбленная. И даже когда ее не было рядом, все равно прикидывал: одобрит она или нет.
Лиза же держалась со мной ровно, доброжелательно. Однажды, когда мы с одним парнем из нашей курылевской мастерской затеяли шуточную схватку и я сумел бросить его через бедро, в глазах моей обоже загорелся живой интерес. После она подошла ко мне и спросила:
– Ты борьбой занимался? Какой? Где?
– Самбо. В Теплом Стане.
– Да ты что! А у кого?
Когда я назвал фамилию тренера, на ее лице явственно проступило выражение разочарования и сожаления.
– Знаю, рассказывали. Технику ставит добротно, но без выдумки.
– Это как?
– А так. Вот ты как только что бросок сделал? Считай, в чистой стойке. В реальной стычке или даже на ковре с более или менее подготовленным борцом у тебя бы ничего не вышло. Тут нужен не только подсед под противника.
– А что же еще?
– А то. Смотри! – очевидно, не желая рвать мне рубашку, однокурсница взяла меня за запястье, прихватила сзади джинсы в районе ремня, а затем вдруг резко присела – и в следующий миг я брякнулся на пол.
– А ты тоже, смотрю, занималась? Неужели самбо? – придя в себя, удивился я, ибо в то время женщины еще не начали осваивать этот вид борьбы.
– Дзюдо. Ну и рукопашкой.
– И ею тоже? А где?
В ту пору рукопашный бой, как и каратэ, все еще находились под запретом.
– Один знакомый из «Дзержинки» тренировал. «Краповик».
– Из той самой спецроты?
К тому времени в «Огоньке» уже вышла статья про роту специального назначения, где самым крутым бойцам после нечеловеческих, запредельных испытаний вручался краповый берет. Обладатели сего атрибута в ту пору казались мне какими-то сверхчеловеками, навроде киношного Терминатора.
– Да. Оттуда.
С той поры и начались наши странные и волнующие отношения, больше похожие на дружбу, нежели на хоть какую-то взаимную симпатию, которая бывает между парнем и девушкой. Точнее, с моей стороны, ясное дело, все было более чем: я влюбился по уши, если не с головой, а вот Лиза… Нет, она все чаще смотрела на меня с нежностью, но последняя была сродни той, что испытывает сестра к младшему брату.
Впрочем, встречаться и даже общаться нам было особо некогда. Занятия в институте начинались в девять утра, а заканчивались в одиннадцатом часу вечера. Причем шли они не пять, а все шесть дней в неделю. Не ездили мы во ВГИК только по воскресеньям. Но и в этот день не получалось даже отоспаться: столько нам задавали на дом за неделю. Ну разве что вставал я на седьмое утро чуть позже.
И все же я лихорадочно искал способ быть подольше с моей возлюбленной. Вначале по вечерам после занятий мы шли до «Ботанического Сада», а затем ехали на метро вместе до «Курской». Вначале я вознамерился провожать ее до дома, в Реутово, но моя мадемуазель сразу же пресекла это:
– Вот еще! А обратно ты на чем будешь добираться? На собаках, как чукча в тундре?
Порешили на том, что я сопровождаю ее до электрички, а затем еду домой. А она, как доберется, звонит мне и сообщает, что доехала благополучно.
Лиза была дочерью отставного подполковника Браже, в свое время закончившего саратовское училище внутренних войск, как и мой отец. И начинали они оба в конвое. Правда, ее батя, в отличие от моего, кормил комаров не в Коми, а под Красноярском. А после того как закончил академию с отличием, получил назначение в престижную «Дзержинку».
Лизавета, кстати, тоже родилась в полковой санчасти и до трех с половиной лет жила в таежном поселке рядом с зоной. И, как признавалась мне, жалела, что ей не довелось в сознательном возрасте испытать все прелести обитания в глухомани. Потому на каникулах и отправлялась туда в походы. Вот и в тот год летом она собиралась уехать на Урал, где служил офицером ее старший брат, и там устроить сплав на плотах по горной речке. Тогда-то я осторожно спросил:
– А можно мне с тобой?..
– Конечно! – кивнула она в ответ.
Однако попутешествовать вместе нам было не суждено. Судьба приготовила мне другое испытание.
Случилось это в конце февраля во время занятий по актерскому мастерству. Раздав нам задания, Курылев привычно отправился квасить и вернулся, как всегда, пьяный и злой. И с ходу докопался до меня. Я как раз, по его же указанию, отрабатывал перевоплощение в овчарку, которая потерялась на прогулке и теперь ищет хозяина по следу.
– Это что? Это собака?! – завопил Борислав. – Да ты полный даун …твою мать! Все, отчисляю тебя на…!
У меня похолодело внутри. Я уже хотел начать виниться или на худой конец смолчать, но неожиданно встретился глазами с Лизой… А дальше вдруг неожиданно для самого себя выпалил срывающимся от волнения голосом:
– Отчисляйте!
Сокурсники и мастер замерли, словно в немой сцене из «Ревизора». Лишь Лиза смотрела на меня спокойно, а ее губы тронула ободряющая улыбка.
Первым пришел в себя Борислав:
– Считай, что уже отчислен! – рявкнул он, а затем почти закричал, выпучив налитые кровью глаза: – Пошел вон!
По рядам студентов пробежал едва слышный ропот: так бывает, когда все одновременно начинают повторять какое-нибудь слово, например, число «шестьдесят девять». А я вдруг взглянул на все это со стороны, и мне стало гадко: с какой стати этот напыщенный индюк орет на меня, кроет на чем свет стоит, угрожает… Да и чем угрожает? Вытурить из института? Да пожалуйста! Можно подумать, жизнь на этом заканчивается!
С такими мыслями я подхватил сумку и вышел прочь. И, шествуя по улице, как бы наблюдал себя со стороны: гордого, волевого, готового из чувства собственного достоинства отказаться от главной мечты в жизни.
За спиной торопливо заскрипел снег.
– Как ты? – догнав, Лиза ухватила меня под локоть.
– Нормально. А ты-то зачем с занятий свалила? Влетит ведь.
– Не вникай, – отмахнулась она. – Сам, главное, не переживай. Ты все правильно сделал.
– Думаешь?
– А то! Не фиг человека смешивать с дерьмом, даже если он не так что-то изобразил! Пора этого индюка на место поставить. И не его одного! А то устроили у себя нечто вроде секты… Хотя почему вроде – секта и есть самая настоящая!
– В смысле?
– А то, что они сначала внушают студентам, что, дескать, они особенные, а весь остальной мир так, на минутку покурить вышел! А знаешь, как человек на подобное ведется? А потом начинает пуще смерти бояться выпасть из этого круга избранных. А дальше затягивает, как в болото. То, что Курылев вытворяет, это так, цветочки! Знаешь, на что молодежь идет, чтобы правдами и неправдами удержаться в институте? И потом, когда начинают сниматься?
– В курсе…
К тому времени я, разумеется, был наслышан, как ради ролей многие актрисы укладывались в постель к режиссерам и прочему киношному начальству. Даже поговорка такая была: «Путь на экран лежит через диван!»
– И не только девчонки, – сокурсница словно прочла мои мысли. – Парни тоже на все идут и ложатся… под мужиков! Причем ладно бы этих пацанов действительно тянуло к себе подобным, а то ведь самим противно, а идут на эту мерзость. Чтобы благорасположения начальства не потерять! Ладно, – она перевела дух и повторила: – Ты, главное, не переживай. Даже если отчислят, не вешай носа.
Всю дорогу она ободряла и обнадеживала меня. Домой я приехал, ощущая себя почти героем.
Однако утром мой задор спал. Так бывает, когда раздухаришься по пьяни, а как протрезвеешь, стыдно и страшно вспоминать вчерашнее.
В таком вот состоянии я и отправился в институт, лелея в душе надежду, что Курылев, протрезвев, отойдет и позабудет о своей угрозе и моем демарше. А когда на «Проспекте Мира» увидел поджидавшую меня Лизу, то как-то сразу пободрел и решил: «А, стопудово, все обойдется! Вон, Лизавета аж обматюкала Борислава, и ничего. Он не только ее не отчислил, но и, как миленький, прощения попросил!»
Однако моя светлость переоценила себя и свою значимость. Если возлюбленная к моменту поступления имела вес среди киношников, то я был в лучшем случае заготовкой, точнее, куском пластилина, из которого могла бы получиться какая-нибудь фигурка. И этот кусочек только-только начали разминать пальцы мастера, как он вдруг воспротивился и начал крошиться прямо в руках!
Разумеется, все это я понял многим позже, а пока входил в аудиторию с гордо поднятой головой в сопровождении Лизы, все мое естество ждало продолжения спектакля: «Повинный Курылев. Дубль два!» И, разумеется, ожидал, что сокурсники будут глядеть на меня по меньшей мере с уважением после вчерашнего.
Но реальность оказалась другой. Едва мы появились на занятиях, вокруг вмиг образовалось нечто вроде зоны отчуждения. Не только студенты из нашей актерской мастерской, но и все остальные отсели как можно дальше, как от прокаженных.
– Боятся запятнать себя порочащими связями с отщепенцами, – шепотом усмехнулась возлюбленная. – А то вдруг в немилость попадут и над ними тоже замаячит угроза изгнания! Ужас, правда? – она задорно подмигнула мне.
В момент произнесения этой фразы моя обоже в точности скопировала и голос, и интонации, и мимику нашего Мачо, притом в тот самый момент, когда он на коленях слезно умолял не отчислять его. Я не удержался и прыснул.
Веселье закончилось после первой же пары, когда меня разыскал старшекурсник из нашей мастерской, считавшийся у Курылева кем-то вроде старосты, и, не глядя в глаза, произнес:
– Мастер велел писать заявление об отчислении. Пока по-хорошему…
– А если по-плохому? – ответила за меня Лиза. И, заметив, как изменился в лице староста, презрительно бросила: – Да не дрейфь: сейчас же пойдем и напишем.
– А ты-то тут при чем? – вытаращился курылевский адъютант.
– А при том. Я его один раз уже простила. Но, видно, не помогло.
– Погоди-погоди… Тебя ведь он не выгоняет!
– Зато у меня нет никакого желания заниматься у этого… – Лиза четко произнесла крепкое, заковыристое словцо. А затем, подхватив меня под руку, развернулась, и мы отправились прямо в деканат, где на пару, как под копирку, написали заявления с просьбой отчислить по собственному желанию.
Реакция однокурсников была предсказуема. Они смотрели на нас, как на самоубийц, которые ко всему прочему решили совершить это жуткое действо прилюдно и с радостными улыбками на лицах. Особенно офигевал наш Мачо.
– Ты хоть понимаешь, что сам себе яму вырыл? – пытался втолковать он мне. – Даже не яму, а пропасть?
– А разве пропасти копают? – насмешливо встряла в разговор Лиза.
Но Мачо, казалось, не услышал подначки.
– Ты на нее не смотри, – он мотнул головой в сторону Браже. – Она уже с именем, за нее стопудово впрягутся. Или опять Борислава прилюдно заставят извиняться, или к другому мастеру переведут. А тебе точно ничего не светит. Ты, считай, приговор самому себе не только подписал, но и сам же исполнил.
– Хочешь сказать, что без ВГИКа жизни нет?
– Смейся, смейся! Как бы плакать не пришлось. Ты хоть в курсе, что как только твою фамилию в приказ внесут, деканат тут же сообщит военкоматчикам?
– И что дальше?
– Ты совсем дебил?! Тебя же в армию забреют!
– Ну и что?
Я прочно вошел в образ бывалого мужика, для которого сходить в солдаты – все равно что сбегать в магазин.
– Решил в супермена поиграть? – не унимался Мачо.
– Это как раз ты из себя подобного строишь, – вновь вмешалась в разговор Лиза. – А на деле… – она выдержала классическую паузу и продекламировала:
Время наше будет знаменито,
Тем, что сотворило смеха ради
Новый вариант гермафродита:
Плотью мужики, а духом – …
Вновь чуть выждала, а затем растянула губы в усмешке:
– Не надо оваций: сие не мое. Это Губермана стихи, если что.
Окинула прощальным взглядом однокурсников и, показательно взяв меня под руку, произнесла с нарочитой нежностью, точь-в-точь как любящая жена:
– Пойдем домой, Сережа.
Мы двинули прочь со вгиковского дворика, чувствуя, как провожают нас глазами теперь уже бывшие соученики. Никто из них не проронил ни слова. И лишь Мачо, опомнившись, крикнул мне вслед:
– Погоди, вот пошлют тебя на Кавказ голову под пули подставлять!..
И ведь оказался прав, стервец! И насчет того, куда занесет меня солдатская доля, и в отношении Лизы. Буквально на следующий день ее вызвали к ректору, где собралась вся свита, и буквально уговорили остаться. Кроме главного институтского начальства, в кабинете был и здешний авторитетный мастер, народный артист СССР. Он-то в конце концов и убедил девушку учиться дальше, пригласив из курылевской мастерской в свою.
А вот я оказался не у дел. Нет, моя обоже сделала для меня все, что обещала. Через неделю я уже трудился рабочим сцены в театре Реввоенсовета. И в армию попал, благодаря Лизе, не куда-нибудь, а во внутренние войска.
Еще когда я не получал повестки, бывшая сокурсница пообещала, что постарается помочь, чтобы меня определили в нормальное место, где нет кромешного неуставняка и прочих мерзостей. Поначалу думалось, что мне посчастливится попасть в «Дзержинку» – там же служил перед отставкой ее батя, Сергей Михайлович. Я даже уже размечтался, что останусь в Москве и буду приходить в увольнения домой, на матушкины пирожки…
Но оказалось, что меня решили отправить куда-то под Волгоград, где давний приятель подполковника Браже был заместителем командира недавно сформированной оперативной части. Создавали ее как раз для горячих точек. Об этом незадолго до моего ухода в армию мне сообщила Лиза.
Когда про то узнала моя маман, ей сделалось дурно. Если раньше она относилась к моей знакомой хоть чуточку благожелательно, то теперь объявила, что видеть ее не хочет. А кроме этого, попыталась в который раз напрячь деда, чтобы он если не отмазал меня от солдатчины, то хотя бы помог остаться поближе к Москве. Но генерал-полковник Юрасов отрубил в ответ: «Не хрен делать из парня маменькиного сынка! Пусть настоящую службу узнает!»
После этого матушка прорыдала все оставшиеся до призыва дни. Разумеется, никаких проводов у меня не было. Наша Стелла Николаевна не желала никого видеть, а в особенности мою Браже-обоже. Однажды, когда та позвонила мне, родительница спустила на нее всех собак, приказав забыть наш номер, меня, а также не приближаться к нашему дому даже на километр! Так что оставшиеся дни мы встречались тайком где-нибудь в городе или же у нее, в Никольской.
В ту последнюю ночь перед уходом из дома на два года я, естественно, не сомкнул глаз. Однако под утро меня все же сморило, и, скорее всего, служба моя началась бы с катастрофического опоздания на сборный пункт, но этому не дал свершиться дед. В половине седьмого утра он прикатил на своей служебной «Волге», забрал меня вместе с продолжающей всхлипывать матерью и отвез на Профсоюзную, к военкомату. Где уже ждали отец и Лиза.
Завидев ее, маман было встрепенулась и зашипела нечто вроде: «Пришла все-таки, мерзавка!» – но дед, как обычно, заставил дочь замолчать одним лишь взглядом. А у меня сразу же испарилась та тяжесть на душе, которая бывает перед тем, как отправляешься в неизвестность.
Те минуты, что мы пробыли у военкомата, пролетели мигом. Подкатил «Уазик»-«буханка», наш сопровождающий, худощавый желчный майор, дал команду садиться. Еще громче зарыдала мать. Сухо, солидно попрощался дед. Обнял батя.
А потом подошла Лиза. Шагнула, резко подалась ко мне, крепко обхватила за шею, прижалась и шепнула:
– С Богом! Я буду ждать…
13
Нэсс замолчал, смахнув выступившие слезы. Кот, встрепенувшись, привстал на задние лапы и, издав протяжный звук, начал тыкаться в лицо хозяину.
– Все, все, – тот поднял голову, улыбнувшись питомцу. – Это я так, расчувствовался. Ну честное слово, все в порядке!
Казалось, Серый позабыл о моем существовании. Он полностью переключился на своего Лоренцо, рассказывая ему про свою Браже-обоже и о том, как все два года службы он жил лишь надеждой на встречу с ней.
«Кажись, допился, – подумал я. – Называется, привет, белая горячка! Быстро он чего-то: мы еще и первую не осилили!»
Однако в этот же момент Вознесенский повернулся ко мне и глянул осмысленными и почти трезвыми глазами.
– Думаешь, у меня уже «белочка» началась? – произнес он, будто прочтя мои мысли. – Нет, Саныч, я в порядке. А что я с ним, – бывший приятель кивнул на кота, – как с человеком говорю, так он все понимает, веришь? Ну не все, конечно, но любит, когда с ним разговаривают. Даже обижается, когда молчишь, едрен-шмон!
– Верю-верю, – отозвался я. – Мои оба тоже любители пообщаться.
– Знаешь, мне кажется, что кошки поумнее собак будут. У нас в части жил такой котяра. Так он чуял, когда начальство идет, а когда свой брат-«срочник». В клубе, где обитал хвостатый, киномехаником служил парнишка, который, так сказать, опекал зверя. Так если кто-то из офицеров снаружи приближался, кошак начинал истошно мяукать. А когда солдаты – никак не реагировал. Сколько раз этот усатый-полосатый своего хозяина спасал, когда тот дрых у себя в кинобудке или с друзьями втихую распивал бутылочку!
– Да, клуб в армейке всегда был блатным местом, – согласился я. – Тебя тоже небось туда сватали? В какую-нибудь самодеятельность?
– Веришь, ни разу, – вздохнул Нэсс. – Тогда не до развлечений было. Особенно с этим долбаным Карабахом.
К тому времени я уже прослужил почти полгода и потихоньку привык к дурдому, именуемому армией. К побудкам ни свет ни заря, кроссам в полной выкладке до стрельбища, походам на чистку картошки, где мы впятером-всемером ошкуривали не один десяток кило. Хорошо еще, в части не было беспредела – тут Лиза не обманула. Нет, дедовщина, разумеется, была, но заключалась она в основном в том, что наши двадцатилетние «дедушки» не мыли полы, не ходили в наряды по кухне и не убирали территорию. Ну и следили за порядком вместе с сержантами. А если и мордовали кого-то, то за дело. Во всяком случае, я не припомню, чтобы эти без пяти минут дембеля заставляли стирать себе носки, требовали денег и тому подобное. Уж в нашей роте этого не было однозначно. Даром, что она существовала фактически без командира.
Если ты запамятовал, то призвался я весной девяносто первого, когда всеобщий бардак почти дошел до своей конечной точки. Тогда много кто из военных решил снять погоны и попытать счастья в качестве штатского. Из них был и наш ротный. Он постоянно гасился то в госпитале, то еще где-то, пытаясь досрочно дембельнуться по состоянию здоровья. Всем рулил замполит Салтыков – старлей, чем-то похожий на молодого Чака Норриса, только, разумеется, подстриженного и побритого. Правда, никаким каратистом он не был, но в резкости и неутомимости не уступал героям штатовского актера. Кстати сказать, похожая ситуация была и в нашем втором взводе: значившийся командиром хитроумный армянин, чью фамилию я давно позабыл, тоже подумывал свалить из войск и, как говорят в армии, забил на вверенный личный состав. Так что реально нас муштровал и воспитывал его заместитель. Да-да, он самый, Крутой. Именно так мы его звали между собой. И не только из-за фамилии: Крутилин был и по жизни реально крут.
Впервые я увидел его через месяц службы, когда после КМБ нас, восьмерых салаг, привел в роту старшина и отдельно представил меня здоровенному детине, похожему на былинного добра-молодца:
– Крутой, принимай земелю!
Здоровяк степенно кивнул, бросив на меня мимолетный оценивающий взгляд. А у меня потеплело на душе: попасть под начало к земляку-сержанту было верхом мечты.