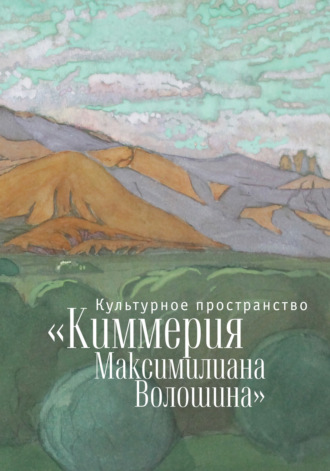
Коллектив авторов
Культурное пространство «Киммерия Максимилиана Волошина». Вып. 1
Одна из граней места памяти «Дом Поэта»: к взаимоотношению М. Волошина и М. Цветаевой
«Коктебель для всех, кто в нём жил – вторая родина, для многих – месторождение духа».
М. Цветаева. «История одного посвящения». 1913 г.
Коктебель – сгусток мифологии, тайнописи природы и истории, фантастических пейзажей, неограниченной свободы и душевных откровений для многих оказывался важной жизненной вехой. А для Марины Цветаевой стал судьбоносным.
Получив приглашение Волошина в Коктебель, 5 мая 1911 года Марина Ивановна впервые ступила на киммерийскую землю. До этой поездки Цветаева знала лишь южный Крым. В 1905 году с мамой и сестрой Анастасией, после трехлетнего лечения Марии Александровны в Европе, приехали они в Севастополь, а вскоре перебрались в Ялту, где в 1905–1906 годах жили на даче писателя, врача, а в это время и активного социалиста-революционера С. Я. Елпатьевского. Те же места посетила Марина и в 1909 году. А в марте 1911 прежде Коктебеля она отправилась в Гурзуф. И вот, теперь: «…после целого дня певучей арбы по дебрям восточного Крыма я впервые ступила на Коктебельскую землю, перед самым Максиным домом, из которого уже огромными прыжками, по белой внешней лестнице, несся мне навстречу – совершенно новый, неузнаваемый Макс. Макс легенды, а чаще сплетни (злостной!), Макс в кавычках «хитона», то есть попросту длинной полотняной рубашки, макс сандалий…Макс полынного веночка и цветной подпояски, Макс широченной улыбки гостеприимства, Макс – Коктебеля» (М. Цветаева «Живое о живом»). Вскоре в Коктебель прибыла и шестнадцатилетняя Анастасия и сразу попала в уже сложившуюся атмосферу мистификаций и дружеских розыгрышей, творческой энергии, волошинской щедрости души.
А в центре происходящего всегда была Марина. Здесь она научилась открытости и доверию, здесь поверила в себя – поэта, здесь нашла свою любовь и семью. Через десять лет, 27 февраля 1921 года она писала мужу: «… Ведь было же 5-ое мая 1911 г. – солнечный день – когда я впервые на скамейке у моря увидела Вас. Вы сидели рядом с Лилей, в белой рубашке. Я, взглянув, обмерла: «– Ну, можно ли быть таким прекрасным? Когда взглянешь на такого – стыдно ходить по земле!»…
– Серёженька, умру ли я завтра или до 70 л<ет> проживу – всё равно – я знаю, как знала уже тогда, в первую минуту: – Навек. – Никакого другого.
– Я столько людей перевидала, во стольких судьбах перегостила, – нет на земле второго Вас, это для меня роковое…».
Продираясь сквозь сложные и запутанные истории личных отношений и перипетий своей страны, Марина Ивановна всегда несла в сердце свет этих коктебельских дней и таинственную искру найденного Сережей на берегу сердолика. Как писала её дочь Ариадна Эфрон: «тот Крым она искала везде и всюду – всю жизнь…».
Именно в это лето образовался особый стиль взаимоотношений в Доме Поэта – когда серьезные разговоры о литературе, культуре, истории, обсуждения только что созданных произведений и само создание их, бесконечно перемежались розыгрышами, мистификациями, милыми шутками и юмором, сопровождавшимися маскарадными переодеваниями, шумными трапезами и закреплявшими за обитателями волошинского дома симпатичные прозвища. В общем, это было первое лето «обормотов» – к коим причислялись все обитатели, включая хозяев, которые, впрочем, были вдохновителями львиной доли нескучных событий. В мае этого года Волошиным был написан своего рода гимн этой весёлой компании и цикл шуточных сонетов о Коктебеле, как теперь принято говорить – основанных на реальных событиях. Рукопись сонетов хранится в Доме-музее М. А. Волошина.
Немного позже, из Усень-Ивановского завода, куда Марина Цветаева с Сережей Эфроном отправятся сразу же после Коктебеля – лечить его от туберкулеза, отголоски «обормотского» лета постоянно появляются в её письмах к Волошину:
«Дорогой Макс, Если бы ты знал, как я хорошо к тебе отношусь! Ты такой удивительно-милый, ласковый, осторожный, внимательный. Я так любовалась тобой на вечере в Старом Крыму, – твоим участием к Олимпиаде Никитичне, твоей вечной готовностью помогать людям. Не принимай все это за комплименты, – я вовсе не считаю тебя какой-нибудь ходячей добродетелью из общества взаимопомощи, – ты просто Макс, чудный, сказочный Медведюшка. Я тебе страшно благодарна за Коктебель, – pays de redemption36, как называет его Аделаида Казимировна, и вообще за все, что ты мне дал. Чем я тебе отплачу? Знай одно, Максинька: если тебе когда-нибудь понадобится соучастник в какой-нибудь мистификации, позови меня… Скажи Елене Оттобальдовне, что я очень, очень ее люблю, Сережа тоже». (26.07.11).
«Мы сейчас шли с Сережей по деревне и представили себе, к<а>к бы ты вышел нам навстречу из-за угла, в своем балахоне, с палкой в руках и начал бы меня бодать. А я бы сказала: – “Ма-акс! Ма-акс! Я не люблю, когда бодаются!” Теперь я ценю тебя целиком, даже твое боданье. Но т<а>к к<а>к это письмо слишком похоже на объяснение в любви, – прекращаю» (04.08.11).
«Спасибо за Гайдана, 4 pattes [4 лапы (фр.).] и затылок. А когда ты в меня мячиком попал, я тебе прощаю» (11.08.11).
А 30 августа в письме к Елене Оттобальдовне прорывается сокровенное: «Коктебель 1911 г. – счастливейший год моей жизни, никаким российским заревам не затмить того сияния».
Письма Волошина к участникам коктебельского сообщества тоже пестрят напоминаниями: «Привет обормотикам» (В. Эфрон от 15.09.11), «…вижу быстрое мелькание обормотов по твоей комнате: Маню с непривинченной головой, Бэлу с англо-фарфоровой улыбкой, Факира, … Марину с патлами (но увы! уже не собачьими), самственную Асю, кваканье ученого лягушенка» (Е. Эфрон, 18.09.11). «Сегодня получил [письмо] из Москвы от Копы. Она страдает по обормотчине, по Коктебелю» (В. Эфрон, 23.09.11).
Впрочем, сразу же после отъезда – 8 июля, ещё из Феодосии, Марина Цветаева написала Волошину: «Дорогой Макс, Ты такой трогательный, такой хороший, такой медведюшка, что я никогда не буду ничьей приемной дочерью, кроме твоей. <…> Это лето было лучшим из всех моих взрослых лет, и им я обязана тебе».
В этот же день они с Сережей пишут трогательное письмо Елене Оттобальдовне:
«Дорогая Пра, Хотя Вы не любите объяснения в любви, я всё-таки объяснюсь. Уезжая из Коктебеля, мне т<а>к хотелось сказать Вам что-н<и>б<удь> хорошее, но ничего не вышло.
Если бы у меня было какое-н<и>б<удь> большое горе, я непременно пришла бы к Вам.
Ваша шкатулочка будет со мной в вагоне и до моей смерти не сойдёт у меня с письменного стола.
Всего лучшего, крепко жму Вашу руку. Марина Цветаева
P.S. Исполните одну мою просьбу: вспоминайте меня, когда будете доить дельфиниху.
И меня тоже! Сергей Эфрон»
А ведь только в апреле Марина писала Волошину из Гурзуфа: «Виноваты книги и еще мое глубокое недоверие к настоящей, реальной жизни» (18.04.11).
В это лето Максимилиан Александрович успел познакомить сестер Цветаевых и семью Эфронов не только с Коктебелем и его окрестностями. Они вместе ездили в Старый Крым и Феодосию, побывав в гостях у многих друзей Волошина. Гораздо позже в своих «Воспоминаниях» Анастасия Цветаева описала их восприятие приморского города: «Когда мы увидели феодосийские улицы, Итальянскую улицу с арками по бокам, за которыми лавочки с восточными товарами, бусами, сладостями, когда сверкнул атлас, рекой разливающийся по прилавку, и его пересек солнечный луч, золотой воздушной чадрой протянулся под арку – и когда из-под арки вышли два мусульманина, унося плохо завернутый шелк, и брызнула нам в глаза синева с плывущими розами, – бороды черней ночи показались нам со страницы Шехерезады, ветер с моря полетел на нас из Стамбула! – и мы поняли – Марина и я, – что Феодосия – волшебный город и что мы полюбили его навсегда». Абсолютно схожее признание читаем в записной книжке Марины Ивановны: «Как чудно в Феодосии! Сколько солнца и зелени! Сколько праздника!» (датировано 11 мая 1914 года).
Не случайно, именно Волошина хочет видеть шафером на своей свадьбе Марина, о чем пишет ему 3 ноября:
«Дорогой Макс,
В январе я венчаюсь с Сережей, – приезжай. Ты будешь моим шафером. Твое присутствие совершенно необходимо. Слушай мою историю: если бы Дракконочка не сделалась зубным врачом, она бы не познакомилась с одной дамой, которая познакомила ее с папой; я бы не познакомилась с ней, не узнала бы Эллиса, через него не узнала бы Н<иленде>ра, не напечатала бы из-за него сборника, не познакомилась бы из-за сборника с тобой, не приехала бы в Коктебель, не встретилась бы с Сережей, – следовательно, не венчалась бы в январе 1912 г… Макс, ты должен приехать! … Пока до свидания, Максинька, пиши мне. Только не о “серьезности такого шага, юности, неопытности” и т. д.».
Несмотря на очевидную размолвку по поводу свадьбы, Марина не собирается терять столь дорогой её сердцу дружбы: «Вот Сережа и Марина, люби их вместе или по отдельности, только непременно люби и непременно обоих», – пишет она на посылаемой фотографии месяц спустя. И хотя Волошин на свадьбе не присутствовал, в феврале 1912 года они встречаются в Москве, где Цветаева дарит ему свою книгу «Волшебный фонарь», а Эфрон надписывает сборник рассказов «Детство»: «Максу Сережа. До свидания Макс! Москва 28 февр<аля> 12 г. Вечер перед отъездом». Интересно, что в библиотеке Дома Поэта имеется этот второй стихотворный сборник Марины Цветаевой, но – корректурный экземпляр, с её автографом: «По тщательному исправлению слов и знаков разрешаю печатать в количестве 500 экземпляров. Марина Цветаева». Хранится в личной библиотеке Волошина и первый поэтический сборник Марины Ивановны «Вечерний альбом», ставший причиной их знакомства и многолетней – всей жизни – дружбы. Именно от Волошина получила Цветаева всемерную поддержку, давшую ей уверенность в своем творчестве, которая ещё более окрепла в Коктебеле. Позже, уже всё зная о себе и многое – о других, Марина Ивановна резюмировала: «М.Волошину я обязана первым самосознанием себя как поэта…»37.
В декабре 1912 года Волошин снова приехал в Москву, а вскоре разгорелись события, о которых сообщали чуть ли не все газеты: «16 января, в 12 часу дня, в Третьяковской галерее, по Лаврушинскому переулку, имел место следующий небывалый случай: была изрезана известная картина Репина – «Убийство Иоанном Грозным своего сына». Безусловно, само событие было ошеломляющим и вызвало большой резонанс в культурном мире. Однако точка зрения Максимилиана Волошина на природу этого трагического события явно отличалась от возобладавшего негодующего мнения. Его статья «О смысле катастрофы, постигшей картину Репина», напечатанная буквально через три дня после происшествия в газете «Утро России»38, была явно замечена и в кругах художественной критики даже в чем-то одобрена. По крайней мере, как имеющая право на субъективную версию происшедшего. Но нелепое обвинение Репиным в причастности к акту вандализма бубнововалетцев, в частности, Бурлюка, заставили Волошина пойти на публичный диспут. Кто-то должен был все же размежевать теоретические изыскания нового искусства от репинского обвинения в том, что «может быть, здесь сказались начала новых теоретиков. Может, это первый сигнал у настоящему художественному погрому». Волошин «счел моральной обязанностью отвечать Репину под знаком «Бубнового валета», которым и был устроен публичный диспут в Политехническом музее в Москве 12 февраля 1913 года. Волошин читал лекцию «О художественной ценности пострадавшей картины Репина». В тот февральский день зал Политехнического института был полон слушателей. Присутствовала на этом диспуте и Марина Ивановна Цветаева.
Вскоре на Волошина обрушилась настоящая травля с оскорблениями, не прекращавшаяся, несмотря на ряд разъясняющих статей и лекций Максимилиана Александровича. Стремясь помочь другу в этой неравной по оружию схватке идей, она предложила напечатать материалы. Брошюра «О Репине» вышла в самом конце февраля или начале марта 1913 года в домашнем книгоиздательстве «Оле-Лукойе», созданном Мариной Цветаевой и Сергеем Эфроном за год до этого нашумевшего события, но это мало повлияло на сложившиеся обстоятельства. Выступление на диспуте оказалось важным событием, оказавшим воздействие на несколько лет жизни Волошина. Он упоминает о нем практически в каждой автобиографии: «В 1913 году моя публичная лекция о Репине вызывает против меня такую газетную травлю, что все редакции для меня закрываются, а книжные магазины объявляют бойкот моим книгам»39. 7 апреля он с мамой выезжает из Москвы в Крым.
А в конце апреля в благословенную Киммерию приезжают с маленькой Алей супруги Марина и Сережа, поселяются в усадьбе Кириенко-Волошиных и сразу же получают в подарок от Макса пейзаж, выполненный гуашью с надписью «Милой Марине в протянутую руку» (датирован 26 апреля 1913г.). По какой-то причине он остался в Коктебеле, хотя работы Волошина Марина Ивановна ценила и им радовалась. «Над моей постелью все твои картинки», – читаем мы в её письме к поэту от 3 ноября 1911 года.
В Коктебеле тринадцатого года утверждается уверенность Марины Цветаевой – жизненная и творческая, и подтверждается – нахлынувшей поэзией:
…Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.
В 30-е годы она скажет об этих строках: «Формула – наперед – всей моей писательской (и человеческой) судьбы».
В фондовой коллекции Дома-музея М. А. Волошина хранится несколько фотографий Марины Цветаевой тех лет. Многие из снимков сделаны Максимилианом Александровичем. Редчайший кадр – открыто улыбающаяся Марина, рядом – любимые – Сережа, Пра, Макс, собака Гайдан.
В сентябре, после смерти отца Ивана Владимировича, обе сестры Цветаевы решают на зиму переехать в Феодосию. В ноябре 1913 года М. А. Волошин писал Ю. Л. Оболенской: «В Феодосии поселились Марина и Серёжа. Устроились они на горе у дяди и тётки Рогозинского. Те их уплемяннили. Их точно под крыло курице вместо её яиц подложили. И об них там заботятся трогательно». Они растят Алю, которой очень гордятся, участвуют в культурной жизни Феодосии, частенько общаются с Волошиным: «Последние дни мы по утрам гуляем с Максом – Ася и я» (письмо к Л. и В. Эфрон из Феодосии от 28.02.1914), приезжают к нему в Коктебель. О встрече в Доме Поэта Нового 1914 года подробно написано в цветаевском эссе «Живое о живом». С 1 июня Марина Цветаева с Алей – в Коктебеле, а 12 июня 1914 года она написала в записной книжке: «… Сегодня мы с ней (Алей – Н. М.) и няней дошли до «Змеиного Грота». Шли мимо высоких песчаных гор, сначала мягкой, ровной дорогой, потом узенькой тропинкой, бегущей то вниз, то вверх. Море – буйное, вдали – зеленое, у берега – грязное – катило к берегу громадные пенистые волны. У рыбацкой хижины мы сели в лодку, наклоненную к самой воде. Аля сидела на самом конце и бросала в воду камни. Волны с грохотом разбивались о нашу лодку. Казалось – мы плыли. Аля сидела в одной рубашечке. В Змеиный грот нельзя было войти, мы спустились в крошечную, ни откуда не видную бухточку. Алюшка сидела на камнях, мы с няней в море. Волны швыряли нас с невероятной силой. Это было чудное купанье. Интересно – что сказали бы какие-н<и>б<удь> очень мирные люди, глядя к<а>к мы карабкаемся с Алей по крутым, местами опасным тропинкам?! Мать в шароварах, тонкая, к<а>к девочка – дочка в рубашечке – синее небо – грохот моря – высокие жёлтые горы. Это могло быть 100, 200, 300 лет назад! Ни турецкие узоры на шароварах, ни Алина рубашечка не выдавали ХХ века! Прелестная и незабвенная прогулка! Алина первая большая – около 8-ми вёрст!.. Море этого дня – 12-го июня! – шуми вечно! Вечно стой у этого моря рыбацкий баркас! Тонкая, лёгкая я в голубых шароварах, не старься! Не старьтесь и Вы, загорелая, круглолицая, большеглазая няня! Но, Алюшка, – расти!».
Не то – молитва, не то – заклинание…
Так же чувствует коктебельскую ауру и Сергей Эфрон. В 1915 году попав в Коктебель после того, как он с весны медбратом нес службу на фронтовом санитарном поезде, он ощутил эту непреходящую магию: «Коктебель прекрасен! Он мне дал всё, что я от него хотел. Только здесь я почувствовал со всею силою, что именно он мне был необходим». Несмотря на то, что в 1915 и 1916 годах Волошин отсутствовал в своем доме – он находился в Европе, Коктебель по-прежнему продолжал восхищать и дарить целительную радость семье Цветаевых-Эфрон.
Последний раз судьба забросила Марину Цветаеву и Сергея Эфрона в Коктебель в ноябре 1917 года. Радость встречи с Максом и Пра, ощущение родственности, безмерного стремления помочь… Как за осколок счастливых лет пыталась зацепиться Марина за киммерийский берег – чтобы выжить. Она сняла в Феодосии квартиру – зимовать, и помчалась за детьми в революционную Москву, которая – увы! – уже не отпустила её. Марине оставалась только надежда на встречу и долгое ожидание. Она никогда не вернулась в Крым, но соприкасалась с ним через Сережу и Асю, через редкую переписку с хозяевами и гостями Дома Поэта. Как не вспомнить её строки из письма далекого лета 1911 года к Елизавете Эфрон: «Когда начинается тоска по Коктебелю, роемся в узле с камешками». Наверное, не раз вспоминала Марина Ивановна об этих камешках, воплощающих чудесное время жизни, – и в жуткой голодной Москве, и в заграничных скитаниях.
О смерти М. А. Волошина М. И. Цветаева узнала в Кламаре, куда переехала весной 1932 г. из другого пригорода Парижа – Медона. Почти сразу взялась за воспоминания: « … о поэте М. Волошине, моем и всех нас большом и давнем друге… Писала, как всегда, одна против всех, к счастью, на этот раз только против всей эмигрантской прессы, не могшей простить М. Волошину его отсутствия ненависти к Советской России».40
Впервые текст «Живое о живом» был напечатан в «Современных записках», 1933, №№ 52, 53 в сильно урезанном редактором виде, что вызвало протест М. Цветаевой. В 1932 году Цветаева написала и поэтический цикл, посвященный памяти Волошина: «Ici – haut»41, опубликованный лишь через два года. В нем она словно вновь путешествует по коктебельским окрестностям, поднимается по лестницам Дома Поэта и дает удивительный портрет Максимилиана Волошина – личности соизмеримой планете.
* * *
В Доме Поэта десятки лет бережно берегли память о Марине Цветаевой. Сегодня это, быть может, единственное место, где на тех же полках стоят книги, которые она читала в Коктебеле, на своих местах мебель и разные предметы, которыми она пользовалась. Удивительно, но и в Феодосии сохранились дома по адресам, где жили Цветаевы, сохранились различные предметы и мебель с дачи Редлихов, где в 1913–1914 годах жила счастливая семья – Марина, Сережа и Аля. Эти реалии и коктебельские экспонаты стали основой фондовой коллекции феодосийского Музея Марины и Анастасии Цветаевых – отдела Дома-музея М. А. Волошина, который гостеприимно распахнул свои двери посетителям в июле 2009 года.
В Коктебеле в ноябре 1988 года в последний раз поднялась по лестнице в Мастерскую Дома Поэта Анастасия Цветаева – спустя почти полстолетия после гибели Марины Цветаевой здесь снимал о ней фильм режиссёр Дмитрий Демин. В обстановке, так знакомой ей с начала ХХ столетия, Анастасия Ивановна рассказывала о своей сестре и вспоминала прошлое их жизни в Коктебеле. В 2004 году был снят фильм «Страсти по Марине» знаменитого киноцикла «Легенды Серебряного века» сценариста Одельши Агишева и режиссера Андрея Осипова – лауреатов многих международных кинофестивалей и обладателей кинопремий. Их творческий кинематографический союз принес много прекрасных часов и эмоций для зрителей, а в 2015 году они стали лауреатами Международной Волошинской Премии. В 2013 году в Коктебеле режиссер Марина Мигунова сняла первый историко-биографический игровой фильм о Марине Цветаевой «Зеркала».
Так место памяти отечественной истории и культуры «Коктебель» продолжает блистать своими гранями в отражениях наших талантливых современников – поэзии и прозе, графике и живописи, документально-публицистическом и игровом кино, в любом проявлении творчества, так ценимом в удивительном и легендарном Доме Поэта.
Наталия Мирошниченко
Из наследия Максимилиана Волошина
Максимилиан Волошин о себе
Автобиография42
Сейчас (1925 год) мне идет 49-й год. Я доживаю седьмое семилетье жизни, которая правильно располагается по этим циклам:
1-ое СЕМИЛЕТИЕ: ДЕТСТВО (1877–1884)
Кириенко-Волошины – казаки из Запорожья. По материнской линии – немцы, обрусевшие с XVIII века.
Родился в Киеве 16 мая 1877 года, в Духов день.
Ранние впечатления: Таганрог, Севастополь. Последний – в развалинах после осады, с Пиранезиевыми43 деревьями из разбитых домов, с опрокинутыми тамбурами дорических колонн Петропавловского собора.
С 4-х лет – Москва из фона «Боярыни Морозовой». Жили на Новой Слободе у Подвисков, там, где она в те годы и писалась Суриковым в соседнем доме.
Первое впечатление русской истории, подслушанное из разговоров старших, – «1-ое марта».
Любил декламировать, еще не умея читать. («Коробейников», «Полтавский бой», «Ветку Палестины»). Для этого всегда становился на стул: чувство эстрады.
С 5 лет – самостоятельное чтение книг в пределах материнской библиотеки. Уже с этой поры постоянными спутниками становятся: Пушкин, Лермонтов и Некрасов, Гоголь и Достоевский, и немногим позже – Байрон («Дон-Жуан») и Эдгар По. Опьяняюсь стихами.
2-ое СЕМИЛЕТИЕ: ОТРОЧЕСТВО (1884–1891)
Обстановка: окраины Москвы – мастерские Брестской жел[езной] до р[оги], Ваганьково и Ходынка. Позже – Звенигородский уезд: от Воробьевых гор и Кунцева до Голицына и Саввинского монастыря.
Начало учения: кроме обычных грамматик, заучиванье латинских стихов, лекции по истории религии, сочинения на сложные не по возрасту литературные темы. Этой разнообразной культурной подготовкой я обязан своеобразному учителю – тогда студенту Н. В. Туркину.
Общество: книги, взрослые, домашние звери. Сверстников мало. Конец отрочества отравлен гимназией. 1-й класс – Поливановская, потом, до V-го, – Казенная 1-ая. Учусь из рук вон плохо. […]
3-е СЕМИЛЕТИЕ: ЮНОСТЬ (1891 – 1898)
Тоска и отвращение ко всему, что в гимназии и от гимназии. Мечтаю о юге и молюсь о том, чтобы стать поэтом. То и другое кажется немыслимым. Но вскоре начинаю писать скверные стихи, и судьба неожиданно приводит меня в Коктебель на всю жизнь (1893).
Феодосийская гимназия. Провинциальный городок, жизнь вне родительского дома сильно облегчают гимназический кошмар. Стихи мои нравятся, и я получаю первую прививку литературной «славы», оказавшуюся впоследствии полезной во всех отношениях: возникает неуважение к ней и требовательность к себе. Историческая насыщенность Киммерии и строгий пейзаж Коктебеля воспитывают дух и мысль.
В 1897 году я кончаю гимназию и поступаю на юридический факультет в Москве. Ни гимназии, ни университету я не обязан ни единым знанием, ни единой мыслью. 10 драгоценнейших лет, начисто вычеркнутых из жизни.
4-е СЕМИЛЕТИЕ: ГОДЫ СТРАНСТВИЙ (1898–1905)
Уже через год я был исключен из университета за студенческие беспорядки и выслан в Феодосию. Высылки и поездки за границу чередуются и завершаются ссылкой в Ташкент в 1900 году. Перед этим я уже успел побывать в Париже и Берлине, в Италии и Греции, путешествуя на гроши пешком, ночуя в ночлежных домах.
1900 год, стык двух столетий, был годом моего духовного рождения. Я провел его с караванами в пустыне. Здесь настигли меня Ницше и «Три разговора» Вл [адимира] Соловьева. Они дали мне возможность взглянуть на всю Европейскую культуру ретроспективно – с высоты Азийских плоскогорий и произвести переоценку культурных ценностей.
Отсюда пути ведут меня на запад – в Париж, на много лет,– учиться: художественной форме – у Франции, чувству красок – у Парижа, логике – у готических соборов, средневековой латыни – у Гастона Париса, строю мысли – у Бергсона, скептицизму – у Анатоля Франса, прозе – у Флобера, стиху – у Готье и Эредиа… В эти годы – я только впитывающая губка, я – весь глаза, весь уши. Странствую по странам, музеям, библиотекам:
Рим, Испания, Балеары, Корсика, Сардиния, Андорра… Лувр, Прадо, Ватикан, Уффици… Национальная библиотека. Кроме техники слова, овладеваю техникой кисти и карандаша.
В 1900 году первая моя критическая статья печатается в «Русской мысли». В 1903 году встречаюсь с русскими поэтами моего поколения: старшими – Бальмонтом, Вяч. Ивановым, Брюсовым, Балтрушайтисом – и со сверстниками –Белым, Блоком.
5-е СЕМИЛЕТИЕ: БЛУЖДАНИЯ (1905–1912)
Этапы блуждания духа: буддизм, католичество, магия, масонство, оккультизм, теософия, Р. Штейнер. Период больших личных переживаний романтического и мистического характера.
К 9-му Января 1905 года судьба привела меня в Петербург и дала почувствовать все грядущие перспективы Русской Революции. Но я не остался в России, и первая Революция прошла мимо меня. За ее событиями я прозревал уже смуту наших дней («Ангел мщенья») и ждал её.
Я пишу в эти годы статьи о живописи и литературе. Из Парижа в русские журналы и газеты (в «Весы», в «Золотое руно», в «Русь», в «Аполлон»). После 1907 года литературная деятельность меня постепенно перетягивает сперва в Петербург, а с 1910 года – в Москву.
В 1910 году выходит моя первая книга стихов.
Более долгое пребывание в России подготавливает разрыв с журнальным миром, который был для меня выносим пока я жил вдали в Париже.
6-е СЕМИЛЕТИЕ: ВОЙНА (1912–1919)
В 1913 году моя публичная лекция о Репине вызывает против меня такую газетную травлю, что все редакции для меня закрываются, а книжные магазины объявляют бойкот моим книгам.
Годы перед войной я провожу в Коктебельском затворе, что дает мне возможность сосредоточиться на живописи и заставить себя снова переучиться с самых азов, согласно более зрелому пониманию искусства.
Война застает меня в Базеле, куда приезжаю работать при постройке Гётеанума. Эта работа, высокая и дружная, бок о бок с представителями всех враждующих наций, в нескольких километрах от поля первых битв Европейской войны, была прекрасной и трудной школой человеческого и внеполитического отношения к войне.
В 1915 году я пишу в Париже свою книгу стихов о войне «Anno Mundi Ardentis». В 1916 году возвращаюсь в Россию через Англию и Норвегию.
Февраль 1917 года застает меня в Москве и большого энтузиазма во мне не порождает, так как я все время чувствую интеллигентскую ложь, прикрывающую подлинные реальности Революции.
Редакции периодических изданий, вновь приоткрывшиеся для меня во время войны, захлопываются снова перед моими статьями о Революции, которые я имею наивность предлагать, забыв, что там, где начинается свобода печати, – свобода мысли кончается.
Вернувшись весною 1917 года в Крым, я уже более не покидаю его: ни от кого не спасаюсь, никуда не эмигрирую – и все волны гражданской войны и смены правительств проходят над моей головой.
Стих остается для меня единственной возможностью выражения мыслей о совершающемся. Но в 17-ом году я не смог написать ни одного стихотворения: дар речи мне возвращается только после Октября, и в 1918 году я заканчиваю книгу о Революции «Демоны глухонемые» и поэму «Протопоп Аввакум».
7-е СЕМИЛЕТИЕ: РЕВОЛЮЦИЯ (1919–1926)
Ни война, ни Революция не испугали меня и ни в чем не разочаровали: я их ожидал давно и в формах еще более жестоких. Напротив: я почувствовал себя очень приспособленным к условиям революционного бытия и действия.
Принципы коммунистической экономики как нельзя лучше отвечали моему отвращению к заработной плате и к купле-продаже. Проживя 15 лет на Западе, я с начала Революции никуда не хочу уезжать из России.
19-й год толкнул меня к общественной деятельности в единственной форме, возможной при моем отрицательном отношении ко всякой политике и ко всякой государственности, утвердившимся и крепко обосновавшимся за эти годы,– к борьбе с террором, независимо от его окраски.
Это ставит меня в эти годы (1919–1923) лицом к лицу со всеми ликами и личинами Русской усобицы и дает мне обширный и драгоценнейший революционный опыт.
Из самых глубоких кругов Преисподней – Террора и Голода я вынес свою веру в Человека (стихотв [орение] «Потомкам»). Эти же годы являются наиболее плодотворными в моей поэзии, как в смысле качества, так и количества написанного.
Но т[ак] к[ак] темой моей является Россия во всем ее историческом единстве, и т[ак] к[ак] дух партийности мне ненавистен, и т[ак] к[ак] всякую борьбу я не могу рассматривать иначе, как момент духовного единства борющихся врагов и их сотрудничества в едином деле,– то отсюда вытекают следующие особенности литературной судьбы моих последних стихотворений: мои отдельные стихи о революции, одинаково нравятся и красным, и белым. Я знаю, напр[имер], что стихотворение «Русская Революция» называлось лучшей характеристикой революции двумя идейными вождями противоположных лагерей (имена их умолчу). В 1919 году белые и красные, беря по очереди Одессу, свои прокламации к населению начинали одними и теми же словами моего стихотворения «Брестский мир». Эти явления – моя литературная гордость, так как они свидетельствуют, что в моменты высшего разлада России мне удавалось, говоря о самом спорном и современном, находить такие слова и такую перспективу, что ее принимали и те, и другие.
Поэтому же, собранные в книгу, эти стихи не пропускались ни правой, ни левой цензурой.
Поэтому же они распространяются по России в тысячах списков – вне моей воли и моего ведения. Мне говорили, что в Вост очную Сибирь они проникают не из России, а из Америки, через Китай и Японию.
Сам же я остаюсь все в том же положении писателя, стоящего вне литературы, как это было и до войны.
В 1923 году я закончил книгу «Неопалимая купина».
С 1922 года пишу книгу «Путями Каина» – переоценка материальной и социальной культуры.
В 1924 году написана поэма «Россия» (Петербургский период).
В эти же годы я много работал акварелью, принимая участие на выставках «Мира искусства» и «Жар-Цвет». Акварели мои приобретались Третьяковской галереей и многими провинциальными музеями.
Согласно моему принципу, что корень всех социальных зол лежит в институте заработной платы, – все, что я произвожу, я раздаю безвозмездно.
Свой дом я превратил в приют для писателей и художников, а в литературе и в живописи это выходит само собой, потому что все равно никто не платит и все используют мои картины и стихи.
БИБЛИОГРАФИЯ
В настоящую минуту в продаже нет ни одной моей книги.
Вот в каком порядке мои стихи должны бы были быть изданы:
Две книги Лирики:
ГОДЫ СТРАНСТВИЯ (1900–1910).
SELVA OSCURA* (1910–1914).
Книга о войне и Революции:
НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА (1914–1924).
ПУТЯМИ КАИНА. (1922-?)
[…]
Из французских поэтов мною переводились: Анри де Ренье, Верхарн, Вилье де Лиль Адан («Аксель»), Поль Клодель («Отдых седьмого дня», ода «Музы»), Поль де Сен-Виктор («Боги и люди»).


