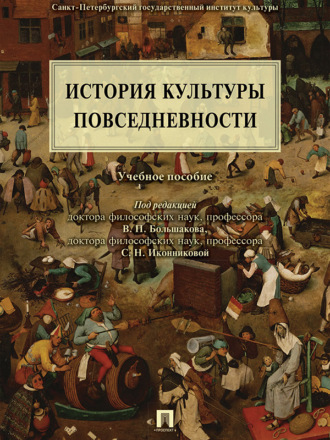
Коллектив авторов
История культуры повседневности. Учебное пособие

ebooks@prospekt.org
Информация о книге
УДК 86.373
ББК 71.05
И89
Коллектив авторов:
В. П. Большаков, доктор философских наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ – предисловие, главы 1, 2, разделы 6.1, 6.2 главы 6, глава 8 (в соавторстве с Е. Б. Гладких), главы 11–13, раздел 14.1 главы 14, раздел 14.2 главы 14 (в соавторстве с Т. Ф. Ляпкиной), главы, 16–19, заключение, словарь, общая библиография, примерные вопросы для контроля знаний;
Е. Б. Гладких, старший преподаватель – глава 8 (в соавторстве с В. П. Большаковым);
Т. Ф. Ляпкина, доктор культурологии, профессор – главы 3, 5, раздел 14.2 главы 14 (в соавторстве с В. П. Большаковым);
С. Т. Махлина, доктор философских наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ – раздел 6.3 главы 6;
И. К. Москвина, кандидат философских наук, доцент – разделы 15.2, 15.3 главы 15;
Л. Ф. Новицкая, кандидат философских наук, доцент – глава 4;
О. В. Прокуденкова, кандидат культурологии, доцент – раздел 6.5 главы 6, глава 9, раздел 15.1 главы 15;
Л. О. Свиридова, кандидат культурологии, доцент – раздел 15.4 главы 15;
А. Ю. Cиницын, кандидат исторических наук, доцент – глава 7;
Г. В. Скотникова, доктор культурологии, профессор – глава 10 (в соавторстве со студенткой 5 курса факультета мировой культуры А. М. Яковлевой);
С. Х. Шомахмадов, кандидат исторических наук, доцент – раздел 6.4 главы 6;
А. М. Яковлева, студентка 5 курса факультета мировой культуры – глава 10 (в соавторстве с Г. В. Скотниковой).
Под редакцией доктора философских наук, профессора В. П. Большакова, доктора философских наук, профессора С. Н. Иконниковой.
В данном учебном пособии изложены современные представления о культуре повседневности в ее историческом развитии: от первобытности до ХХ века включительно. Достаточно подробно описаны особенности повседневной жизни человеческих сообществ (обыденных верований, пространств повседневности, жилищ, гигиены, семейной жизни, быта и досуга, питания, одежды и т. д.) в разных частях света, регионах, странах, социальных слоях, в разные исторические периоды.
Учебное пособие полностью соответствует Государственному образовательному стандарту и предназначено для студентов, обучающихся по дисциплинам «История культуры повседневности», «История повседневности», «Культура повседневности Европы», «Культура повседневности России», «Культура повседневности Востока» и целому ряду других по направлению «Культурология» (квалификации «бакалавр», «магистр»), и для преподавателей культурологических дисциплин. Написанное ярко и доходчиво, оно будет интересно также историкам, искусствоведам и всем тем, кого привлекают проблемы исторического развития культуры.
УДК 86.373
ББК 71.05
© Коллектив авторов, 2015
© ООО «Проспект», 2015
Предисловие
В данном учебном пособии авторы освещают почти всю историю культуры повседневности, некоторые разделы более, некоторые менее подробны. В первых главах книги уточнены современные представления о повседневности, о культуре вообще и культуре повседневности в частности. Рассмотрены также особенности изучения повседневности в историческом краеведении и микроистории.
В книге показано, что в каждый исторический период в каждом из регионов культура своеобразно реализуется в человеческой повседневности. И своеобразие определяется рядом факторов, воздействующих на вроде бы обыденную жизнедеятельность. Географические, климатические условия пребывания людей, цивилизационные достижения, продвинутость хозяйства, социально-политические процессы – все это заметно влияет на характер повседневного существования.
При характеристике собственно культуры повседневности уделяется внимание ценности телесного и духовного в разных сообществах, состоянию обыденных верований и нравов, гигиены, особенностям семейной жизни, отношениям мужчин и женщин, культуре детства. Описываются особенности быта и досуга в развивающихся пространствах повседневности, своеобразие поселений, жилищ, интерьеров, вещей обихода, развлечений.
Отмечается также развитие культуры еды, застолья и изменения в отношении к внешности, касающиеся одежды, причесок, макияжа. Более чем в других аналогичных пособиях, уделено внимания эстетической и художественной составляющей культуры повседневности.
Авторы сознают, что охват реалий повседневности в истории человечества в данном случае не полон. Так, особенности временных явлений (суточные ритмы, календарь, возраст жизни, значение света, цвета, ароматов) в культуре повседневности затрагиваются в текстах некоторых глав вскользь и специально не рассмотрены. Но то что получило отражение в этой книге, создает основу, стержень для более полного изучения всей, чрезвычайно обширной проблематики исторического развития повседневности, становления и развития культуры повседневной жизни, повседневного общения людей.
Глава 1
Повседневность как объект и предмет изучения
Прежде чем излагать историю повседневности, следует уточнить содержание, смыслы понятий «повседневность» и «культура повседневности». Достаточно четкое представление о том, что такое повседневность, дал, например, В. Д. Лелеко. Он отметил, что человек живет повседневной жизнью с момента своего появления на Земле. Но осознал это, заинтересовался и сделал предметом наблюдения, размышления и изучения не так давно, около полутораста лет тому назад1.
Повседневность становится предметом интереса ученых со второй половины XIX в. Первыми результатами такого интереса были работы отечественных и зарубежных историков о быте, нравах и обычаях народов России и стран Европы от античности до начала XIX в. (напр., книга «Быт русского народа» А. Терещенко (СПб., 1848. Ч. I–V) или П. Гиро «Частная и общественная жизнь греков» (СПб., 1913)). Ученые описывали устройство мест обитания человека: как поселений, так и жилищ; обращали внимание на организацию быта, традиции телесных и духовных практик, обеспечивающих ежедневные потребности в «крыше над головой», пище и питье, телесной и духовной гигиене, общении и психологической поддержке и т. п. Предметом специального интереса были также этапные события в жизни человека, семьи и общества, оформленные как обряды перехода: рождение, достижение совершеннолетия, создание семьи, смерть. Кроме того, речь шла о семье и внутрисемейных отношениях; о досуге: играх, развлечениях, зрелищах; о праздниках.
С 1920-х гг. в науке не без влияния относительно новых, появившихся в XIX столетии, человековедческих наук, таких как социология и социальная психология, начинается второй этап научного изучения повседневной жизни. Он отмечен поворотом от внешних форм проявления повседневности к ее внутренним интеллектуально-духовным регуляторам (исследование голландского историка Й. Хёйзинги «Осень средневековья» (1919; пер. на рус. М., 1988), работы представителей французской школы «Анналов» (М. Блок «Короли-чудотворцы», 1924; пер. на рус. М., 1993), Л. Февра «Бои за историю», рус. пер. М., 1991). Появляется новый научный термин – ментальность. Он обозначает внутренний, духовный план жизни, прежде всего – универсальные, присущие всем людям определенной культуры и исторической эпохи бессознательные установки и механизмы психики, привычные автоматизмы, стереотипы сознания и поведения. В рамках Новой исторической науки формируется история повседневности как одно из исследовательских направлений. Оно получает широкое распространение в Европе и России со второй половины ХХ в. и продолжает быть в числе приоритетных научных направлений до настоящего времени.
Традиционно история была макроисторией, историей эпохальных событий, большой политики, выдающихся государственных и культурных деятелей. Рядовой человек с его частной жизнью и повседневными заботами просто проваливался сквозь крупные ячейки сети макроистории, не существовал для нее. Он возникал лишь как участник массовых народных движений: бунтов, восстаний, революций, войн и т. п. История повседневности обратилась к «маленькому» человеку, его заботам и проблемам, к быту, частной жизни; семье как первичной ячейке общества. Так рождаются микроистория, история частной жизни, история семьи – комплекс востребованных до настоящего времени научных направлений. При этом в орбиту научного интереса начинает включаться и частная жизнь, повседневность не только «простых людей», но и представителей средних социальных слоев, и элиты.
Современные ученые показывают связь повседневности как микроисторического уровня жизни с макроисторией, их взаимодействие; описывают и анализируют не только реалии быта, но и ментальные структуры, идеалы, стереотипы сознания, ценностные ориентации; раскрывают культурные смыслы бытовых вещей, одежды, форм и формул поведения.
Эти и другие ракурсы повседневности исследуются в социологии повседневности, семиотике повседневности, эстетике повседневности. Обобщает и подытоживает весь комплекс сведений о повседневности, ракурсов ее видения и методов ее исследования культурология повседневности. По мнению В. Д. Лелеко, повседневность – это то, что регулярно повторяется в жизни человека и человеческих сообществ изо дня в день. Но при этом часто смешиваются повседневность и культура повседневности. Говоря о культуре повседневности, нередко описывают повседневную жизнь. Это так, если под культурой понимается «все, что создано человеком и человечеством». Но ни вся человеческая жизнь, ни вся повседневность не являются культурой. Для того чтобы определиться с понятием «культура повседневности», следует определиться со смыслом понятия «культура». В современных научных представлениях при нарастающем количестве дефиниций укрепились несколько основных вариантов ответов на вопрос, что такое культура. Особенность того или иного ответа определяется каждый раз тем, какая из сторон сложного, многогранного явления, называемого культурой, представляется важнейшей.
При антропологическом (от «антропос» – человек) понимании, культура – все то, что не природа, все человеческое, искусственное; все, что создано и создается человеком и человечеством. При деятельностном подходе (разновидность антропологического) обращают внимание на то, что культура – это способы и результаты человеческой деятельности. Социологи нередко трактуют культуру как совокупность идей, норм, принципов, социальных институтов, обеспечивающих коллективную жизнедеятельность людей.
Для понимания существа и особенностей культуры в ХХ в. очень важным оказалось развитие семиотики на основе философии и лингвистики. С семиотических позиций культура – это совокупность знаковых систем. При этом знак понимается как «чувственно воспринимаемый предмет (явление, действие), который выступает как представитель другого предмета, свойства или отношения»2. Культура порой трактуется и как совокупность не знаков вообще, а прежде всего знаков-символов, особых условных многозначных знаков. Так, немецкий философ Э. Кассирер все формы культуры рассматривал как иерархию «символических форм».
При аксиологическом (ценностном) понимании культура – это совокупность ценностей, ценностных смыслов. Естественно, в ХХ в. развивалось и понимание выраженности смысла культуры, ее сущности прежде всего в ее духовности. Это характерно, например, для немецких (А. Швейцер, П. Тиллих) и русских (Н. К Рерих, Н. А. Бердяев, Д. С. Лихачев) мыслителей. В каждом из этих и некоторых других пониманий культуры отражена какая-то из ее граней.
Учитывая разные понимания культуры, развитые зарубежными и отечественными мыслителями в качестве дополняющих друг друга, возможно подойти к ее целостной современной трактовке. При этом надо отметить следующее. Культура не природна. Она сущностно духовна и представляет собой духовный опыт человека, человеческих сообществ, человечества. Содержание такого опыта составляют ценностные смыслы вещей, явлений, процессов.
В то же время, любые ценностные смыслы опредмечены, овеществлены, выражены в знаках и знаковых системах, носителях смыслов. И, будучи выражены в них, передаются, транслируются от одних поколений, одних культурных систем к другим. Основываясь на этом, можно сформулировать примерное определение культуры, синтезирующее современные научные представления о ней.
Культура – это особый позитивный духовный опыт человеческих сообществ, накапливаемый и передаваемый от поколения к поколению, содержанием которого являются ценностные смыслы вещей, форм, норм и идеалов, отношений и действий, чувств, намерений, мыслей, выраженные в специфических знаках и знаковых системах (языках культуры). Тогда культура повседневности – это духовный опыт, сохраняемый и реализуемый в повседневной жизни. Культурный человек – это человек, в значительной мере освоивший духовное богатство родной и мировой культуры, реализующий в жизни, в том числе и повседневной, ценности, нормы, идеалы, формы отношений и поведения, характерные для культуры, настроенный на уважение к ценностям других культур, владеющий знаковыми системами выражения духовных смыслов, способностью к творчеству в сфере культуры.
Такую трактовку культуры, культурности и культуры повседневности стоит уточнить еще в одном существенном отношении. В этой трактовке снято представление о позитивном значении культуры. Гуманистическое содержание в понимании культуры, развитое мыслителями XVIII–XIX вв. и отстаиваемое в XX в. А. Швейцером, Н. Рерихом, Н. Бердяевым, И. Ильиным, Д. Лихачевым, в наше время, к сожалению, стало утрачиваться. Как-то в тени остается сознание того, что культура, по выражению Н. Бердяева, «благородного происхождения»; что ценности культуры позитивны в плане очеловечивания человека и его жизнедеятельности; что, по мнению Э. Тайлора, культура одновременно содействует «развитию нравственности, силы и счастья человека».
Наши предки не называли культурой все что угодно, все подряд, что думает, чувствует, творит человек, включая подлое, пакостное, безобразное, непристойное. Просветители XVIII в. и ряд мыслителей XIX–XX вв. развивали гуманистическое понимание культуры, возрождение и утверждение которого актуально в наши дни.
Данное выше определение культуры в качестве духовного опыта человека и человечества возможно дополнить: культура – это обработка, оформление, одухотворение, облагораживание людьми окружающей среды и самих себя: человеческих отношений, деятельности, ее процессов, способов, результатов. Конечно, можно удерживать ценностно-нейтральное, объективистское понимание культуры. Ведь это мы насыщаем понятия определенными смыслами, которые могут быть различными в разное время, в разных исторических условиях, в зависимости от разных потребностей. Можно оставлять в содержании этого понятия только одно – это не природа. Но есть ли смысл вот в таком нейтралистском понимании культуры, которая, по мнению Д. С. Лихачева, есть «то, что в значительной мере оправдывает перед Богом существование народа и нации»?3 «Основная задача современной жизни: сочетать развитие техники с гуманизмом»4. По сути, речь идет о том, что культура, должна становиться основой цивилизации, ибо «цивилизация без души – ужас!»5. Не следует бояться, что мы таким образом сохраняем (не вносим, а сохраняем!) выстраданный человечеством смысл культуры как гуманистически ценного, того, что, согласно А. Швейцеру, содействует «духовному совершенствованию», а не деградации индивида. Сохранение такого смысла культуры и при ее изучении, и при культуротворческой деятельности, и в попытках воспитания культуры сегодня важно как никогда.
Термин «культура» используется еще и для обозначения общей характеристики состояния жизни общества того или иного региона (культура Востока), исторического периода (культура эпохи Возрождения), этноса (культура папуасов), страны (культура Франции). В таком случае чаще всего термин «культура» совпадает или почти совпадает по смыслу с термином «цивилизация». В других случаях соотношение понятий «культура» и «цивилизация» трактуется весьма разнообразно. Но именно то, что мы называем цивилизацией, скорее, представляет собой все, что не природа, все, что создано человеком и человечеством. «включая помойки и неприличные деяния»6, в том числе и все характерное для повседневной жизни людей, их повседневности.
Культуру и цивилизацию сегодня то отождествляют, то противопоставляют. Иногда в цивилизации видят момент развития культуры, ее возвышения или деградации. Некоторые современные исследователи придерживаются мнения, что культура возникла в период становления человека и человечества, а цивилизация появилась позже, когда возникли государства и города. Но постепенно укрепляется представление о цивилизации как о необходимой составляющей процесса порождения и развития человеческого общества. То, что мы называем цивилизацией, и то, что именуем культурой, появляется одновременно. Швейцарский ученый А. Боннар считал, что «цивидизация представляет совокупность изобретений и открытий, имеющих целью защитить человеческую жизнь, сделать ее менее зависимой от природы, укоренить ее в мире физическом путем познания его законов – губительных для человека невежественного на низших ступенях развития, но по мере их изучения становящихся орудием его наступления на этот мир»7.
Изобретения и открытия о которых писал Боннар, совершались уже в глубочайшей древности. Достаточно напомнить об открытии искусственного добывания огня, сооружении жилищ, развитии орудий труда, дистантного оружия (духовые трубки, лук и стрелы, бумеранг и др.). И все это стало возможным только при накоплении знаний. И все это было бы немыслимо, если бы отсутствовала духовная активность, не передавались от одних людей другим знания и навыки, не проявилось бы культурное значение веры. Технико-технологическая сторона жизни и духовный опыт были, конечно, нераздельны, пока не выделились особо религия, наука, искусство, мораль. И это выделение становится отчетливым в пору становления государств и городов. Вот тогда происходит обособление того, что мы называем сегодня цивилизацией, в отличие от того, что называется культурой.
Цивилизацию в настоящее время определяют как то, что обеспечивает «комфорт», удобство, предоставляемые в наше распоряжение наукой и техникой, политической и социальной организацией обществ8; или как особое состояние общества, характеризующееся высокой степенью упорядоченности социальной жизни на основах морали и права, значительного развития науки и техники, комфортности жизни, технологий деятельности и общения. Кроме того, термин «цивилизация» используется для обозначения межэтнической, культурно-исторической общности людей, основания и критерии для выделения которой, как правило, разнятся в зависимости от контекста и целей применения этого термина9. Например, западноевропейская цивилизация, древние цивилизации и т. д.
Цивилизация в любых ее трактовках теснейшим образом связана с культурой. В том числе и с культурой повседневности. Она создает возможности для бытия, развития, обогащения, сохранения, передачи духовного опыта. Достаточно напомнить о значении для всего этого изобретения бумаги, появления печатного станка, грамзаписи, кино, телевидения, компьютеров, транспортных средств, водопровода, канализации. Но, в отличие от культуры, цивилизация со всеми ее достижениями – ценностно нейтральна. И ее достижения могут использоваться как во благо, так и во вред человеку и человечеству, в том числе и для уничтожения ценностей культуры, распространения бескультурья. Это касается и средств массового уничтожения и возможностей повседневного оболванивания людей с помощью современных средств массовой коммуникации.
Однако не следует винить во всех наших бедах цивилизацию как таковую. Причина ее вредных для человечества воздействий в ее оторванности от культуры. В Декларации прав культуры, инициатором которой выступил Д. С. Лихачев, говорится: культура является духовной основой цивилизации, ее гуманистическим ориентиром, критерием ее самобытности и целостности, что разрозненный мир обретает единство в культуре10.Так должно быть для обеспечения нормального развития современного человечества. Но, к сожалению, пока что этого нет. Есть осознание необходимости этого. Гуманистические ориентиры развития цивилизации действуют только в отдельных моментах жизни человеческих сообществ. А там, где они не действуют, цивилизация нередко проявляет себя в качестве антикультуры, а ее достижения используются бесчеловечно. Прогресс цивилизации, как это ни печально, сам по себе не предполагает расцвета культуры, хотя создает возможности для ее обогащения. Цивилизация и культура не одинаково связаны с явлением, обозначаемым термином «прогресс».
Прогресс (от лат. рrogressus – поступательное движение) означает развитие людей и человечества в направлении к лучшему, высшему, более совершенному состоянию11. Представление о прогрессивном движении человечества начало укрепляться в Европе с эпохи Возрождения. Большинству европейских мыслителей в XVIII и XIX вв., включая Гегеля и Маркса, был свойствен исторический оптимизм: вера в прогресс, попытки обоснования законов общественного развития. Подтверждением этому служили успехи науки и техники, общее повышение комфортности жизни, в том числе повседневной, ее упорядоченности, частичная реализуемость стремления к свободе и равенству и многое другое, в том числе относительное смягчение нравов.
В XX в. развернулась научно-техническая революция, произошло резкое ускорение существенных изменений в производстве, быте и досуге людей, вообще во всех сферах жизни. И на первый взгляд казалось, что все это – изменения к лучшему. Во всяком случае, созидательные возможности человечества действительно выросли необычайно. Но довольно быстро люди стали замечать, что растут не только созидательные возможности человека и человечества, но и разрушительные, проявившие себя в мировых и локальных войнах XX столетия. Смягчение нравов обнаружило свою иллюзорность в этих войнах, в лагерях смерти диктаторских режимов. Жизнь многих людей, вовлеченных в пространства технизации и бюрократизации, стала комфортнее, но не счастливее. Достигнутые свободы (весьма ограниченные) привели к феномену одиночества в толпе.
Поэтому оценки реальностей общественного прогресса как поступательного движения человечества к лучшему состоянию сменились иными. Появилось мнение о враждебности прогресса человеку или о противоречивости следствий прогрессивных изменений. Причем речь шла не об общем прогрессе человечества, а о прогрессе в какой-то из сфер жизнедеятельности. Скажем, о научно-техническом, промышленном прогрессе.
Заметим далее, что, если цивилизацию трактуют как высшую стадию развития культуры или отождествляют с культурой, все вышесказанное относится к культуре. Если культура представляет собой все, что сделано и делается человеком и обществом, то прогрессивные изменения – это изменения культуры, которая тогда может быть и становится, если не в целом, то в каких-то моментах, враждебной человеку и человечеству.
Однако, как было показано ранее, вряд ли культура и вся жизнь общества – это одно и то же. Цивилизация и цивилизованность не тождественны культуре и культурности. А ускоренное прогрессивное движение в экономике, науке и технике, воздействующее на всю человеческую жизнь, в том числе и на культуру – это движение цивилизационное. Ускоренно прогрессирует то, что является цивилизацией, а не культурой. И степень цивилизованности жизни растет очень быстро. И прогресс цивилизации действительно противоречив по своим последствиям.
Прогрессивность же культуры вообще и отдельных культур далеко не очевидна. Что касается отдельных культур, то Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, Л. Гумилев давно показали, что их вряд ли возможно сравнивать по признакам большей или меньшей прогрессивности. В самом деле, в каком смысле культура современной Греции более прогрессивна, чем культура Древней Греции?
Тем не менее некоторый прогресс в культуре и культурах человечества можно усмотреть. Во-первых, на уровне осознания недопустимости, греховности определенных намерений и действий людей в отношениях с другими людьми (людоедство, насилие, убийство, обман и т. д.). Во-вторых, в утверждении, хотя бы на уровне сознания, но не только, некоторых принципов, духовных ценностей, например принципа «Не причиняй вреда живому», таких ценностей, как милосердие, благородство, любовь. И если скажут, что это нереализуемые в жизни ценности, то это неправда. Не всегда и не во всем, но они реализуются и уважаются. В-третьих, прогресс культуры состоит в развитии разнообразия культурных форм выражения мыслей и чувств, поведения, в накоплении результатов культурного творчества, скажем, шедевров искусства. В-четвертых, прогресс в сфере культуры связан и с прогрессом цивилизации, с развитием возможностей обогащения, сохранения и трансляции духовного опыта, норм с помощью современных технологий и техники. К сожалению, темпы и мощь изменений цивилизации гораздо выше, чем то же самое в собственно культуре.
Говоря о воздействии прогресса на культуру, надо понимать, что люди не становятся культурнее, когда условия их жизни оказываются более комфортными. Люди и их сообщества не становятся автоматически высоко культурными просто потому, что культура обогащается, растут возможности культурного развития.
Во все времена и сейчас острой и насущной является проблема воспитания культуры, которое осуществляется во многом в повседневности и значимо для нее, проблема передачи от поколения к поколению культуры как можно более высокого уровня. Но может ли быть культура выше или ниже? По-видимому, да. Все-таки, не отказывая ни одному человеку и ни одному сообществу в культурности, мы отличаем малокультурных людей от «аристократов духа», знаем о наличии малокультурных социальных групп. В современной культурологии есть представление о разных уровнях культуры и культурности и о цивилизованности людей в разной степени.
Высокая и не высокая культура (последняя, в общем-то, граничит с бескультурьем) проявляются очень ярко как раз в повседневной жизни, повседневном общении людей. Итак, культура повседневности – это реализация (воплощение) культуры, ее ценностей, ценностных смыслов в каждодневном бытии человека или сообщества людей.
Те или иные ценностные смыслы в каждую историческую эпоху, в каждой из культур воплощаются в определенных формах, способах деятельности, повседневных занятий и досуга. В истории повседневности основное внимание уделяется особенностям окультуривания и нарастания цивилизованности в обычной жизни людей разных исторических периодов, разных этносов и наций, разных социальных слоев. Поэтому история повседневности – это история культуры повседневности, прежде всего включающей и развитие цивилизованных форм человеческой жизнедеятельности.
В. Д. Лелеко пишет, что повседневная жизнь сфокусирована на удовлетворении жизненно необходимых телесных и духовных потребностей человека. И в первую очередь тех из них, которые являются универсальными, присущими всем людям во все времена. Они имеют императивный характер, их невозможно игнорировать без ущерба для полноценного существования, здоровья, да и самой жизни. Жизнь тела невозможна без еды и питья, воздуха и света, физической активности и отдыха, отправления естественных надобностей и удовлетворения сексуальных потребностей. Очевидно, что телесное и духовное в человеке нерасторжимо связано. Один из аспектов такой связи – то, что удовлетворение тех или иных физиологических потребностей погружено и в значительной степени до сих пор погружается в религиозно-мистический контекст и ситуацию группового общения. Скажем, еда и питье чаще всего – это не еда в одиночку, а коллективная трапеза, которая сопровождается обращениями к богу (богам) и угощением высших сил, дарующим людям хлеб насущный. Праздничная трапеза усиливает феномен группового общения, единения людей за столом, предполагает тосты, общий разговор и др.
Культура питания предполагает обработку, оформление добывания продуктов, способов их заготовки, хранения приготовления; развитие различных вариантов потребления пищи и напитков. Пища – высочайшая жизненная ценность, и, будучи таковой, она почти всегда выступает и как ценность культурная, освященная, одухотворенная.
По тому, как обеспечивают люди потребность в пище и питье можно судить о своеобразии их культуры. Прежде всего это набор, ассортимент продуктов. Каждая национальная кухня имеет свои продовольственные традиции и предпочтения. К тому же ежедневный и праздничный рацион питания богатых, бедных и средних слоев населения имели и в прошлом и в настоящем значительные различия.
Культура еды – это не только обеспечение продуктами питания, их приготовление, но и ритуал застолья. По тому, что происходит за столом, что и как едят участники трапезы, какими приборами пользуются, можно судить об особенностях культуры. Усложнение техники еды, постепенный распад «коллективного тела» средневековой культуры, телесное обособление едоков составляли важную, но не единственную сторону процесса цивилизации. Не менее значимым и показательным было ужесточение дисциплины поведения за столом. Европейские руководства по этикету XVI в., а также составленный в 1717 г. по повелению Петра Великого их российский аналог («Юности честное зерцало»), вводят ограничения и запреты на публичное обнаружение всяких телесных выделений и действий, выявляющих животную сторону человеческой природы (естественные отправления, плевание, чавканье, чихание, кашляние, сморкание, отрыгивание, зевота и т. д.). В норму поведения вводится также пользование салфеткой, носовым платком.
Процесс «оцивилизовывания» тела по новым стандартам продолжается и поныне. В последнее время в связи с изменением культурных норм запахов в практику повседневной жизни вошли запреты на запах изо рта от съеденного лука или чеснока, запах пота; широкое распространение получило использование дезодорантов и гигиенических прокладок. «Задраивание отверстий», табу на публичную демонстрацию «естественной жизни» тела – общая линия развития европейской культуры от эпохи Возрождения до современности. Как и прежде, некоторые исключения делаются для маленьких детей.
Культура повседневности в ее конкретности представляет собой совокупность реализуемых в жизни ценностных смыслов – телесности, еды, питья, вещей обихода, жилища, одежды, суточных и иных временных ритмов, ценностей общения, свободного времени (досуга) и т. д., выражаемых в знаковой форме, в знаках и знаковых системах, языках культуры. Очень важный аспект культуры повседневности и ее изучения – семиотический, семиотика культуры повседневности. С. Т. Махлина отмечает: в семиотику повседневности входит очень многое. Но особо выделяются те знаковые элементы, что связаны с домом и вещами, которые находятся внутри и вне его12.


