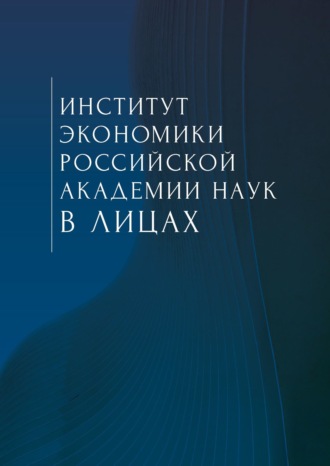
Коллектив авторов
Институт экономики Российской академии наук в лицах. Сборник
Последовательно держась методологии творческого марксизма, Варга, насколько мог, старался снимать чрезмерную классовую редукцию с конкретных характеристик капиталистических экономик. Так, еще в 1929 г. на сессии исполкома Коминтерна он подверг сомнению догму об абсолютном обнищании пролетариата. Оказалось – преждевременно! Но в середине 1930-х гг. в этом плане произошел позитивный сдвиг. VII конгресс Коминтера (1935 г.), в подготовке которого Е.С. Варга, лично близкий с Г. Димитровым, принял самое деятельное участие, сформулировал лозунг единого антифашистского фронта и в связи с этим убрал, наконец, абсурдный и крайне вредный для интересов социалистического и антивоенного движений тезис о социал-демократии как о «социал-фашизме». Это позволило Е.С. Варге в своем институте развернуть тематику защиты мира, разоружения, особенно в связи с намеченной Лигой Наций конференцией по разоружению, общественными акциями по обеспечению безопасности и противодействия актам агрессии. Позднее Варге досталось за одно из заключений по этой линии – об истощении германских ресурсов горючего для Вермахта (8). Прогноз объявили чуть ли не вредительским, а дело было просто в том, что Вермахт потерпел разгром до грозившего ему обострения бензинового голода.
В годы войны академик, помимо текущих дел по институту и журналу, интенсивно трудился над своим важнейшим фундаментальным произведением, призванным дать объективное отображение картины капиталистического мира и международных отношений. Новая работа Е.С. Варги, быстро ставшая событием в интеллектуальной жизни, вышла в свет летом 1946 г. Она носила хронологически ограничивающее название «Изменения в экономике капитализма в итоге Второй мировой войны» (10). В действительности в ней производился анализ капитализма за длительный срок, в ряде аспектов за всю послереволюционную эпоху. Содержались в ней и весьма смелые суждения о тенденциях будущего развития. В центре весьма стройной логической структуры стоял, как и следовало ожидать, вопрос государства и его роли – всего того, что обозначилось вскоре категорией «государственно-монополистического капитализма».
Отказ от примитивной формулы «государство-слуга монополий», последовательно проведенный в монографии, снимал барьеры развитию исследовательской мысли в самых различных сферах капиталистического общества. Е.С. Варга и сам показал образцы освобождающего действия более гибких интерпретаций и подал сигнал для новых методологических постановок другим исследователям. В результате имховские исследователи во главе со своим лидером плодотворно вышли на темы, ранее остававшиеся, во всяком случае для публичного раскрытия, табуизированными, и прежде всего на сюжет государственного регулирования капиталистической экономики.
В момент своей публикации первая послевоенная крупная работа Е.С. Варги вызвала раздражение кремлевских сфер. Развертывалась холодная война, и сталинский режим начинал нервно реагировать на любые объективные оценки действительной силы своего системного противника. Варга и его институт к тому же дали и другие поводы для недовольства: в закрытых записках, а иной раз и в публикациях, ими проводились крамольные идеи о необходимости повышения жизненного уровня, о конверсионно-демилитаризационной переориентации производства, а с этой целью и о желательности сокращения военных расходов, отказа от гонки вооружений (23. С. 142–147). Этого, наряду с целым рядом частных, ведомственных и личных моментов, было достаточно, чтобы сначала открыть против Варги и института кампанию критических разносов, а затем перейти и к оргвыводам. Осенью 1947 г. ИМХ был слит с Институтом экономики АН СССР.
Сегодня по истечении почти шести десятилетий после тех событий приходится удивляться не столько разгрому школы Варги, сколько тому, как мало преуспели ее закрыватели из числа административного начальства и академических догматиков. В противоположность прошлым чисткам кадры имховцев, а это самое важное, пострадали относительно незначительно. Так или иначе, большинство исследователей удалось спасти, укрыв их, помимо Института экономики АН СССР, на педагогических кафедрах, в просветительских звеньях, в журналистских и издательских корпорациях. Исследовательские программы, конечно, были свернуты, но и то не полностью. Получилось так, что ИМХ и его руководство продолжил творческую, и даже общественную, жизнь в традиционной для советской интеллигенции окукленной форме. И это была, в известной мере, победа, а не поражение.
Сам Е.С. Варга, зачисленный с осени 1947 г. в штат Института экономики АН СССР, встретил там в целом благожелательное к себе отношение. В течение двух первых лет он параллельно продолжал также руководить своим журналом (который закрыли в 1949 г.). Пришлось, правда, отдавать дань ритуальной самокритике, но ученый сумел и в этих условиях отстоять важнейшие из своих позиций. Особое внимание заслуживает его участие в проходившем в 1951–1952 гг., по указанию и при участии самого вождя, обсуждении в ЦК партии проекта учебника политэкономии. В одном из своих выступлений в «секции по вопросам капитализма», куда он был, несмотря на опалу, включен, Варга подверг сокрушительной критике идеологизированный тезис о непримиримости империалистических противоречий и в связи с этим о неизбежности внутриимпериалистических войн (24. С. 145).
Конечно, некоторое время пришлось уменьшить количество публикуемой продукции. Но и работа в стол не пропала даром. Можно даже сказать, что разгрузка от оргфункций дала дополнительный стимул к творчеству. Наблюдения и изыскания этих лет Варга суммировал в очередном труде по экономике и политике империализма, вышедшем в свет после смерти И.В. Сталина в 1953 г. и сразу же переведенном на многие иностранные языки. Правда, эта работа еще носила на себе отпечаток предшествующей избыточной «самокритики», но после ХХ съезда КПСС автор переиздал эту работу в очищенном от наиболее одиозных наслоений виде (1957 г.). За этой работой с интервалом в два года последовала развернутая характеристика экономики и политики капитализма середины века, сначала в виде статьи в органе тем временем открытого при его самом активном содействии Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), а затем отдельной книгой (1961). Вышедшие в год смерти академика его очерки по политэкономии капитализма (17) оказались в центре внимания всей шестидесятнической общественности, а не только специалистов-исследователей.
В числе выдвинутых и детально обоснованных автором в последних трудах положений – выводы о неизбежности дальнейшей сверхмонополизации капитала, углублении научно-технической революции, росте массовой безработицы, обострении мировых (вскоре их назовут глобальными) проблем, о модификации экономических кризисов, включая сокращение циклов и конкретной наполняемости их фаз. В политической плоскости центральным был данный в ряде вариантов вывод о возможности в условиях противостояния двух мировых систем предотвращения Третьей мировой войны.
Некоторые тезисы формулировались теперь автором намеренно провокативно, с приглашением к развертыванию творческих обсуждений. Так, для многих оказалось неожиданной резкая критика Е.С. Варгой кейнсианства, хотя академик и признавал за этой моделью хозяйственной политики способность смягчать при определенных условиях проблему занятости и уменьшать иные социальные издержки. По всей очевидности, Варга видел будущее в самом регулировании капиталистической экономики не столько за манипуляциями с учетной ставкой, сколько за прямым, хотя и неизбежно частичным в капиталистических условиях, государственным планированием. Еще более высоко он оценивал перспективы планирования для развивающихся стран. К сожалению, конкретизировать, развить и обобщить эти свои идеи ученый уже не успел.
Через 25 лет после смерти Е.С. Варги, случившейся в октябре 1964 г., журнал «Полис» опубликовал его предсмертные записки, которые он оставил близким с надписью на запечатанном конверте «Вскрыть через 25 лет». Оказалось, что в последние месяцы своей жизни, освободившись от издания работ по вопросам капитализма, ученый нашел время для наблюдений и над тогдашней советской действительностью. В целом она внушала ему глубокую тревогу. Варга хорошо понимал, что, несмотря на бравурные заявления Н.С. Хрущева, которого он, между прочим, не очень высоко ценил, дело идет к генеральному тупику всего реалсоциалистического эксперимента.
Варга последовательно подтверждал свои прежние негативные квалификации капитализма и империализма, указывал на необходимость решительной борьбы в мировом масштабе особенно против последнего. Ни малейших иллюзий в отношении капитализма как строя, и даже рыночных отношений, у него, в отличие от большой массы тогдашних советских интеллектуалов, не появилось. Тут уместно вспомнить, что основная его послевоенная книга «Основные вопросы экономики и политики империализма» с модификациями в других изданиях, жила в пору 1950–1960-х гг. несколько особой от автора жизнью. Если власти и догматики от науки осуждали ее за «ревизионизм», будто бы лишь прикрытый, как они находили, марксистскими оборотами, то часть общественности, тяготевшая к оппозиционности, ценила ее именно за встречавшиеся в ней позитивные оценки капитализма, в сущности также отметая как обязаловку авторский марксизм. Теперь выяснилось, что автор не кривил душой и не маскировался. Он подвергал безжалостной критике позднесоветскую модель именно за то, что она дискредитировала социализм как строй, как цель, как идеал. Главную причину коллапса советской системы Варга усматривал в бюрократизации и в разложении, в большой мере на вполне рыночной основе, советской партийной и государственной верхушки. В пору его предсмертного текста в характеристике буржуазного перерождения партийной бюрократии автор выходил на известный прогноз Л.Д. Троцкого, с которым теперь без обиняков и солидаризировался.
Как революционер Е.С. Варга склонялся к выводу о близком исчерпании советской моделью ее авангардного в мировом революционном процессе потенциала. В связи с этим он обращал свои взоры к Китаю, полагая, что центр мирового революционного процесса перемещается туда. Как исследователь капитализма и империализма Варга видел основную перспективную силу противодействия экспансии монополистического капитала, прежде всего американского, в первую очередь в социалистическом Китае. Это не значит, что он уже тогда полностью ставил крест на самом Советском Союзе, других социалистических странах, национально-освободительных и иных социальных движениях (в тексте ощутим косвенный учет набиравшего тогда силу левого движения на Западе). Но главные свои надежды Е.С. Варга все же связывал с поднимавшимся азиатским социалистическим колоссом. Отсюда у него некоторый, как сегодня сказали бы, евразийский налет в рассуждениях, подчеркивания важности учета ментальных и цивилизационных отличий Востока от Запада.
В целом Е.С. Варга и в предсмертных заметках не ставил последней точки. Очевидно, он еще надеялся по обыкновению вернуться к своим предварительным соображениям для их развития и конкретизации. Автор, писавший о своей предстоящей «смерти в печали», все-таки жил планами на будущее. Теплилась, конечно, и надежда на то, что, может быть, его мысли, предположения и предупреждения пригодятся новым поколениям социалистов и ученых. Этого не случилось через 25 лет. Представляется, однако, что близится более благоприятное время для обращения не только к выводам, научным достижениям, но и к сомнениям и исканиям Е.С. Варги.
2005 г.
ИСТОЧНИКИ
Основные работы Е.С. Варги
1. Мировое хозяйство (сборник статей). М.: РИО–ВСНХ, 1922.
2. Кризис мирового капиталистического хозяйства. М.: Госиздат, 1923.
3. План Дауэса и мировой кризис 1924 г. М.: Московский рабочий, 1925.
4. Новый этап в репарационном вопросе. М.: Изд-во Ком. Академии, 1929. [Совместно с В. Горфинкель и др.].
5. Между VI и VII конгресами Коминтерна. Экономика и политика. 1928–1934 гг. М: Партиздат, 1935.
6. Производительные силы бунтуют против капитализма. Плановое хозяйство у нас – «плановый» обман у них. М.: Партиздат, 1935.
7. Мировые экономические кризисы 1845–1935 гг. / Под ред. Е. Варги. Т. 1. Сравнительные материалы по истории кризисов в важнейших капиталистических странах. М.: Огиз, 1937.
8. Истощение хозяйственных ресурсов в Германии. М.: Воениздат, 1941.
9. Исторические корни особенностей германского империализма. Магадан: Советская Колыма, 1943.
10. Изменения в экономике капитализма в итоге Второй мировой войны. М.: Госполитиздат, 1946.
11. Демократия нового типа. Вологда: Северный путь, 1947.
12. Основные вопросы экономики и политики империализма (после второй мировой войны). М.: Госполитиздат, 1953.
13. Основные вопросы экономики и политики империализма (после Второй мировой войны). 2-е изд. М.: Госполитиздат, 1957.
14. Капитализм двадцатого века. М.: Госполитиздат, 1961.
15. Современный капитализм и экономические кризисы. Избранные труды. 2-е изд. М.: Изд-во АН СССР, 1965..
16. Ослабление позиций США как мировой державы // Новое время. 1964. № 8.
17. Очерки по проблемам политического капитализма. М.: Политиздат, 1964.
18. Начало общего кризиса капитализма. Избр. произведения. М.: Наука, 1974.
19. Экономические кризисы. Избр. произведения. М.: Наука. 1974.
20. Капитализм после Второй мировой войны. Избр. произведения. М.: Наука, 1974.
21. Вскрыть через 25 лет // Полис. 1991. № 2, 3.
Литература о Е.С. Варге
22. Аникин А.В. Евгений Самуилович (Ене) Варга // Аникин А.В. Люди науки. Встречи с выдающимися экономистами. М.: Дело Лтд, 1995. С. 45–50.
23. Творческое наследие Е.С. Варги. М.: ИМЭМО АН СССР, 1981.
24. Каплан В.И. Важнейшие события международной жизни и деятельности Института мирового хозяйства и мировой политики. М.: ИМЭМО РАН, 1991.
25. Певзнер Я.А. Жизнь и труды Е.С. Варги в свете современности // МЭиМО. 1989. № 10.
26. Певзнер Я.А., Истягин Л.Г. Академик Варга Е.С. // Академики-экономисты России. М.: ИЭ РАН. 1999. С. 90–113.
27. Истягин Л.Г. В тисках идеологии, под гнетом власти // МЭиМО. 1995. № 9.
28. Черкасов П.П. Портрет на фоне эпохи. М.: Изд-во «Весь мир». 2004.
29. Duda G. Jeno Varga und die Geschichte des Instituts fur Weltwirtschaft und Weltpolitik in Moskau. 1921–1970. Zu den Moglichkeiten und Grenzen wissenschaftlicher Ausladsanalyse in der Sowjetunion. Berlin: Akademie-Verlag, 1994.
М.И. Воейков д.э.н.
Т.Е. Кузнецова д.э.н.
Венжер Владимир Григорьевич (1899–1990)
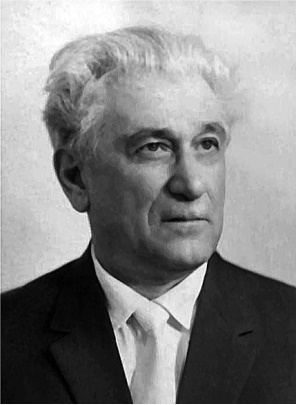
Владимир Григорьевич Венжер представляет одну из самых ярких фигур в истории советской экономической мысли, точнее, политической экономии социализма. Он был, пожалуй, самым крупным представителем социалистической мысли в аграрной экономической науке советского периода. Разных и хороших ученых-аграриев было достаточно, но только В. Венжеру удалось наиболее глубоко и последовательно отразить кооперативные, а следовательно, социалистические, в его понимании, потребности крестьянства. По сути дела его можно считать последним представителем весьма популярной в России в конце ХIХ и в начале ХХ в. теории кооперативного социализма. И удивительно, как он смог выжить все годы, разделяя близкую к эсеровской концепцию социализма. Правда, на него всегда смотрели как на диссидента советской экономической науки, иногда жестко критиковали, иногда давали возможность печатать свои научные труды.
Может быть, ему помогла его неугомонная натура и вполне революционная биография. Родился В.Г. Венжер 28 января 1899 года в Крыму, где и закончил гимназию. В 1916 году поступает на физико-математическое отделение Московского университета, в 1917 году – участник Октябрьской революции в Москве, в 1918 году вступает в РКП(б), затем Гражданская война. После демобилизации в 1921 г. из Красной Армии – на партийной работе (1921–1936 гг.). Одно время даже был секретарем семипалатенского обкома партии, но был снят с этой должности. Учился в Институте красной профессуры, по окончанию которого стал начальником политотдела МТС (1933–1934 гг.), затем – директором зернового совхоза (1936–1938 гг.). Но выгнали и оттуда. С 1939 года до самой своей смерти – научный сотрудник Института экономики АН СССР. Когда спрашивали В.Г. Венжера, как ему удавалось выживать все годы сталинщины, находясь на партийных и хозяйственных постах, он отвечал, что «всегда имел свое собственное мнение, которое фиксировалось в протоколах». Этот нонконформистский характер Венжера позволил ему не только прожить длительную жизнь в сложнейшее время, но и составить заметный вклад в аграрные проблемы политической экономии социализма.
В.Г. Венжер получил всесоюзную известность после письма И.В. Сталина в его адрес: «Ответ товарищам Саниной А.В. и Венжеру В.Г.», которое вошло составной частью в книгу И. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Это слишком хорошо известная книга, предопределившая на долгие десятилетия состояние экономической теории в нашей стране. Для того, чтобы было понятнее как в эту эпохальную книгу умудрился попасть В. Венжер и что было потом, следует несколько пояснить историю появления этой книги.
В 1951 г. ЦК партии (а значит, Сталин) затеяли экономическую дискуссию по проекту учебника политической экономии. В Кремле собрали ведущих ученых-экономистов, которые обсуждали разные, относящиеся к предмету, вопросы, а также писали разные записки и письма лично Сталину. Последний сидел в Сочи и изучал доставляемые ему каждый день самолетом материалы дискуссии. В целом было ощущение, что Сталин внимательно, хотя и таким своеобразным образом, следит за обсуждением. Причем указывалось, что можно писать Сталину «все что хочешь, и ничего не будет», как потом вспоминал сам В.Г. Венжер. Некоторые и постарались, например Л. Ярошенко, который написал такое, что его сразу же после дискуссии отправили в далекую ссылку.
В. Венжер поступил умнее. Они, вместе со своей женой и другом, доцентом МГУ А.В. Саниной, тщательно изучив работы И.В. Сталина, приводили в своем письме высказывания Сталина из его более ранних выступлений о необходимости продажи техники МТС колхозам. На что получили, наверно, самый благожелательный ответ от Сталина: «Я получил ваши письма, – пишет Сталин [было всего 6 писем]. Как видно, авторы этих писем глубоко и серьезно изучают проблемы экономики нашей страны»30. Но это не спасло ни Венжера, ни Санину от проработок после знаменитой научной дискуссии. А.В. Санина вынуждена была уйти из МГУ, а В.Г. Венжер избежал обычной для того времени участи чудом. Его «ошибки» хотели обсудить на партийном собрании Института экономики АН СССР, но Венжер болел, а потом умер и сам Сталин.
В. Венжер в своих письмах исходил из того, что если колхозы являются действительно кооперативными предприятиями, как официально тогда считалось, то они должны быть собственниками средств производства и результатов своего труда. Во всяком случае, колхозы должны сами решать, что им брать в аренду, а что приобретать в собственность, в том числе, конечно, и сельскохозяйственную технику.
Иначе на это дело смотрел И.В. Сталин. Он писал, что, «предлагая продажу МТС в собственность колхозам, тт. Санина и Венжер делают шаг назад в сторону отсталости и пытаются повернуть назад колесо истории», «основная ошибка тт. Саниной и Венжера состоит в том, что они не понимают роли и значения товарного обращения при социализме, не понимают, что товарное обращение несовместимо с перспективой перехода от социализма к коммунизму»31. Так Сталин не разрешил продавать технику колхозам.
Сегодня, конечно, этот спор кажется далеким и не очень существенным. Более того, в тех пределах, в которых тогда оказалась советская экономическая теория, он вообще не разрешим. Действительно, абстрактно-теоретически Сталин был прав, что с перспективой перехода к коммунизму товарное обращение должно было бы сужаться. В. Венжер же был прав практически. Во-первых, кооператив есть кооператив, и он сам должен решать свою хозяйственную судьбу, что покупать и что продавать. Во-вторых, полное владение сельскохозяйственной техникой колхозами или совхозами для тех экономических условий было практической необходимостью. Более того, можно даже сказать, что Венжер был более прав, ибо он имел в виду в первую очередь улучшение хозяйственной практики, а не чистоту теоретических догм. И. Сталин укладывал практику в короткое ложе догм. В.Г. Венжер же всецело исходил из потребностей практики и согласовывал ее с той теорией (теория кооперации), которая выдержала проверку в России на протяжении нескольких десятков лет. Тем более, что сегодня совершенно очевидно явное противоречие сталинской экономической теории классическим марксистским положениям социализма.
И с этой точки зрения следует рассматривать роль и значение не только В.Г. Венжера, но теоретические постановки и всех выдающихся деятелей общественной науки советского периода.
Как бы ни оценивать и ни относиться к советскому периоду нашей истории, но следует признать как непреложный факт существования в России с 1917 по 1991 г. особого социально-экономического строя, который можно называть советским строем, советской системой, советским типом экономической системы и т.д. Хотя эта система имела с социализмом в классическом его понимании некоторые внешние общие черты, и то лишь скорее фразеологические. Эта система имела и свою идеологию, и свою общественную науку, в том числе и политическую экономию социализма. В.Г. Венжер и являлся наиболее ярким представителем аграрной ветви этой науки.
Сегодня многие стараются забыть или перечеркнуть весь советский период, и в том числе советскую экономическую науку. Конечно, в этой науке было разное. Но, тем не менее, она пыталась решать и решала многие конкретные проблемы хозяйственного развития, позволила создать мощное государство с громадным экономическим потенциалом. Более того, многие политэкономические разработки были направлены на развитие общества в сторону все большего социализма, как тогда все это дело понимали. Все это можно объединить понятием политической экономии социализма.
Итак, признаем факт существования советской политической экономии социализма как непреложный. Даже несмотря на то, что, на наш взгляд, социализма в точном марксистском понимании у нас не было. Здесь могут нам возразить, что же это за наука того, чего, как вы сами считаете, не было.
Действительно, трудно представить науку, которая изучает то, чего нет в реальности. Но тут случай особый. Социалистическая мысль появилась задолго до того, как возникли какие-либо предпосылки социализма. Если оставить в стороне утопические сочинения, а взять период, начиная с марксистской разработки вопроса, то обнаружим, что имеется довольно обширная научная литература, где серьезно обсуждаются различные проблемы лучшего устройства будущего общества, то есть социализма. Значит, если самого социализма нет, то наука о нем уже существует много десятилетий и насчитывает многие сотни, если не тысячи, серьезных научных сочинений.
Более того, по многим представлениям, социализм не приходит в мир каким-либо стихийным образом, а сознательно вырабатывается обществом. Это вытекает прежде всего из классического марксизма и из работ почти всех других социалистических мыслителей. Поэтому в данном случае можно говорить, что социальная наука социализма (и политэкономия социализма в том числе) – это наука о том, что будет, а не о том, что есть. Именно в этом смысле создавал свою теорию «конструктивного социализма» лидер эсеровской партии Виктор Чернов. И надо отметить, что многие мысли В. Венжера были весьма близки к положениям В. Чернова.
Это достаточно важный момент, он характеризует сложившуюся методологию отечественной экономической науки, которая полностью сохранилась и до сегодняшнего дня. Суть дела состоит в том, что почти все серьезные экономические сочинения советского периода были написаны в нормативном плане, т. е. содержали некие предложения по улучшению тех или иных сторон экономической системы. Просто описательные работы, выполненные, как сейчас говорят, в дескриптивном методе, не считались достаточно научными. Таким образом, в случае социализма можно говорить об общественной науке того, что на сегодняшний день еще не имеется.
С этой точки зрения и следует анализировать вклад В.Г. Венжера в развитие политической экономии социализма, то есть вклад в науку о лучшем устройстве общества. Политическая экономия социализма в нашей стране выполняла несколько функций.
Одной из них была конструктивная функция, когда пытались усовершенствовать различные стороны и формы социалистического общества. Причем многие наиболее дальновидные или умные ученые полагали, что то общество, которое реально существовало в советский период, можно было называть социалистическим только условно, с оговорками. И мыслили себе настоящее социалистическое общество где-то в будущем. Конечно, об этом четко и откровенно нельзя было сказать, но намеков в соответствующей литературе было предостаточно. В последней своей книге (о которой мы подробно поговорим ниже), написанной в последний год жизни, В. Венжер писал более откровенно: «Наш социализм ни полным, ни даже развернутым пока что далеко не является. Раз так, то, следовательно, переходный период от капитализма к социализму все еще продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока это строительство не завершится в полной мере или во всяком случае не достигнет состояния всеобщего достатка»32.
В этом конструктивном направлении политической экономии социализма было много легче развернуться в теоретических построениях, высказывать различные взгляды, разворачивать дискуссии. Почти все основные дискуссии в советской экономической науке как раз охватываются этой функцией. Собственно говоря, эта функция и соответствует основному предназначению политической экономии социализма.
Другая функция политической экономии социализма – это создание общей теории социализма. Такие попытки были у многих исследователей, но результат их чрезвычайно ничтожный. Главная причина состоит опять же в том, что советскую практику многие исследователи принимали за практику социалистического общества и никак не могли ее непротиворечиво увязать с классическим марксизмом или с какой-либо другой общей социалистической теорией.
В этом отношении В. Венжер составлял исключение. Но перед ним стояла другая трудность. Он не был ортодоксальным приверженцем классического (в каутскианской его трактовке) марксизма, он почти всю свою жизнь развивал и отстаивал теорию кооперативного социализма. В той же последней книге он писал: «Полный социализм есть строй кооперативный»33. Но все это он не мог откровенно писать в советский период, приходилось маневрировать. То есть конкретные разработки по развитию колхозной кооперации он сделал почти в полной мере, что всегда вызывало оживленную дискуссию, и даже жесткую критику. Но вот общую теорию кооперативного социализма ему разработать не удалось, вернее, ему не позволили. Но даже то, что удалось сделать В. Венжеру, достойно изучения и переосмысления и сегодня.
Итак, В. Венжер был представителем кооперативного социализма, можно даже сказать, был теоретическим последователем лидера эсеровской партии Виктора Чернова. Хотя этот сюжет он нигде и никак не раскрывал. Но существо дела от этого не менялось. В. Чернов во многих своих работах отстаивал принцип социализации деревни через кооперацию, полагая, что в деревне социализм может утвердиться только как кооперативный. Правда, для города Чернов предполагал развитие синдикализма, который в союзе с деревенским кооперативизмом и создаст социалистическое общество. Венжер же принципы кооперации распространял на все общество, на все предприятия. «При наличии общественной формы собственности, – писал Венжер, – каждое отдельное предприятие лучше и надежнее всего превратить в предприятие кооперативное. В настоящее же время, поскольку по целому ряду объективного и субъективного характера причин наши промышленные предприятия являются государственными, превращать их в государственно-кооперативные следует путем сдачи по договору трудовым коллективам». «Самое главное и самое ответственное, – писал он о горбачевской перестройке, – это перевод, постепенный, но неукоснительно последовательный, всей и промышленной, и земледельческой деятельности на рельсы кооперативности… Конечная цель перестройки – перевод всей экономики страны на рельсы общественного самоуправления, следовательно, на рельсы всеобщей кооперативности»34.
Прав ли был В. Венжер? Действительно ли лучшее общество – это общество самоуправленческих кооперативов? При всей привлекательности именно такой схемы отметим, что пока еще общественная наука четкого ответа дать не может. Но развитие научных исследований в этом направлении было бы весьма полезным.
Таким образом, В. Венжер рассматривал кооперацию и кооперативные начала как общую форму социального прогресса, он выступал против отведения ей некой второстепенной роли, и то лишь на определенный срок. Непреходящее значение кооперации (и в этом ее универсальность) он видел в том, что она дает возможность вести хозяйство, не отделяя от собственности каждого, кто занят в этом хозяйстве. По мысли В. Венжера, кооперация разрешала противоречие между частным и общественным, не уничтожая одно из них, а гармонично интегрируя их воедино. Для земледелия такой синтез особенно важен.
Сегодня можно констатировать, что обычный марксистский подход, точнее, каутскианский, который вполне разделяли В.И. Ленин и другие большевики, что земледелие по мере развития капитализма превращается в фабрику и что здесь экономические и трудовые отношения ничем не будут отличаться от промышленности, не оправдался. До сих пор и, видимо, еще долго земледелие будет представлять особую отрасль производства с особыми хозяйственными и трудовыми отношениями. И единственный путь развития земледелия, а следовательно, социализации его – это кооперация. Вот это и доказывал В. Венжер всеми своими работами.
Он всегда оставался последовательным сторонником необходимости развития кооперации, не менял высоких оценок этой формы собственности и хозяйства в длительные периоды ее идеологической дискредитации и жесткого государственного давления. В своих работах В. Венжер доказывал, что к колхозам следует относиться как к предприятиям подлинно кооперативным, которые должны обладать реальными кооперативными чертами. Более того, ученый выступал против государственного диктата по отношению к внутреннему устройству колхозов и их внешним связям, будь то подмена рыночных контрактационных связей обязательными закупками, определение размеров и укрупнение колхозов, или прямое превращение их в государственные предприятия.


