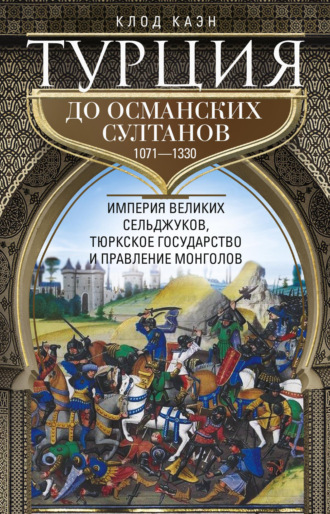
Клод Каэн
Турция до османских султанов. Империя великих сельджуков, тюркское государство и правление монголов. 1071–1330
В отношении XV века ситуация остается более-менее аналогичной, но в ней нет никакого эквивалента этим двум авторам. Для историографии это был период, когда каждая династия старалась поставить себя на первое место. Мы уже упоминали Шикари. Есть ценные труды о конфедерации туркменских племен Ак-Коюнлу, существовавшей в восточной части Малой Азии. Но главный интерес представляет османская историография. Она ценна и вместе с тем ненадежна, поскольку, даже сообщая множество фактов, она представляет их в выгодном для нее свете и принижает историю других княжеств, если только не описывает их подчинение или аннексию. Тем не менее для Малой Азии историография на других языках теряет свою значимость. Некоторые записки западных путешественников от Шильтбергера до бургундца Бертрандона де ла Брокьера содержат дополняющий или обобщающий материал.
По этой причине на данный момент, несмотря на особый интерес, который это могло бы представлять, чрезвычайно сложно написать историю переходного периода от сельджукско-монгольского государства к османскому государству в Малой Азии. Это можно сделать, только собрав сведения из самых разных источников, не имеющих отношения друг к другу, сведения, значимость которых можно увидеть только во взаимосвязи, установить которую особенно трудно из-за языкового различия. Это, конечно, не значит, что нужно отчаяться, скорее важно удержаться от преждевременных выводов и понять, что задача требует длительной работы. При таких обстоятельствах последние страницы данной части будут представлять собой не более чем заведомо краткий и даже в какой-то степени ориентировочный обзор, указывающий скорее на то, что еще нуждается в исследовании, чем на результаты, которых уже удалось достичь.
Глава 2
География Малой Азии
Конечно, здесь нет необходимости давать читателю подробное географическое описание Малой Азии, тем не менее будет полезно сделать несколько замечаний, которые могут способствовать более ясному пониманию условий, лежащих в основе событий, к которым мы обратимся.
Малая Азия, как мы ее понимаем в этой книге, в общих чертах соответствует территории современной Турции без Фракии (находящейся в Европе) и бассейна верхнего течения Тигра и представляет собой почти прямоугольник 1100 км с востока на запад и 400–500 км с севера на юг. Полуостров занят в основном Малоазиатским нагорьем, внутренняя часть которого, Анатолийское плоскогорье, обрамляется горными хребтами, тянущимися более или менее параллельно побережьям. На востоке плавно переходит в Армянское нагорье. К западу нагорье спускается к долинам, открывающимся к Эгейскому и Средиземному морям. Такое строение определяет климатические различия и затрудняет сообщение между побережьем и внутренним плоскогорьем, если не считать западной части. Северные хребты, на востоке более узкие и высокие, становятся ниже и шире на западе, где их разделяют длинные долины, связанные между собой реками, протекающими по поперечным ущельям и резко меняющими свое направление. Южные хребты, которые сильнее изрезаны и образуют более разнообразные формы, по большей части сухие, сложенные известняками. В западной части они обрамляют долины, протянувшиеся с севера на юг к Средиземному морю, в то время как в центре и на востоке они образуют высокие хребты, которые набирают высоту в направлении с юго-запада на северо-восток в сторону Армении, отделяя сужающееся внутреннее плоскогорье от бассейна среднего течения Евфрата и Сирийско-Месопотамского Плодородного полумесяца. На востоке находится Западная Армения, большую часть которой составляют две продольные высокогорные долины: по той, что протягивается севернее, протекает одна из двух образующих Евфрат рек – Карасу и река Аракс (которая течет на восток), а по той, что к югу, – вторая река, образующая при слиянии с Карасу Евфрат – Мурат (Мурад), а дальше находится озеро Ван. Долины разделены высокими горами, частично вулканического происхождения, самая высокая из которых – знаменитый Большой Арарат (высотой 5122 м). Восточную Армению, спускающуюся в сторону Азербайджана, мы здесь не рассматриваем. Западная часть плоскогорья (здесь оно шире) и составляет, собственно говоря, Анатолию. Оно отделяется от восточного плоскогорья высоким вулканическим массивом Эрджияс (3917 м), а на юге горами Тавр, к которым примыкает этот массив.
На северо-востоке горы, и в частности Понтийские, тянутся вдоль побережья Черного моря. Там выпадает большое количество осадков, благоприятствующих росту лесов. У восточной части Черного моря они отличаются особенной пышностью, а на больших высотах горы покрывают пастбища, похожие на альпийские. В более сухой внутренней части, где летние и зимние температуры резко различаются, ландшафт больше напоминает степь и потому хорошо подходит для кочевого скотоводства. Земледелие возможно в долинах рек, где можно орошать землю, и более всего в западных долинах. Как показывает изучение экономики государства Сельджукидов, социально-бытовые условия, от которых сильно зависели виды работ, необходимых для развития, в определенные периоды в конкретных регионах могли подвергаться масштабной трансформации.
В соответствии с географической структурой этой территории, основные природные и исторические пути были ориентированы в направлении запад—восток, в частности, один из них ведет от Аракса мимо верховий Евфрата и дальше по внутреннему краю гор вдоль верхнего течения Кызылирмака и, в конце концов, к проливам. В южном направлении у него есть двойник в виде более высокогорного пути, проходящего от озера Ван вдоль северного течения Евфрата и севернее хребтов Таврских гор (Центрального и Западного Тавра) до Анатолийского нагорья. Но там этот путь меняет направление, чтобы соединиться с другим, что объясняется не географией региона, а необходимостью соединить проливы и Сирию. Этот путь идет в направлении северо-запад – юго-восток через Анатолийское нагорье, частично по степным районам, затем через Таврские горы приходит в Киликию, где снова поднимается вверх на невысокий хребет Аманус (Нур) и еще раз спускается уже в Сирии. В определенные периоды, несмотря на все трудности передвижения в горной местности, к этим путям добавлялись другие, соединявшие или пересекавшие их, чтобы соединить какой-нибудь порт на Средиземном или Черном море с внутренними частями. Например, путь из Эрзурума в Трапезунд в восточной части Черного моря, или из Сиваса в Самсун, или дальше на запад в Синоп, или из Коньи и Анатолийского нагорья в Анталью на Средиземном море к северо-западу от Кипра.
Реконструкция истории и исторической топографии такого места, как Малая Азия, сталкивается с существенными трудностями из-за того, что большая часть названий мест менялась в зависимости от времени и языка доминирующих народов. Случается даже, что некоторые авторы, жившие в одно и то же время, но писавшие на разных языках и придерживавшиеся разных традиций, используют разные названия для одного и того же места. В этой книге мы не можем вести исчерпывающие обсуждения специфических частных вопросов, возникающих в такой ситуации, но обязаны пояснить, что такие вопросы существуют. В этом тексте там, где это необходимо, дается как византийское название, как правило относящееся к классическому периоду, так и турецкое название, которое можно найти на современных картах.
Глава 3
Малая Азия накануне прихода турок
Завоевание Малой Азии турками (туркменами) и ее превращение в страну Турция всегда представлялось европейцам, вне всякого сомнения, чем-то одновременно непонятным, неприемлемым и немного возмутительным. Но это ничем не хуже, чем создание Венгрии в Паннонии или славянских государств в Иллирии. Начнем с утверждения, что Малая Азия в середине XI века еще должна была оставаться, за исключением некоторых деталей, сильно урбанизированной, высокоразвитой и элинизированной Малой Азией римских времен. Даже для времен Античности это слишком большое упрощение. Географические условия никогда не допускали в Центральной и Восточной Анатолии такой же степени развития, как в провинциях, выходящих к Эгейскому морю. Однако, каким бы ни было положение на самом деле, войны против персов и арабов существенно изменили лицо этой земли. Поколениями огромные территории, в особенности по обеим сторонам Таврских гор и Каппадокии, страдали от вторжений, набегов, грабежей и разорения. По обе стороны существование ничейной земли временами считалось лучшей защитой от врага, не говоря уже о таких случаях, как истребление византийцами еретиков-павликиан в IX веке в Тефрике, Амаре и др. С другой стороны, когда предпринималась попытка заново населить определенные зоны, это всегда делалось за счет привозного населения, которым в случае византийцев часто становились славяне или болгары, безусловно обладавшие достаточно воинственным характером. Эти жители приграничья – у византийцев акриты, у мусульман гази, – хотя и боролись друг с другом, были похожи как в смысле физической, так и духовной изолированности от властей, которые практически не принимали участия в их действиях, и в результате они временами практически братались. Подтверждение этому можно найти в рыцарских поэмах и романах, где пересказываются подвиги обеих сторон. Достаточно вспомнить роман о Сейиде Баттал Гази, тем более что он представляет существенный интерес для истории Турции. Когда мало-помалу посягательства со стороны крупных землевладельцев уничтожили собственность мелких крестьян-воинов из среды этих приграничных жителей, они потеряли интерес к защите страны, а некоторые даже перешли на службу к противоборствующей стороне. В любом случае, что касается Византии, в XI веке они представляли собой не более чем отдельные отряды в окружении крупных землевладельцев, и в результате государство, не доверявшее им, предпочитало использовать наемные войска, полностью набранные из инородцев, не имевших никакого отношения к этой стране. На северо-востоке Малой Азии Византия всегда держала плацдарм в Армении, и армяне играли существенную роль в Византийской империи. В конце X и в начале XI века Византия постепенно аннексировала армянские княжества до самой границы с Азербайджаном и уничтожила мелкие мусульманские эмираты, созданные между ними и не подчинявшиеся им. Армения была заселена, насколько позволяло географическое положение, и, несмотря на внутренние распри, там процветал своего рода патриотизм. Когда аннексия была завершена, власти Византии предпочли заменить армянские пограничные войска на регулярную византийскую армию и переселить влиятельные армянские семьи вместе с их подданными во внутренние районы, чтобы заново заселить их. В результате армян можно было встретить в Каппадокии, Киликии, в различных провинциях на севере Сирии и на приграничных территориях Месопотамии, например в Эдессе. В определенном смысле преимущества очевидны. Однако помимо того, что эти армяне были разделены между собой, как это было у них на родине, они вносили элемент разъединения туда, где контактировали с другим, давно живущим в этих местах населением. Более того, различным христианским церквям на Востоке так никогда и не удалось примириться друг с другом, и те, которые имели адептов в мусульманских странах, в период раннего Средневековья оказались полностью свободны от какой-либо зависимости и опеки со стороны Византии. Когда Византия снова захватила территории, занятые армянами, яковитами и другими, православная церковь восстановила тактику притеснения других церквей. Дело доходило даже до заключения под стражу их духовных лидеров, в результате чего неприязнь к византийцам возрастала. Наконец, в византийской наемной армии тоже не было недостатка во внутренних раздорах, поскольку служившие там скандинавы, тюрки и норманны, степень христианизации и цивилизованности которых была самой различной, в любом случае были чужаками для этой страны. Все это ясно показывает, даже без необходимости вникать в детали, что, за исключением приморских провинций и некоторых других изолированных областей (в частности, Каппадокии), Малая Азия больше не была той, что раньше, и не имела возможности оказать твердое и единое сопротивление иноземной угрозе.
Техника ведения войны лишь усиливала эту слабость. Византийская армия действительно имела мощное вооружение, но именно по этой причине ей не хватало мобильности, чтобы иметь возможность мгновенно рвануться вперед, чтобы остановить набег или преследовать врага. У нее были крепости в тех местах, которые считались стратегическими точкам, однако между ними византийцы держали недостаточное количество наблюдательных пунктов. Точно так же недостаточными были резервы, остававшиеся в Константинополе на случай вторжения и глубокого проникновения вглубь территории. В определенном смысле византийская армия была беспомощна против врага, основную силу которого составляла чрезвычайно высокая мобильность, позволявшая ему спокойно проходить между крепостями. На самом деле византийская армия в какой-то степени уже сталкивалась с этой проблемой, имея дело с мусульманскими гази, но в Азии у нее не было опыта войны с захватчиками, обладавшими этим преимуществом в такой степени, как турки. Точно так же и в тактике ведения боя эффект от заранее просчитанного сокрушительного удара, который использовала византийская армия, полностью терялся перед лицом войска, находившегося в постоянном движении и использовавшего засады, притворное бегство и дождь стрел, летевших со всех сторон.
Глава 4
Первые набеги до 1071 года
Проникновение турок-сельджуков в Малую Азию делится на два совершенно разных периода: до Манцикерта[9] (1071 г.) и после Манцикерта. Первый, если оставить в стороне пограничные крепости, которые держали сами сельджукские султаны, представлял собой набеги, глубина проникновения которых постоянно увеличивалась, однако налетчики всегда возвращались на свои базы на востоке и не делали никаких попыток закрепиться, если не считать некоторые исключительные случаи, когда они оказывались окруженными византийской армией. После Манцикерта, не в силу какого-то изменения политики султанов, а просто потому, что вся сила византийской армии рассыпалась в прах, отряды налетчиков стали оставаться, и, хотя у них еще не было мысли жить там постоянно, сам факт их присутствия в Малой Азии постепенно менял характер этого присутствия.
Не будем забывать, что гази более раннего периода, в отличие от более поздних турок-сельджуков, не были отрядами, посланными султаном (если только речь не шла исключительно о приграничной зоне), фактически они были свободными людьми, и даже считались сельджукскими властями находящимися вне закона. Более того, иногда сельджуки посылали войска в погоню за ними, чтобы усмирить их. Для этих гази, некоторые из которых были беглыми мятежниками, Малая Азия являлась составной частью Римской империи – «страной Рум» – и определенно землей, откуда надо брать пленников и домашний скот, где человек может насладиться случайной возможностью убить неверных, а потом пасти их стада, а крестьян держать для получения выкупа. Но, кроме того, эта страна, несомненно, становилась местом, где можно было найти убежище, и, хотя вопрос обычно не стоял о том, чтобы подчиниться каким-либо византийским властям, они понимали, что находятся в «Руме» – территории или скорее сущности, такой же реальной и вечной, как империя ислама, которая теперь стала их врагом. Не стояло даже вопроса о том, чтобы покончить с ее существованием в принципе, или даже с существованием каких-то ее органов власти, что, строго говоря, применялось ко всем остальным, кроме турок (туркменов). Идея замены этого государства на какое-то другое новое была для гази абсолютно чужда.
Самые важные эпизоды тюркского проникновения в Малую Азию в период до Манцикерта уже были кратко описаны в части, посвященной истории Великих Сельджуков. Первый эпизод, предшествовавший им, произошел в 1029 году на армяно-византийской границе. Армянские историки описывают налетчиков как длинноволосых, а тактику их боя с использованием конных лучников, с чем прежде не сталкивались[10]. Описанию такой внешности часто приписывают более раннюю дату и связывают его со сдачей Византии царства Васпуракан его царем. Но более ранняя дата представляется невозможной, если отдавать себе отчет в том, что армянские авторы объясняют эту унизительную сдачу причиной, которая позже фактически привела к сдаче других царств. Но если принять во внимание агрессивность курдских князей из Северо-Западного Ирана, эта сдача достаточно ясно объясняется давлением со стороны византийского императора Василия II, который запланировал это намного раньше. Первая угроза со стороны турок-туркменов, давшая о себе знать после 1029 года, пришла в 1043 году на этот раз с юга из региона, где берет свое начало Тигр, и ее несли те самые туркмены, которые теперь бежали от наступления сельджуков и, в конце концов, были уничтожены. Однако одна из таких групп перешла границу Византии и захватила в плен византийского губернатора Ликуда.
Это случилось всего за несколько лет до того, как сельджуки – или, по крайней мере, туркмены, в той или иной степени направляемые сельджуками, – начали по-настоящему осаждать границы Византии. В это время Византия аннексировала армянское царство Ани, частично благодаря угрозе со стороны Абу-л-Асвара, курдского правителя из династии Шеддадидов, правившего в Гяндже и Двине, чья агрессивность могла возрасти после того, как он нанял к себе на службу некоторых туркменов. Набег, возглавляемый родственником султана, на этот раз начался из Азербайджана, но наступление, направленное к югу, было отбито византийскими генералами Ароном и Катаколоном в 1045 или 1046 году. Но в 1048 году более крупные силы под предводительством молочного брата Тогрул-бека Ибрагима Инала двинулись прямо на запад, следуя пути классического нашествия вдоль Аракса и северной образующей Евфрат реки – Карасу. Чтобы увеличить территорию грабежей, они развернулись веером от южной образующей Евфрат реки – Мурат (Мурад) в сторону Трапезунда и достигли Эрзурума, который подвергся ужасающему разграблению. Чтобы прекратить разбой, были призваны византийские войска. Другие, включая правителей Иверии (в границах Грузии), Васпуракана, Месопотамии (между реками Мурат и Карасу) и иверийского правителя Липарита, попытались неожиданно напасть на турок, когда те возвращались назад, но туркам удалось прорваться и взять в плен Липарита. Этим годом хроникеры датируют начало турецких набегов, и современники, в особенности армянский летописец Арисдаг из Ласдиверта, писали, что не могут подобрать слов для описания масштабов катастрофы. Ответные расправы, организованные вскоре после этого византийцами в отношении Абу-л-Асвара, который следовал политике сельджуков, естественно, не затронули основной источник опасности. В то же самое время власти Византии пытались вести переговоры с султаном, но мы уже описали, до какой степени иллюзорным являлся такой подход.
В 1054 году на византийскую Армению напал сам Тогрул-бек. Нет сомнений, что для него это был вопрос установления надежного сюзеренитета над мелкими князьями Северо-Западного Ирана и одновременно, с помощью своего двоюродного брата Култумуша и других правителей, поддержании власти над туркменами, которые остались на армяно-грузинских границах. Однако его задача, очевидно, была иной, чем у туркменов, а именно отвоевание для ислама древней пограничной крепости, незадолго до этого захваченной византийцами. В то время как его легкие войска отправились грабить практически те же самые регионы, где шесть лет назад побывали люди Ибрагима Инала, сам он захватил Эрджиш и Бергри на озере Ван, а потом осадил стратегически важную крепость Манцикерт на дороге у реки Мурат. Но он был не в состояние вести длительные военные операции. Переговоры возобновились, и, в конце концов, было заключено перемирие, такое же хрупкое, как предыдущее. Престиж Тогрула не пострадал, и уже на следующий год он вошел в Багдад.
Однако многие туркмены остались на византийских границах. Подробности инцидентов, происходивших на границах, не всегда легко установить, и, возможно, некоторые из них нам неизвестны. Например, более поздние намеки заставляют нас отнести некоторые события вблизи территории Грузии на счет какого-то Тугтегина, о котором у нас, однако, нет непосредственных сведений. Трудно сомневаться, что состояние войны, пусть и небольшой по своему масштабу, продолжалось почти без перерыва, хотя нам стали известны лишь ее самые впечатляющие проявления. К тем, кто участвовал в ее первой фазе, присоединились другие, которые пришли с востока во время мятежа Инала или были привлечены жаждой наживы и приключений, как Якути, известный под именем Салар из Хорасана, сын Чагры-бека и брат Алп-Арслана. И даже если такое событие, как мятеж Инала, могло на время уменьшить давление туркменов, то мятежи в самой Византии, как, например, вспыхнувший почти одновременно с ним мятеж Исаака Комнина, в равной степени ослабляли оборонительную бдительность византийцев на армянский границе, не говоря уже о разногласиях между армянами, между разноплеменными военными частями армии и тому подобное. Так, есть рассказы о разрушительном набеге какого-то Самоухта (?) при участии франко-норманна Эрве по пути р. Аракс – р. Мурат (в 1055 или в 1066 г.). Потом Иван, сын Липарита, боровшийся против Катаколона, который встал на сторону Исаака Комнина, в 1057 году позвал турок на грабеж в горах Трабзона (Трапезунда) и Ханцита (у слияния рек, образующих Евфрат – Карасу и Мурад). Несколько месяцев спустя, возможно, те же самые банды разорили Шебин Карахисар/Кугунию (Колонию) и Камах на северном пути, в то время как на юге некий Динар дошел до Малатьи (Мелитены), которая в свою очередь подверглась ужасному разграблению. Правда, на обратном пути армянский правитель Сасуна – Торниг – неожиданно напал на Динара, убил его и перебил его людей. Но эта неудача была чем-то из ряда вон и не могла смутить их последователей. Впоследствии вся Армения была разграблена, и, поскольку считалось, что, чем дальше зайдешь, тем богаче будет добыча, Самоухт и ему подобные, пройдя по северному пути, успешно атаковали Сивас (1059 или 1060 г.). В 1062 году, выбрав новое направление, Якути совершил набег на территории Византии между истоками Тигра и Евфрата за Малатьей и отправился продавать своих пленников в город Марванидов Амид (в Диярбыкыре). Этот город был наказан греками, и по возвращении Эрве уничтожил отряд под командованием некоего Юсуфа, однако основному контингенту турок снова удалось ускользнуть (1063 г.).
В свою очередь Алп-Арслан, став султаном, продолжил демонстрацию силы в Армении по тем же причинам, что и его предшественник Тогрул. Больше всего его, видимо, интересовали долина Аракса и территории Армении и Грузии. Он захватил некоторые крепости, потом осадил столицу Великой Армении Ани, которая одиноко стояла посреди разоренных окрестностей. Сопротивление было отчаянным, но, в конце концов, – возможно, этому помогло землетрясение – город пал, после чего он был разграблен и передан Шеддадиду. Грузинский царь отдал султану одну из своих дочерей, несколько князей покорились, а Карс, который уже несколько раз подвергался атакам и который его правитель только что передал Византии, теперь при невыясненных обстоятельствах оказался в руках сельджуков (1064 г.). С тех пор граница была изменена, и у турок появился надежный плацдарм для нападения на Византию и отражения ее контратак и попыток прорваться в глубь Закавказья. Поход против Грузии, который три или четыре года спустя предпринял Алп-Арслан, не изменил положение дел и не является предметом рассмотрения в этой книге.
Причиной того, что Алп-Арслан больше не нападал на Византию, возможно, стало то, что она опять вступила в переговоры с ним, хотя это снова никак не повлияло на туркменов, набеги которых только усилились по сравнению с прежними. Те из них, действия которых в какой-то степени ограничивались договоренностью с султаном, перестали штурмовать пограничные крепости, недавно обретенные греками к югу от среднего течения Евфрата и восточного Тавра. Так поступил Якути, который, воспользовавшись распрями между греками Антиохии и Эдессы, в 1065 году дошел до последней, прежде чем встретить смерть на обратном пути в столицу Марванидов в Маяфарикине (ныне Сильван), куда его обманом заманил местный правитель. Так же сделал хаджиб Гумуштегин в 1067 году. Таким образом, они проложили путь для сирийского похода Алп-Арслана в 1070–1071 годах. Однако другие командиры действовали без одобрения султана, и, атакуя «страну Рум», чтобы пробиться внутрь и раздобыть средства к существованию, они в то же время искали как можно более отдаленное место, где могли бы укрыться. Это справедливо, например, в отношении Афшина, который после того, как во время ссоры убил Гумуштегина, отправился грабить Кайсери (Кесарию), провел какое-то время в Киликии и византийской Сирии и, пока византийская армия сражалась в провинции Алеппо, прошел по ее тылам в Малую Азию. Там он направился на север, чтобы напасть на Никсар (Неокесарию) и даже Аморий, расположенный невероятно далеко в Западной Анатолии, после чего, вернувшись на Восток, с учетом этих подвигов получил прощение от своего повелителя, султана (1067–1068 гг.). Другие продолжали воевать, и, когда армяно-византийский военачальник и правитель Малатьи Филарет не смог их остановить, они снова вторглись в Анатолию за спиной греческой армии, которая в то время победила франко-норманна Криспина и заняла Армению. Они разорили Конью (Иконий) и вернулись через Киликию, и князь Антиохии, попытавшийся уничтожить их, потерпел поражение (1069 г.). В конце концов, как уже было сказано, в 1070 году шурин Алп-Арслана Эрисген, спасаясь от его гнева, отразил атаку греческого (византийского) военачальника Мануила Комнина вблизи Сиваса. После этого он действительно поступил на службу к византийцам, но Афшин, благодаря своему знанию страны, посланный его преследовать, оказавшись не в состоянии добиться, чтобы ему передали мятежника, разорил весь регион, по которому он проходил, и создал у своих современников впечатление, что дошел до самого моря у Константинополя. Ему удалось без помех вернуться на восток в 1071 году. Это было как раз когда басилевс Роман Диоген, тот самый, который командовал армией в провинции Алеппо, стремясь нанести мощный прямой удар по Азербайджану через Армению, начал поход, завершившийся окончательной катастрофой у Манцикерта.
Какими бы разрушительными ни были все предшествующие набеги, необходимо повторить, что, за исключением беглецов, нападавшие не ставили других целей, кроме грабежа и участия в военных приключениях. Вопрос о том, чтобы остаться в этой стране, не стоял, и каждый раз, закончив грабеж, они возвращались на свои базы в Северном Иране, расстояние до которых постепенно увеличивалось. Манцикерт полностью изменил ситуацию. В дальнейшем у них уже не было никакой необходимости возвращаться, они могли остаться, ничего не опасаясь. И поскольку различные византийские группировки искали опору в этих вновь прибывших, это оказалось даже прибыльно. Как было сказано раньше, Алп-Арслан не помышлял о падении «Рума»[11]. На самом деле это произошло постепенно, практически под влиянием обстоятельств.


