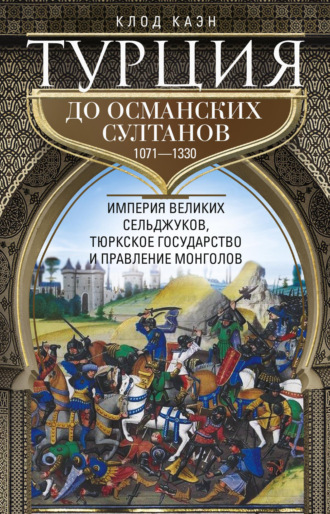
Клод Каэн
Турция до османских султанов. Империя великих сельджуков, тюркское государство и правление монголов. 1071–1330
Более того, ортодоксия расширялась. Например, она допускала определенные формы суфизма, иными словами мистицизма. До тех пор ислам с подозрением относился к людям, заявлявшим, что они очень легко вступают в общение с Богом и не нуждаются в общепринятых способах молиться. Но в XI веке мистики стали более активно утверждать свою ортодоксальность. Они начинали организовываться в группы, которые мало-помалу становились настоящими конгрегациями. С другой стороны, общее движение, во главе со своим самым знаменитым представителем аль-Газали, стремилось сделать свою религиозную позицию, которая у теологов была главным образом интеллектуальной, или рассудочной, идущей от сердца. Возможно, общественное влияние туркменов усилило это движение, поскольку эти новообращенные, еще незнакомые с учеными спорами в более раннем исламе, были более восприимчивы к религиозным демонстрациям суфиев. В любом случае с конца XI века одной из их форм благочестия для них становится организация, или защита «монастырей» – ханаков суфиев, или, как они сами себя называли в ирано-туркменском ареале, дервишей. В силу соперничества за материальные блага они могли также создавать своего рода «ордена», существовавшие за счет пожертвований.
Здесь нам надо подчеркнуть один пункт, в котором, начиная с крестовых походов, в Европе росло непонимание политики Сельджуков в области религии: в отношении не-мусульман и, в частности, христиан она нисколько не изменила общего правила ислама – его толерантности. Действительно, обращение в ислам, из-за которого в Ираке снижалась численность влиятельных прежде несторианцев, уменьшило потребность в этой толерантности, однако она оставалась, и отношение к отдельным людям не изменилось. Конечно, вторжение туркменов причинило страдания некоторым христианским общинам, но пострадали и многие мусульмане, и мы в любом случае должны различать территории Малой Азии, где велась «священная война», и территории внутри ислама (в которые Малая Азия вошла после того, как приняла ислам). В Малой Азии особенно пострадала византийская церковь, что естественно. Но новым хозяевам часто удавалось использовать против нее враждебность других христиан. Иногда из-за ошибок в датировке паломничество 1064 года используется как иллюстрация нетерпимости и небезопасности, что в дальнейшем затруднило для западных христиан паломничество в Иерусалим. Упоминается также резня в Иерусалиме в 1075 году. На самом деле все обстояло иначе. Когда в 1064 году великое паломничество действительно подверглось нападению, его совершили бедуины, за которых ни Фатимиды из Египта, их хозяева в теории, ни тем более турки-сельджуки (туркмены), которых там еще не было, не несли ответственности. А некоторые авторы того времени даже показывают, что алчность бедуинов разгорелась из-за слишком откровенной демонстрации богатства со стороны паломников. Пилигримы больше не могли ходить через Малую Азию, что доставляло неудобства. Но в Палестине их по-прежнему принимали тепло. К тому же я мог бы и не говорить, что вместо того, чтобы в целях безопасности собираться вместе, к чему их, казалось бы, вынуждали события 1064 года, они продолжали прибывать по морю, даже не пытаясь скрываться. Что же касается резни в Иерусалиме, то она последовала за восстанием сторонников Фатимидов и была направлена исключительно против мусульман, подозревавшихся в симпатиях к исмаилитам, в то время как христиан и евреев, незадолго до этого собравшихся в обособленных кварталах города, она не коснулась. Копты того периода гораздо лучше отзывались о правлении Атсыза, а потом Артука, военачальника Тутуша, чем позднее о власти крестоносцев. Согласно армянским авторам, имя Мелик-шаха, как поборника порядка, но еще и человека великодушного ко всем, повсеместно встречал хор восхвалений, что в несколько более сдержанной форме подтверждают монофизиты. В исламе был только один случай настоящих гонений, это гонения Фатимида аль-Хакима-Безумного в начале XI века. На Западе все путают, смешивая аль-Хакима с турками-сельджуками Малой Азии, разоренной войной с нормальными мусульманскими режимами. Однако девять веков спустя эта историческая несправедливость, определенно, может быть исправлена.
Тем временем, конечно, оставались кое-какие подданные немусульмане, которые не принимали власть Сельджуков. В частности, их можно было встретить среди тех, кого сагитировали исмаилитсткие миссионеры в Иране. Но так случилось, что во времена царствования Мелик-шаха исмаилиты оказались расколоты по вопросу о том, кто является законным халифом. В Египте победу одержал один претендент, тогда как в Персии (Иране) исмаилиты остались верны другому – Низару. В результате их секта стала автономной. Более того, поскольку власти сельджуков не давали им возможности для нормального развития, низариты стали склонятся к террористическим действиям. Они без предупреждения захватили несколько горных крепостей, которые трудно было отвоевать, среди них Аламут, который почти два века оставался резиденцией их Верховного Владыки. Человека, который возглавил их, звали Хасан аль-Саббах, и, по легенде, он был школьным товарищем Низам аль-Мулька и математика Омара Хайяма. Из-за того, что он обычно давал своим ученикам возможность увидеть рай, заставляя их принимать гашиш, народная молва окрестила их гашишинами, а поскольку они прославились исполнением тщательно спланированных убийств, крестоносцы, вскоре столкнувшиеся с их региональной ветвью в Сирии, привезли с собой в Европу страшное слово «ассасины», значение которого сохраняется до сих пор. Для совершения этих убийств, считавшихся формой ведения «священной войны» и предполагавших награду за мученичество, они требовали от своих приверженцев слепого повиновения и исключительного самообладания. Их первой заметной жертвой стал сам Низам аль-Мульк (1092 г.), хотя в подготовке убийства обвиняли его врагов, Мелик-шаха (к тому времени смотревшего на власть своего визиря с некоторым беспокойством) и даже халифа. Мы не можем сказать, каким стало бы правление Мелик-шаха без его визиря, поскольку всего через несколько месяцев султан, будучи еще молодым, сам сошел в могилу следом за ним.
Смерть Мелик-шаха знаменует собой начало упадка, который можно было предсказать и который продолжался в течение века. Однако его не следует абсолютизировать. Политический распад вовсе не угрожал религиозной ориентации, которую мы описали. Он не повлиял даже на масштабы тюркского (туркменского) проникновения, которое становилось все более заметным, благодаря дальнейшему вытеснению оставшихся арабских, курдских и персидских хозяев туркменскими.
Среди разных причин упадка, таких как недисциплинированность туркменов, прекращение завоеваний, угроза со стороны ассасинов, самой главной является отсутствие какого-либо четкого правила наследования. Борьба между сыновьями и дядьями Мелик-шаха закончилась заключением соглашения в пользу одного из его сыновей, Мухаммеда, который восстановил видимость единства империи, но должен был передать весь Хорасан в качестве автономного удела своему брату Санджару. Сирия была практически автономной и, более того, раздробленной, не говоря уже о той территории, которую, воспользовавшись положением дел в государстве, захватили крестоносцы. Провинция Мосул превращалась в непослушный военный округ, а дальше в Диярбакыре несколько районов отхватили себе Артукиды, в то время как бывший военачальник Ахлат на озере Ван провозгласил себя правителем под громким титулом «царь армян». Естественно, в таких обстоятельствах ресурсы султана истощались. Мухаммед был не в силах подчинить ассасинов, и некоторые местные правители опирались на них в своем соперничестве с другими. В царствование наследника Мухаммеда Махмуда процесс продолжил набирать обороты. В качестве примера можно привести беззаконные действия вождя бедуинов Дубая у самых ворот Багдада. Но в особенности тот случай, когда во времена брата Махмуда, Масуда, Санджар, который, как старший в семье, обеспечил себе определенный сюзеренитет, поддержал других своих племянников. Но самым драматическим эпизодом стала осада Багдада в 1133–1134 годах. В борьбе между претендентами легитимация со стороны халифа, безусловно, имела значение, и, значит, халиф мог воспользоваться этим для получения преференций при ведении переговоров, в то время как султаны, нуждаясь в деньгах, имели тенденцию скорее увеличивать свои материальные требования. Халиф Мустаршид принял сторону противников Масуда, который осадил Багдад. Некоторые туркмены, не знавшие, кому служить, чтобы лучше обеспечить свое будущее, предложили ему свои услуги вместе с остатками своих войск. Однако халиф был разбит и позже вместе со своим другом Дубаем убит (assessinated), так же как и его преемник Рашид. Но ход событий, который за счет ослабления султана делал халифа все более независимым, нельзя было повернуть вспять, и его преемник без единого боя получил фактическую региональную независимость, во имя которой умерли двое других. В действительности в конце царствования Масуда, хотя он один носил титул султана, он фактически стал марионеткой в руках нескольких могущественных военачальников, за чью лояльность он должен был платить огромными льготами и чью власть ограничивало только соперничество между ними. Атабеки (воспитатели) различных малолетних принцев получили такую личную власть, которая в теории была гарантирована их подопечным. С помощью этих средств Зенгиды удерживали Мосул и Алеппо, а Ильдегиз и его потомки – Азербайджан. Сельджуки, в основном из Кермана, сохраняли определенную степень независимости, тогда как главы племен, в свою очередь, старались отхватить княжества для себя, как, например, Салгуриды в Фарсе. Только благодаря толерантности тех князей, которые надеялись добиться для себя признания в обход остальных, последним Сельджукам удавалось сохранять некоторую власть на Иранском нагорье. Когда последний из них, Тогрил, попытался на время возобновить несколько более активные действия, халиф сделал так, что на него с тыла напал (в 1194 г.) хорезмшах (о котором мы скоро вкратце поговорим). Таким образом, в 1194 году династия теряется во мраке.
В Хорасане, где эта династия в свое время добилась большей славы, ее полное исчезновение произошло даже относительно быстрее. Санджар установил свой фактический сюзеренитет над Караханидами в Трансоксании и Газневидами. Но в Центральной Азии снова начиналось движение народов, которому было суждено обрушить существующие империи. Кидани (китаи), вероятно, монгольский народ[6], которые в словаре Марко Поло и на Западе дали свое имя Китаю, создавали свою империю, накрывшую Западный и Восточный Туркестан, и сокрушили Караханидов. Призванный оказать помощь жертвам Санджар в свою очередь был разбит (в 1141 г.), и кидани захватили всю Трансоксанию до самой Амударьи. Но их власть была очень слабой и не внесла серьезных изменений в жизнь этой страны. Однако в сфере религии изменение оказалось достаточно значимым, поскольку они не были мусульманами. Их правителя звали Гурхан, и среди них было некоторое количество христиан-несториан. Потом среди восточных христианских общин распространилась история о царе-священнике, сокрушившем ислам с тыла. Когда ее привезли на Запад, она легла в основу легенды о «пресвитере Иоанне», которую после многочисленных трансформаций, продиктованных политическими событиями, в конце Средних веков в конечном счете стали связывать с эфиопским негусом.
Санджар сохранил свои собственные владения, но наступление киданей снова привело в движение тюрок-огузов, которые еще оставались в Центральной Азии. Контролировать их и поддерживать порядок становилось все труднее. В конце концов, в 1153 году они разбили и схватили Санджара и, хотя продолжали оказывать ему уважение, заполонили его земли, грабя и убивая. Бегство султана, подлинное уважение к которому вызывал лишь его возраст, нисколько не изменило ситуацию. Когда в 1156 году он умер, в Хорасане не осталось ничего от империи Сельджукидов. И в отличие от огузов, которые шли за Сельджуками, те, которые пришли сюда сейчас, демонстрировали, что совершенно не способны ни выбрать себе хотя бы одного правителя, ни создать какую-нибудь устойчивую политическую структуру. Когда один из них, Малик Динар, овладел Керманом, положив конец местной династии Сельджукидов, другие поделили между собой Хорасан в качестве выкупа. Осталась только одна мирная обитель, окруженная кольцом пустынь, – Хорезм. Хорезмшахи были беспокойными вассалами Санджара. Теперь оказалось, что они его единственные наследники. Массовая покупка в Центральной Азии рабов из тюркского народа кипчаков (половцев) сделала возможным дальнейшее процветание их страны. Они создали сильную армию, хотя она наполовину состояла из варваров, что в длительной перспективе оказалось губительным. Эта «хорезмийская» армия завоевала для своих хозяев Хорасан, и за счет этого они утвердились на политической сцене в Иране. Мы уже упоминали о том, как халиф ан-Насир призвал их выступить против последних правивших в Иране Сельджуков. Но потом хорезмшах замыслил в 1217 году подчинить себе халифат. Только завоевания монголов[7] окончательно освободили халифат от угрозы с их стороны, после чего в 1258 году он сам был уничтожен.
Окончательного освобождения халифат добился при том же самом халифе ан-Насире, и хотя он уже не имел доминирующего влияния во всем исламском мире, но, по меньшей мере, обладал региональной властью и определенным высшим авторитетом. Этот халиф (мать которого по стечению обстоятельств была из тюрков) был любопытной личностью. В свое время он оскорбил чувства традиционалистов, поскольку, желая добиться под своим покровительством воссоединения, хотя бы морального, различных духовных течений в исламе, был вынужден занять позицию, которая в глазах ортодоксов выглядела как еретическая. Один из его успехов состоял в частичном возвращении ассасинов из Аламута в лоно ислама. Но его более известным достижением, принесшим ему наибольшую славу в будущем (о чем он, скорее всего, даже не подозревал), стала реформа футувва.
Этим словом называлось движение непрофессиональных объединений (городских братств), широко распространенных среди простых людей в большинстве городов Ирана и Ирака и связанных вместе духом товарищества и солидарности. В те периоды, когда центральная власть теряла контроль над ситуацией, члены футувва устраивали в городах, даже в Багдаде, настоящий террор против богатых и представителей власти. Когда власть становилась сильной, они уходили в подполье, как они сделали, когда Сельджуки разместили в Багдаде и в других городах (за исключением тех, где существовала объединенная оппозиция правителям) свои шихне – гарнизоны, выполнявшие функции полиции. Однако когда власть Сельджукидов стала приходить в упадок, в XIII веке появились снова, и люди с амбициями стали поддерживать футувва, желая получить выгоду от их усиления. Вместо того чтобы бороться с ней, ан-Насир сам оказал ей поддержку и, конечно, стал великим владыкой. Что касается моральных принципов, которые признавали футувва, то ан-Насир постарался сформулировать более четкие правила, чтобы превратить футувва в инструмент общественной солидарности. По той же причине он стал вовлекать в это движение знатных людей, и, поскольку обстоятельства сложились так, что связанные с этим документы первыми стали известны историкам XIX века, футувва стали ошибочно считать своего рода рыцарским орденом. В то же время ан-Насир использовал пропаганду, чтобы повлиять на суверенов по всей Азии, склоняя их к созданию под его личным покровительством аналогичной футувва в их странах. По политическим мотивам многие согласились это сделать. Наиболее широкий социальный успех она имела в Малой Азии, где мы снова встретимся с ней, и это является причиной того, что здесь мы посвятили футувва эти краткие замечания.
Глава 3
Искусство и литература в период великих Сельджукидов
Вопреки тому, чего можно было бы ожидать, сельджукский период в сфере культуры характеризуется очередным подъемом неоперсидского языка (фарси). В Центральной Азии среди Караханидов, которых лишь слегка коснулось иранское влияние, зародилась новая мусульманская тюркская литература, которая переняла арабский алфавит, и, какими бы незначительными ни были новые труды, они указывали будущую ориентацию. Среди великих Сельджукидов, обосновавшихся в Иране, ничего похожего на это движение не наблюдалось. Однако намеренно или нет, создается такое впечатление, что хотя для старой правящей аристократии было сделано исключение в смысле языка – арабского, но ввиду того, что туркменская аристократия в какой-то степени знала персидский язык, но почти совсем не знала арабского, изучение арабского языка не поощрялось. Правда, существовали отдельные ученые, знавшие арабский, и определенные разделы преподавания по необходимости велись на арабском. Так, в Хорезме на сельджукский период приходится жизнь аль-Замахшари – великого ученого, прославившегося во многих областях. Но не может быть никакого сомнения в том, что в широких слоях образованных людей персидский быстро вытеснил арабский, и литературные труды, в строгом понимании этого слова, писались исключительно на фарси. В области управления (но не права, которое определялось законами, предписанными Кораном) теперь использовался почти исключительно фарси. Древние арабские труды, сохранившие свою ценность, переводились на фарси и так далее. Этот ирано-туркменский симбиоз привел одновременно к деарабизации, которая фактически началась только на Востоке, и к новой иранизации или даже, если можно так выразиться, с учетом влияния этого региона, к новой «хорасанизации».
В истории искусства тоже можно уловить некие отблески чего-то подобного. Вопрос о том, существовало ли тогда какое-то специфически тюркское искусство, очень противоречив. Выражаясь более интеллигентно, определить меру чисто тюркского вклада в расцвет искусства в тех странах, которыми они управляли и где политически доминировали, крайне сложно. Оставив в стороне Малую Азию, в случае которой имеются свои собственные проблемы, можно с уверенностью сказать, что, насколько состояние того, что дошло до нас, позволяет создать общую картину, почти все, что было достигнуто в период правления сельджуков, имело своих предшественников в более раннем исламо-иранском искусстве. Однако больше недопустимо сомневаться, что, даже если состояние археологических находок может искажать вопрос о степени новизны, в целом достижения ясно и четко подтверждают наличие определенных инноваций периода Сельджукидов. С технической точки зрения чисто тюркский вклад достаточно скромен, поскольку в Центральной Азии тюрки (туркмены), как строители, имели достаточно ограниченные возможности приложения своих талантов, если не считать весьма узкой сферы (строительство мавзолеев?). Но в этой сфере, как и в других, они могли распространять дальше опыт, полученный в Трансоксании или в Хорасане. С другой стороны, религиозная политика султанов и тех, кто следовал за ними, требовавшая расширения мечетей, создания многочисленных медресе и тому подобного, предоставила местным художникам поле деятельности, которого они, за редким исключением, не имели прежде. И поначалу власть и «величие» новых суверенов были устремлены в том же направлении. Здесь нет необходимости вдаваться в технические вопросы, некоторые из которых будут описаны в связи с Малой Азией, но их общую характеристику необходимо рассмотреть. Даже если они не были творцами, тюрки очень часто давали другим средства для развития того, что они сами еще не были в состоянии развивать.
Часть вторая
Турецкое государство в Малой Азии с конца XI века до 1243 года
Глава 1
Источники
Прежде чем читатель начнет знакомиться с историей турок в Малой Азии, совершенно необходимо, чтобы он получил некоторое представление о различных источниках, с помощью которых могла быть сделана попытка восстановить эту историю. С этой целью период, рассматриваемый в настоящей работе, нужно было поделить на пять частей, в целом соответствующих пяти векам, которым она посвящена.
Что касается XI века (а точнее, второй половины этого века, поскольку здесь речь пойдет только о ней), то, если оставить в стороне записи, переданные нам гораздо позднее посредством легенд из «Данишменднаме» (о которых будет рассказано позже), не существует никаких документальных материалов, которые бы исходили от самих тюрок-туркменов. В той мере, в которой проникновение и обустройство туркменов в Малой Азии связано с экспансией Великих Сельджуков, эти материалы можно обнаружить в рассказах, посвященных сельджукам (в особенности в трудах Сибт ибн аль-Джаузи). Но из последовавших за этим текстов стало ясно, что на самом деле политика Великих Сельджуков и туркменская экспансия в Малой Азии представлены двумя практически полностью независимыми последовательностями фактов. Более того, в Малой Азии среди переселявшегося туда тюркского (туркменского) населения не было никакого официального почтового ведомства, а среди коренного населения также не было никакой мусульманской составляющей, привычной к такого рода связи с исламскими столицами. Легко понять, что летописцы, основывавшие свои сочинения на документах подобного рода, в действительности ничего не знали о событиях, происходивших на этой территории. С другой стороны, местное христианское население было привычно к такой корреспонденции или к тому, чтобы записывать определенные факты, и кое-какие собрания таких записей сохранились, а позже стали известны армянам, яковитам (якобитам) в Сирии и в меньшей степени грузинским монастырским писателям или, что более сомнительно, византийским историкам в Константинополе. Естественно, что рассказы о тюркском (туркменском) нашествии интересовали этих авторов в той мере, в которой оно затронуло их собственные народы, а не в контексте истории тюрков как таковых. Более того, беспорядок, вызванный этим нашествием, нарушил почтовые связи и сохранность архивов, и в результате даже в тех случаях, когда можно получить доступ к их содержанию, в их сочинениях обнаруживаются пробелы, которые вынуждены были оставить авторы. Луч света, брошенный историками, писавшими о 1-м Крестовом походе, который проходил через Малую Азию, тоже полезен, но не полон, поскольку охватывает очень короткий промежуток времени.
Имея в виду все сказанное, нам необходимо с помощью всех имеющихся в нашем распоряжении авторов попытаться восстановить историю этого периода. Самыми основными и существенными источниками являются следующие.
Из греков: Георгий Кедрин, исправленный и дополненный Иоанном Скилицей; Михаил Атталиат; Никифор Вриенний, и в начале XII века Анна Комнин (Комнина).
Из армян: Матвей Эдесский, писавший незадолго до 1140 года.
Из (яковитов) сирийцев: Михаил Сириец, который писал около 1190 года.
Из латинян: помимо норманнского анонимного автора и Раймунда Агилерского, которые писали только о самом крестовом походе, Альберт Ахенский и Фульхерий Шартрский, 1113 и 1118 годы соответственно.
В отношении XII века ситуация принципиально иная. Несмотря на то что для новых хозяев было сделано определенное количество арабских надписей и монет, исторической литературы по-прежнему не было. Позже летописец Ибн Биби категорически утверждал, что до самого конца XII века невозможно ничего узнать об их истории. При таких обстоятельствах основными источниками после Анны Комнины остаются византийцы Иоанн Киннам и Никита Хониат, Матвей Эдесский, а потом Григорий Священник, который продолжил свои записки, и Михаил Сириец, который еще писал. Полный разрыв, который, как мы увидим, существовал между Малой Азией и преемниками Великих Сельджуков, объясняет, почему в литературе Месопотамии, исключая частично «Универсальную историю» («Kamul») Ибн аль-Атира (написанную около 1225 года), нет ничего на тему сельджуков «Рума». Единственные мусульманские авторы, которые ими интересовались, были сирийцы: Ибн аль-Каланиси из Дамаска в середине века, его современник из Алеппо аль-Азими и более знаменитые писатели из Алеппо Ибн Аби Тайи и Ибн аль-Адим, а на самом севере Месопотамии Ибн аль-Азрак аль-Фарики в той мере, в которой политика сельджуков затрагивала территории, где они жили. Кроме того, в церквях Каппадокии встречаются надписи на греческом языке.
С самого конца XII века, на протяжении всего XIII века и в начале XIV века дела обстоят несколько лучше. В лице Ибн Биби – иранца, переселившегося в Анатолию, – у нас есть, наконец, один автор, который писал на фарси в самой стране и который, будучи представителем класса высшего чиновничества к тому времени уже созданного анатолийского государства, оставил нам свою точку зрения. В дополнение к его «Сельджукнаме», оканчивающемуся 1282 годом, имеется труд под таким же названием, написанный неизвестным жителем Коньи и относящийся ко второй половине века. Но особую значимость для периода до 1292 года, хотя они доходят до начала XIV века, имеют хроники Карим ад-Дина Аксарайи. Обе эти работы тоже написаны на фарси. Более того, сохранилось определенное количество документов из архивов, дела, относящиеся к фондам пожертвований (вакуф), корреспонденция, например, Джелал ад-Дина Руми, документы религиозного содержания, как, например, «Mabaqib al-Arifin» (сборник биографий знаменитых мистиков) Афлаки (который писал в XIV веке), коллекции копий канцелярских бумаг, или образцов, которыми пользовались писцы, – целая группа документов, позволяющих нам сегодня увидеть изнутри хотя бы некоторые из различных кругов, составлявших социум государства Сельджукидов в Малой Азии. Существуют две основные опасности, о которых никогда не следует забывать: во-первых, у нас может создаться ограниченное представление вместо целостного взгляда, охватывающего все группы и классы этого государства, во-вторых, поскольку в основном эти источники относятся к периоду монгольского протектората, создаваемая ими картина того периода, когда сельджуки были независимы, может быть искажена новым взглядом на этот период. Более того, важно подчеркнуть, как следует использовать «Сельджукнаме» Ибн Биби. В течение долгого времени это произведение было доступно только в слегка сокращенном варианте, сделанном при жизни автора. Полный текст, доступный в настоящее время, показывает, что существенные пропуски попадаются достаточно редко. Тем не менее определенное недоверие к сокращенному варианту остается. Но самое главное, что в силу того, что турецкий язык более знаком тюркологам, чем персидский (фарси), вместо персидского текста Ибн Биби использовалась его турецкая адаптация, сделанная в XV веке османским автором Языджиоглу. Этот автор, вставив ее в более общее сочинение по истории, внес в свою адаптацию некоторые дополнения и интерпретации, которые, хотя и представляют интерес в некоторых аспектах, однако отсутствуют в оригинальном тексте и потому должны либо быть исключены, либо восприниматься с непременной долей осторожности. К сожалению, это делается не всегда.
В сравнении с этой, уже достаточно существенной мусульманской литературой из Малой Азии, другие источники, естественно, немного теряют свою ценность. Тем не менее они остаются важными, и в терминах абсолютной значимости ценность их содержания даже увеличивается, поскольку развитие государства сельджуков обеспечило ему новое место на исторической сцене, а его вхождение в Монгольскую империю снова привлекло к нему внимание восточных историков, до тех пор игнорировавших вопросы, касающиеся Малой Азии. Мы не можем перечислить здесь всех сирийских и сирийско-египетских историков (политически Сирия и Египет были единым целым), которые могли случайно коснуться истории Малой Азии, поэтому обратим ваше внимание только на самых главных, поскольку им не всегда уделяется должное внимание и не все их произведения когда-либо публиковались. Первый (в хронологическом порядке) Ибн Василь (вплоть до 1262 г.) с его богатыми запасами информации по истории Сирии и ее соседей; затем биография султана Бейбарса Аз-Захира, полный текст которой был обнаружен всего несколько лет назад и до сих пор не опубликован. Затем сочинение Ибн Шаддада, от которого найдена лишь половина, доступная в переводе на турецкий; и еще одного историка примерно 1300 года, Бейбарса аль-Мансури, в котором представлена богатая информация (полученная от секретаря-христианина), касающаяся событий в Малой Азии в середине XIII века. Помимо всего перечисленного есть еще Ибн Натиф, Абд аль-Латиф, Юнини и другие.
Отдельные сведения продолжают находить в армянских хрониках, в Азербайджане, и больше всего в Киликии. Например, в хронике так называемого «царского историка» (возможно, Смбат Спарапет), а также у сирийского яковита Бар-Эбрея, который дополнил более ранние части и продолжил хронику Михаила Сирийца до конца XIII века. Некоторые ценные сведения содержатся в грузинских хрониках и в византийской литературе, которая, почти не представляя интереса в отношении первых двух третей века, становится все более интересной по мере экспансии туркменов на запад в последней трети века и в течение следующего. Сохранились документы, относящиеся к дипломатическим и торговым отношениям с итальянцами и киприотами, к которым мы обратимся позже. Записки, оставшиеся от таких западных путешественников, как миссионеры Симон из Сен-Кантена и Гильом де Рубрук или купец Марко Поло и испано-арабский географ и путешественник Ибн Саид аль-Магриби, тоже содержали важные сведения, рассказывающие о «стране Рум». Наконец, множились надписи на памятниках и монеты. Таким образом, это был век, относительно благоприятствовавший его доскональному изучению.
Что кажется странным на первый взгляд, так это то, что в XIV веке, не считая самых первых лет, ситуация с документами становится крайне плохой. Распад Монгольской империи привел к тому, что интерес к персидской историографии, которая и сама в то время находилась в упадке, почти исчез, а политическое разделение Малой Азии стало причиной исчезновения многих более общих хроник. То, что до сих пор удавалось найти в турецкой адаптации XV века, это охватывающая несколько лет из середины века хроника эмирата Айдын (на побережье Эгейского моря); другая – это очень подробная хроника царствования Бурхан ад-Дина в провинции Сивас и ее окрестностях в конце века; а также состоящие наполовину из легенд и лишенные хронологии записки Шикари о «царстве Караманидов» (в западной части Таврских гор) вплоть до XV века, ценность которых до сих пор установлена не полностью. Собственно османская историография, которая для нас начинается не раньше XV века, лишь между прочим касается других княжеств, условно входивших в Османскую империю, и, что более важно, очевидно, содержит периоды молчания. Записки о нашествии Тимура дают картину полезную, хотя и мимолетную. В таких обстоятельствах относительный интерес представляют небольшие сокращенные хроники, как, например, краткая история Византии. То же самое справедливо в отношении армянской историографии, которая не содержит больших произведений, за исключением записок о походах Тимура, но они состоят из кратких хронологических таблиц и колофонов и до сих пор почти не использовались. Сирийских и грузинских хроник почти нет, однако имеются интересные греческие документальные материалы из Трапезунда (Панаретос и другие). Возможно, различные неисториографические сочинения из мусульманских слоев Малой Азии до сих пор не были до конца изучены, хотя некоторые частные исследования говорят о том, что они могут представлять интерес. Разнообразные надписи и монеты, бумаги, сопровождающие вакуф, официальные письма и другие материалы тоже доступны, но их аутентичность должна быть подвергнута строгой критической оценке, поскольку по крайней мере некоторые из них, очевидно, являются поддельными или были изменены позже для большего прославления Османов, какой-либо другой династии, благочестивого (вакуфного) фонда или другой организации. Итальянские и венецианские архивы, имеющие отношение к Криту, необходимо изучить более тщательно, чем это было сделано до сих пор, хотя не следует питать слишком больших надежд, как и в отношении архивов госпитальеров и тех, что относятся к Кипру. В этой весьма неутешительной ситуации есть только два проблеска света, которые, к сожалению, освещают всего несколько лет между 1330 и 1340 годами. Это записки о путешествии (практически через всю или почти всю страну) испано-арабского[8] автора Ибн Баттуты и описание страны «Рум», вставленное в энциклопедию египетским чиновником Шихабуддином аль-Умари, который был обязан этой информацией одному странствующему мистику и, что весьма типично, влиятельному генуэзскому купцу, попавшему в плен и ставшему рабом мамлюков в Каире.


