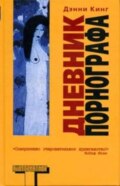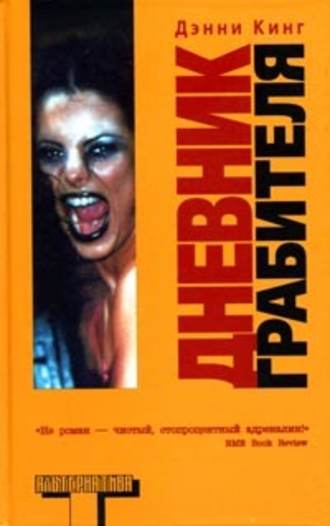
Дэнни Кинг
Дневник грабителя
12
Блестящие планы: номер три
Обычно я интересуюсь только блестящими планами воров-взломщиков, данная тема мне наиболее близка. Но в виде исключения расскажу вам и об этом случае – о невероятном ограблении банка. Я тоже прочитал о нем в газетной статье, так что не знаю многих деталей и передам вам лишь суть.
Происходит событие во Франции. Грабители врываются в один из банков в центре Парижа, размахивая пулеметами и поднимая страшный шум. Скажете, глупо и не оригинально? Запаситесь терпением. Эти ребята стреляют в камеры видеонаблюдения, опустошают кассы, приводя тем самым посетителей в состояние шока, затем выволакивают управляющего, опускают его на колени и приказывают отвести их к сейфу. Управляющий что-то бормочет о детях и жене, кричит, но в конечном счете берет себя в руки и ведет непрошеных гостей куда требуется.
В этот момент один из молодых работников банка, вынужденный довольствоваться пятью франками в день, понимает, что не желает торчать на рабочем месте целый вечер да еще и в компании психов с пулеметами, и умудряется нажать аварийную кнопку сигнализации.
Буквально через несколько минут банк окружает местная полиция, грабителям кричат в громкоговорители выходить наружу с поднятыми руками.
Те даже не думают подчиняться, посылают копов подальше, заявляя, что у них есть заложники и при необходимости они не колеблясь этих заложников пришьют. Канитель длится довольно долго: полицейские пытаются уговорить грабителей сдаться, а те требуют подать им вертолеты и быстроходные катера и что-то еще, и дело не сдвигается с мертвой точки. Грабители не хотят выходить из банка, а полиция – входить в него, так как уверена, что парни рано или поздно все же сдадутся.
Проходит пара часов, и грабители заявляют, что хотят побеседовать с адвокатом. И не с каким-нибудь старым пнем, протирающим в суде штаны, а с лучшим во Франции специалистом, мосье Румпелем ле Белем или... Короче, не помню, как его зовут. Полиция вызывает этого мосье, сажает его в центр управления, и он болтает с грабителями о том, каковы их шансы на спасение, что им светит, могут ли они прийти к приемлемому для всех решению и о прочих подобных вещах.
Грабители в знак признательности освобождают половину заложников, и копы немного расслабляются, надеясь, что очень скоро ситуация благополучно разрешится.
Проходит еще некоторое время, грабители звонят в центр управления и говорят гораздо более дружелюбными голосами, что хотели бы еще о чем-то посоветоваться между собой. Полиция дает "добро". Грабители обращаются к копам с еще одной просьбой: прислать ужин для них самих и оставшихся заложников, потому что давным-давно не ели и зверски проголодались. Полиция идет и на это: приказывает доставить в банк пару дюжин тарелок с какой-то хавкой. Проходит еще полчаса. Копы звонят грабителям и спрашивают, готовы ли те выходить, но ответа не получают, переглядываются и, придя к выводу, что внутри банка произошло нечто крайне серьезное, решают в него войти.
Перед началом операции они звонят грабителям еще раз, но вновь слышат в ответ лишь тишину и в полной боеготовности – вооружившись слезоточивым газом и всем остальным – влетают в банк.
Но грабителей там не обнаруживают.
Находят лишь связанных заложников в пустом сейфе, две дюжины тарелок с нетронутой едой и огромную дыру в полу.
Дыра ведет в туннель, а туннель – в небольшую сданную внаем квартиру, расположенную по другую сторону от дороги.
Вы скажете, никакие грабители не сумели бы всего за несколько часов вырыть подземный ход, да еще и под проезжей частью. А они ничего подобного в тот день и не делали. Туннель был подготовлен ими заранее. На то, чтобы выкопать его, у них ушло несколько недель. Требуя у копов предоставить им вертолеты и юриста, они выигрывали время на проделывание дыры в полу, раскапывание фута земли, остававшегося до начала туннеля, и на возможность смыться со всем содержимым сейфа.
Отличный план!
13
Инсулин
Мужчины и женщины абсолютно по-разному размораживают холодильник. Женщины достают из него все продукты, открывают дверцу, вытаскивают вилку из розетки и ждут, пока все остальное не произойдет само собой. Мужчины подходят к этому делу иначе: отключают холодильник от сети, берут фен, отвертку и молоток, отколачивают куски льда, бросают их в раковину и поливают кипятком из чайника. Несколько недель назад я сам всем этим занимался. Я всегда размораживал холодильник именно так и считаю данный способ наиболее правильным и удобным. Чисто мужским способом.
Тратить время на домашние дела я никогда не любил. Хлопотать по кухне в фартуке, отглаживать брюки или что угодно другое – все это не для меня.
В тот день я занялся холодильником просто потому, что все его стенки уже покрылись льдом, но возиться с ним мне жутко не хотелось. Ведь было воскресенье, и по телеку показывали кучу всего интересного, а я накупил себе чипсов и мечтал поскорее засесть с ними перед ящиком.
Приступаю я, в общем, к размораживанию холодильника – действую по давно отработанной схеме – и слышу вдруг... Пшшшшшшшшшшш... Прямо мне в лицо. Стенка чертова холодильника разрывается, и изнутри выходит газ. Я проклинаю все на свете, понимая, что ничего уже не поправишь, что холодильничек мой приказал долго жить, что место ему теперь только на свалке.
Я знаю это все наверняка, потому что подобные неприятности уже дважды происходили со мной. Я в бешенстве, главным образом потому, что сам во всем виноват. Я хватаю фен, который использовал для размораживания, и в приступе ярости швыряю его об пол.
Куриная ножка, две банки легкого пива и "Антиквариат" по телеку более или менее приводят меня в чувства. Я звоню Олли и рассказываю, что натворил.
Этот гад – вы только представьте себе – заходится от смеха.
Это случилось в ту ночь, когда мы отправились грабить дом на Хершэм-Парк-роуд, дом экс-подружки одного нашего приятеля. Обчищать чьих-нибудь "бывших" нам доводится весьма часто.
Люди расстаются и желают вычеркнуть того, с кем крутили роман, из своей жизни. У кого-то разрыв происходит по причине измены, у других из-за чрезмерного потребления кем-нибудь из двоих пива, у третьих из-за чего-то еще. Но результат во всех случаях бывает примерно одинаковым – оба расстающихся переполнены злобой и мечтают, чтобы с бывшей половиной приключилось что-нибудь ужасное. Мало кому удается разойтись красиво, большинство людей при расставании раздирает жажда мести.
Кстати, к нам обращаются далеко не только парни, половину заказов такого рода мы получаем и от женщин. Одна телка в весьма преклонном возрасте даже попросила меня как-то прикончить ее старикана, а через три месяца опять с ним сошлась и даже родила ему ребенка. Полные придурки!
В общем, поехали мы с Олли в дом той пташки – вернее, в дом ее мамаши и папаши, хотя для нас не было разницы, кто именно в нем живет. Кстати, я не знаю, почему этот парень с ней расстался. Скорее всего она бросила его, подыскав себе более смазливого дружка, так часто бывает.
Так или иначе, наш приятель мечтает отомстить по полной программе, поэтому рассказывает, в какое время их всех нет дома, и предоставляет нам подробный список имеющихся у этого семейства ценностей. Мы в свою очередь платим ему тридцать или сорок фунтов, обещаем "наказать" его крошку и прихватить для него какие-то мелкие вещицы на память – таковы условия нашей с ним сделки. Что касается сувениров, мы никогда не соглашаемся брать в домах чьих-нибудь бывших личные вещи, например, фотографии. В противном случае на выстраивание цепи событий и раскрытие подобных дел требовалось бы всего несколько полицейских человеко-часов.
Итак, мы останавливаемся позади этого дома, забираемся в него, и Олли тут же находит "Пентакс" подружки Джастина (так зовут нашего приятеля). Вероятно, фотографировать – ее страсть. Очаровательно! Хотя кто я такой, чтобы осуждать эту крошку.
Олли входит в кухню, осмотром которой занимаюсь я.
– Улыбочку! – говорит он, и я зажмуриваюсь от вспышки.
– Не фотографируй меня, придурок! – ору я, с опозданием закрывая лицо рукой.
– Почему? Иметь такие фотки даже интересно, – говорит Олли.
– Интересно! А что, если мы забудем здесь этот чертов фотоаппарат? И его найдут копы? Тогда им и отпечатков не придется снимать, чтобы вычислить, кто ограбил эту хатку, они найдут нас по фотографиям. Дай-ка мне эту штуковину.
Я забираю у него фотоаппарат.
– Что ты делаешь?
– Хочу засветить пленку, – отвечаю я.
– Но здесь почти темно.
– У меня есть фонарь.
– Эй, подожди, – говорит Олли. – Сначала сфотографируй и ты меня.
Я смотрю на него в недоумении, пытаясь понять, шутит он или нет. Похоже, что нет. Я настолько растерян, что даже не вступаю с ним в спор, а подношу фотоаппарат к лицу и нажимаю на кнопку.
– Вспышка не сработала, – произносит Олли.
– Это имеет какое-то значение?
– Послушай, Бекс, я сфотографировал тебя как положено. И ты меня сфотографируй.
Я выполняю его просьбу и в свете вспышки вижу рожу сонного придурка, расплывшуюся в улыбке. Он напоминает мне в этот момент школьника, которого предки наконец-то привезли в зоопарк.
Фотоаппарат издает щелкающий звук и начинает жужжать.
– Что это? – спрашивает мой супермозговитый напарник.
– Пленка закончилась, перематывается.
Когда жужжание прекращается, я достаю пленку.
– Только не оставляй ее здесь, – говорит Олли, как будто я и сам не знаю, что должен забрать пленку с собой.
– Конечно, конечно, – отвечаю я. – Спасибо за совет. Я непременно возьму эту хрень с собой. А теперь, Кейт Мосс, давай-ка займемся делом.
Мы переносим аппаратуру в фургон, и я прошу Олли оставить в нем немного места и вернуться со мной на кухню, чтобы забрать там кое-что еще.
Мы запираем все, что награбили, в одном надежном месте и едем ко мне. Еще десять минут машинной тряски и моторного гудения, и Олли и я вносим в мою кухню и ставим на пустующее место холодильник.
– Неплохой, согласен?
Я вставляю вилку холодильника в розетку.
– Согласен. Лучше, чем твой старый, – отвечает Олли. – У тебя найдется что-нибудь перекусить?
– Не знаю, – говорю я. – Сейчас посмотрю. Молоко, апельсиновый сок и другие напитки я выкинул из холодильника в доме предков той девчонки, а все остальное оставил.
– Бифштексы, курица, креветки... Хочешь бутербродов с креветками? У меня есть сливочное масло.
– Не откажусь. С вином в самый раз!
Олли достает с моей встроенной в стену полки для спиртных напитков бутылку вина.
– Отрой его, а я пока займусь бутербродами. Штопор в складном швейцарском ноже на столе в гостиной.
– Что такое инсулин? – спрашивает Олли.
– Что? Где?
– Вот посмотри. Здесь полдюжины ампул.
Олли наклоняется и указывает на нижнюю полку раскрытого холодильника с шестью запаянными пузырьками инсулина и аптечкой.
– По-моему, какое-то лекарство, верно? Надо вводить эту дрянь в вену, – говорю я.
Олли берет одну из ампул и вертит в руке.
– Нам этот инсулин может для чего-нибудь пригодиться?
– Сомневаюсь, – отвечаю я.
– А не загнать ли нам его Родни?
– Родни? Зачем ему инсулин? Родни имеет дело в основном с травой, медикаменты его вряд ли интересуют. Эта дребедень никому не нужна, выброси ее, – говорю я. – Майонеза там случайно нет?
Инсулин принадлежал мамаше той девчонки, у нее были какие-то проблемы с уровнем сахара в крови или что-то в этом роде. Одну капсулу она носила с собой в сумке, а то, что лежало в холодильнике, было строго рассчитано для нее врачами на целый месяц. Короче, после возвращения в тот вечер домой она сразу попала в больницу и провела там полночи. А Джастин так распереживался, что вернул нам тридцать фунтов.
Пленку Олли отнес фотографу, и через час уже забрал снимки. Вышло довольно неплохо.
14
Приятная беседа
Не знаю, с какими целями эти твари постоянно забирают мои туфли. Пол здесь просто ледяной, а у меня в носках дырки. Надо не забыть в каком-нибудь изломов выбрать себе пар несколько подходящего размера. Хотя, может, и не стоит этого делать. В прошлый раз, когда я напялил на себя чужие носки, у меня на ногах повскакивали бородавки. Копы дали мне одно-единственное драное и грязное одеяльце. Если я подтягиваю его к подбородку, то ноги от ступней до коленей остаются неприкрытыми.
Твари!
Я подхожу к звонку и нажимаю кнопку. Жду некоторое время и жму второй, третий, четвертый, пятый раз, до тех пор пока у окошечка в двери моей камеры не появляется сержант Атуэлл.
– Чего тебе?
– Верните мне туфли, здесь чертовски холодный пол, – говорю я.
– Тебе известны правила.
– Да хрен с ними, с этими правилами. Ну же, я хочу надеть туфли – замерз как собака. Ладно, давай договоримся, за эту услугу позднее я с тобой расплачусь. За мной бутылка.
Сержант захлопывает окошко и возвращается к своим кроссвордам. Ублюдок. Для чего придуманы эти правила об обуви, я, убей, не пойму. Может, чертовы кретины боятся, что я задумаю обойти правосудие и повешусь на шнурках? Чушь собачья. Я никогда ничего подобного не сделаю. Во-первых, потому что я большая скотина и себе, любимому, ни за что не причиню вред, во-вторых, потому что у меня туфли без шнурков.
Я задумываюсь над этим вопросом. Интересно, если бы я был индийцем, забрали бы они у меня тюрбан? Нет, конечно, не забрали бы. Не посмели бы. Позволили бы мне его оставить из чувства уважения к моему вероисповеданию. А с помощью этой фигни я с большей легкостью покончил бы с собой, так ведь? Выходит, кругом царит расовая дискриминация, по-другому это безобразие не назовешь.
Я опять звоню.
Сержант Атуэлл вновь подходит к окошку.
– Что на этот раз?
– Вот если бы, предположим, я был индийцем, вы ведь не забрали бы у меня тюрбан, верно? – спрашиваю я.
– Тюрбан не забрали бы, а обувь не оставили бы ни при каких обстоятельствах, будь ты хоть сам чертов Махатма Ганди. Я не верну тебе туфли, и точка.
Сержант уходит.
Вообще-то я и не должен был находиться сейчас в этой проклятой каморке, ведь я согласился приехать в отделение по доброй воле. Все дело в том, что сегодня утром ко мне домой заявился Соболь и стал расспрашивать о деле, которое мы с Олли провернули вчера вечером. На его обычное запугивание: "Мы можем побеседовать либо здесь, либо в отделении", я согласился отправиться в отделение.
Меня такими трюками не возьмешь. Мне абсолютно все равно, где отвечать на их тупые вопросы, я в любом случае не намереваюсь поднимать лапки кверху и в чем бы то ни было сознаваться.
А что, в конце концов, такого страшного в поездке в отделение? Лучше я пару часиков посижу в холодной камере, чем выдам какую-нибудь информацию. Ничего со мной здесь не сделается. В "Билле" злодеи постоянно обделываются, когда им грозят прогулкой в отделение полиции. Они ломаются обычно в тот момент, когда Тош Лайнс произносит слова "Что ж, тогда вам придется отправиться в камеру. Посидите там до тех пор, пока не почувствуете, что готовы разговаривать". По прошествии двух минут заточения эти болваны уже колотят в дверь, мечтая побыстрее сдать братьев Джексонов из "Джэсмин Аллен Истейт". Только в реальной жизни все совсем не так.
На самом деле, если твоя вина ничем не подтверждена, копы имеют право продержать тебя в камере максимум двадцать четыре часа. Для более длительного заключения требуется специальный ордер, но подобное происходит крайне редко. К тому же я твердо знаю, что если меня держат в камере долго, значит, доказательств моей вины у них нет. В противном случае на опрос моих родственников и друзей и попытки выудить из них какие-нибудь сведения они не тратили бы столько времени. Если бы за полгода спокойного грабительства я был бы вынужден регулярно отсиживать в камере сутки, я с удовольствием это делал бы. Хоть на голове простаивал бы все двадцать четыре часа.
Как только меня сажают в камеру, тут же посылают за моим адвокатом, Чарли Тейлором, известным мастером вытягивать своих клиентов из разных передряг. Чарли пользуется уважением. Первое, что он просит тебя сделать, когда приезжает, так это заполнить несколько форм о предоставлении юридической помощи. Это правило распространяется у него на всех: что на садящих в камере, что на крутышек, приезжающих к нему в офис на "порше" и в костюмчиках от Армани.
Под словами "просит заполнить несколько форм" я имел в виду, естественно, "просит заверить заполненные им самим формы своей подписью". Работая со мной, в строках "сбережения", "доход" и "заработная плата" Чарли постоянно вынужден писать "нет". Когда мы встретились впервые и я прочел бумаги, которые он с моих слов заполнил, то пришел в полное недоумение. Согласно этим формам получалось, что у меня и гроша за душой нет, что по социальному статусу я приравниваюсь чуть ли не к беженцу и что пользоваться услугами адвоката просто не в состоянии. Но Чарли сказал ни о чем не волноваться, просто поставить подпись внизу. Я так и сделал. В общем-то за право получать его помощь бесплатно я и беженцем согласен считаться.
Я опять звоню.
– Чего еще?
– А ужин мне когда-нибудь принесут? – спрашиваю я.
– Ты сидишь здесь всего лишь час, – отвечает Атуэлл.
– Ну и что? Какое это имеет отношение ко времени ужина? По-моему, во внимание должны принимать не то, как долго я нахожусь в этой чертовой камере, а то, давно ли я ел в последний раз. Я ужинаю как раз в это время суток.
– Сейчас всего лишь три дня!
Сержант многозначительно смотрит на свои часы. С каким удовольствием я стянул бы их у него!
– У меня особый график работы, – говорю я.
– Если ты еще хоть раз нажмешь кнопку звонка, тогда мы с ребятами придем и испробуем на твоей башке свои новые дубинки. Понял?
Окошко захлопывается.
– Ты очень любезен! – ору я ему вслед.
Кто-то из камеры напротив поддерживает меня, выкрикивая "жирная свинья". Я тоже, когда увидел этого сержанта, сразу вспомнил о хорошо зажаренных котлетах из свинины.
Я опускаюсь на топчан и некоторое время грызу ногти. Мне становится интересно, достану ли я зубами до ногтей на ногах, и я пробую это проделать. Не выходит.
Следующий час, а может, полтора я рассматриваю надписи на стенах. Здесь представлен типичный набор: ругательства, чьи-то клички, обращения к Соболю, высказывания о том, чем он занимается с матерью, и даже стихотворение:
Ребята Соболя взбираются на холм, Лихих придурков рота. На десятерых один с умом, А девять – идиоты.
Пэм Айерс остался бы доволен. Рядом со стихотворением рисунок: пара копов мочатся на голову Соболю, у рта которого пузырь для реплик, как у персонажей карикатур и комиксов. Но в пузыре ничего не написано. По всей видимости, художник так долго пытался придумать, какие слова вложить в уста Соболю, что не успел вписать ничего.
Я снимаю ремень, пряжкой выцарапываю в пузыре "КРАСОТА" и подписываюсь ниже "БЕКС".
Неожиданно раскрывается окошко, в нем мелькает морда Атуэлла, дверь отворяется, и в камеру входит Соболь.
– Мистер Хейнс! А я тут как раз читаю про вас. Соболь оглядывает стены камеры и корчит недовольную рожу.
– Поднимайся. Приехал твой адвокат, – говорит он тоном человека, знающего свое дело. – А, черт... – Его взгляд падает на рисунок. – Ты намалевал?
– Уже давно. – Я смотрю на струйки мочи на нарисованной физии Соболя. – А что?
Соболь намеревается схватить меня за грудки и высказать все, что он обо мне думает, когда в разговор вмешивается Атуэлл.
– Этот рисунок нарисовали до его здесь появления.
– А это что такое? – шипит Соболь, указывая на выцарапанное мною слово "БЕКС".
– Что? – спрашиваю я недоуменно.
– Вот это! Здесь написано твое имя! – кипятится Соболь.
– Какое имя? – произношу я.
– Ладно, пошли.
Соболь толкает меня к двери и бросает Атуэллу:
– Стены в камере надо покрасить.
– Их покрасили неделю назад, – отвечает сержант. – Все эти художества появились здесь совсем недавно.
Мы общаемся с Чарли всего минут пять, в течение которых он заполняет формы и быстро рассказывает мне, что шло по телеку в ночь ограбления нами того дома. У него есть все копии "Радио Таймс" за прошедшие лет семь на случай, если я вдруг "забуду", какие передачи смотрел с вечера и до самого утра. Не знаю, вписываются ли подобные махинации в рамки закона. Вероятнее всего, нет, но для меня они удобны, так ведь?
Чарли также сообщает мне о том, что Соболь уже разговаривал и с Олли. Сюда он его не привез, потому что единственный свидетель, которого они где-то раздобыли, якобы видел в ту ночь только меня или кого-то на меня похожего, а еще фургон. Этого ему, видите ли, показалось достаточно, чтобы заняться расследованием и явиться ко мне домой.
– До процедуры опознания помалкивай, – предупреждает Чарли, хотя в предупреждениях такого рода я не нуждаюсь.
Соболь ведет нас обоих к тому месту, где для опознания подозреваемого уже собрались несколько парней, и говорит мне занять среди них любое место. Я оглядываю лица этих идиотов и чувствую себя оскорбленным до глубины души.
– Вы считаете, все эти типы похожи на меня? Да ни капельки они на меня не похожи!
– Встань в строй, и без разговоров, – говорит Соболь.
– Мой подзащитный недоволен условиями проведения процедуры опознания и считает, что в достоверности показаний, которые дадут свидетели по ее завершении, нельзя не усомниться, – отвечает за меня Чарли.
– Взгляните, например, вот на этого. Он лысый. Неужели кто-то может нас перепутать? – говорю я.
– Все должны надеть на головы шапки, они лежат на полу у ваших ног, – объясняет Соболь. – Тебя это тоже касается, – обращается он ко мне.
Я поднимаю черную шерстяную шапку с пола и ищу глазами парня, который походит на меня больше остальных, чтобы встать с ним рядом.
– А на этого взгляните!
Я указываю на чудака, у которого время от времени лицо сводит судорогой.
– Быстрее становись в ряд, Бекс, – говорит Соболь с легким раздражением.
Я смотрю на его лицо, и мне представляется, что оно залито мочой.
– Неужели я такой же урод? – спрашиваю я, переводя взгляд на третьего типа.
Тот явно нервничает. Наверняка студент, согласился принять участие в этой тупой игре за каких-нибудь десять фунтов. Он не знает, за что меня задержали, могли за изнасилование, могли за убийство или за нанесение тяжких телесных. Боится, наверное, что я когда-нибудь доберусь и до него. В конце концов я встаю за номером семь, написанным на полу краской.
Вводят свидетельницу. Я шепчу номеру шестому, стоящему рядом, что, если он подмигнет старушке в тот момент, когда она будет проходить мимо него – так сказать, немного собьет ее с толку, – то получит еще червонец. В ответ я не слышу ни звука.
Соболь несет старухе обычную чушь о том, что ей не следует торопиться, что она должна тщательно осмотреть каждого из нас и назвать какой-то номер только в том случае, если у нее не будет сомнений. Бабуся суетно кивает, прижимает сумочку к своим сиськам и приступает к делу.
На осмотр каждого из нас у нее уходит по нескольку минут: двигается она медленно, разглядывает подозреваемых с большой добросовестностью и что-то прикидывает в уме. К тому моменту, когда очередь доходит до седьмого номера, то есть до меня, она выглядит так, будто остро нуждается в чашке чая и удобном кресле. Я напрягаю мышцы лица и стараюсь чуть изменить его: немного опускаю челюсть, втягиваю щеки, сужаю глаза. От желания дать ей в морду у меня чешутся руки, но таким образом я сдал бы себя с потрохами, поэтому сдерживаюсь. Она перемещается дальше, к номеру восемь, потом поворачивается и идет к Соболю.
– Номер четыре. Я уверена. Четыре.
Чарли улыбается мне, а я, если честно, не особенно доволен. Эта дура выбрала того уродливого студента.
– По-моему, никаких сомнений больше не может быть, сержант Хейнс. Полагаю, мой подзащитный имеет полное право отправиться домой, – говорит Чарли Соболю и мистеру Россу, сидящим за столом с другой стороны.
– Не торопитесь, мистер Тейлор, мне бы хотелось задать вашему подзащитному еще несколько вопросов, – говорит Соболь. – Надеюсь, вы не возражаете?
– На каком основании вы удерживаете его здесь так долго? – спрашивает Чарли, засовывая в рот тонкую ароматную сигарку.
Я тоже достаю сигареты. Табак прекрасно помогает снять напряжение, но мы закуриваем практически одновременно вовсе не из желания расслабиться. Этот тактический маневр Чарли изобрел несколько лет назад. Дело в том, что Соболь не курит и, сидя на удалении нескольких футов от двух дымящих людей, через пару минут начинает кашлять. Потому-то и торопится поскорее покончить с этим делом, выскочить на улицу и подышать свежим воздухом. А в лучшем случае, являясь пассивным курильщиком, заболеет раком и отдаст Богу душу.
– У нас имеются показания двух свидетелей. Оба утверждают, что вчера ночью в момент ограбления видели синий грузопассажирский фургон вашего подзащитного у обочины дороги рядом с домом пострадавших людей.
– Фургон моего подзащитного?
Чарли смотрит на меня, приподнимая редкие брови.
– Это был не мой фургон, – заявляю я.
– Мой подзащитный утверждает, что ваши свидетели видели не его фургон у дома, который ограбили прошлой ночью, и что эти люди ошибаются, подобно тому, как, по всей вероятности, ошиблась во время процедуры опознания миссис Бейкер. Вероятно, имеющиеся у вас свидетельские показания недостоверны.
Я ценю Чарли еще и за это его качество. Он с полуслова понимает, что я имею в виду, и всегда умеет выразить мою мысль наиболее точными словами.
– А номера? – спрашиваю я.
– Ваши свидетели сообщили вам регистрационный номер того фургона, мистер Хейнс? – передает Соболю мой вопрос Чарли.
– На нем были номерные знаки, снятые накануне вечером с красного "эскорта", – говорит Соболь.
Наверное, мне давно следовало объяснить, что Соболем называют детектива Хейнса все наши ребята. Наверняка сам Соболь уверен в том, что эту кличку ему дали за способность выслеживать жертву, но он серьезно ошибается. Мы называем этого кретина Соболем, потому что у него очень крупные длинные зубы, заостренный нос и омерзительные маленькие усики, в общем, потому что он похож на соболя.
Я беру у Чарли тонкую сигарку и поджигаю ее от своей сигареты.
– Да что вы говорите? А на фургоне моего подзащитного вы нашли сегодня утром эти номерные знаки? Вероятнее всего, нет, – говорит Чарли, в то время как я выдуваю дымные колечки в лицо Соболю.
– Свидетели видели именно ваш фургон на месте преступления! – выкрикивает он. – Чем вы можете это объяснить?
– Это был не мой фургон, – отвечаю я. – Не мой.
– Полагаю, теперь мой подзащитный ответил на все ваши вопросы, сержант, – говорит Чарли. – Или вы хотели спросить у него еще о чем-то?
– Это был твой фургон! – говорит Соболь, тыча на меня пальцем. – И тот дом ограбил именно ты!
– Докажите, – отвечаю я, абсолютно спокойно откидываясь на спинку стула.
Никаких доказательств у него нет, я в этом уверен, так что не обязан ни в чем перед ним оправдываться. Я мог бы начать долго и нудно сочинять, что свой фургон одолжил вчера одному парню, с которым встретился в кабаке, но и не думаю напрягать мозги, потому что в этом нет никакой необходимости. Мы живем в демократической стране, где никто не имеет права называть человека виновным до тех пор, пока не доказал его вину. Это очень важно.
И вот, сидя здесь, перед Соболем, в глазах закона я считаюсь не менее порядочным гражданином, чем он. Независимо от того, что вчерашнее ограбление совершил действительно я, я невиновен, потому что никто не доказал мою к этому ограблению причастность. Ни к этому, ни к любому из предыдущих. И я не должен никому ничего объяснять, это Соболь обязан убедить меня в том, что я заслуживаю наказания. Если у него что-то не получается – его проблемы. Моя задача – просто спокойно сидеть перед ним и не предоставлять ему тех сведений, которые сам он не сумел собрать. Понимаю, я прекрасно понимаю, что мои рассуждения кажутся вам идиотскими, но не я понавыдумывал эти правила, я всего лишь извлекаю из них пользу.
– Мне бы хотелось, чтобы ваш подзащитный вернулся в камеру и еще раз как следует обо всем поразмыслил. Мы имеем полное право продержать его здесь еще двадцать часов, вы об этом знаете.
– Как пожелаете, мне все равно, – отвечаю я Соболю, не давая Чарли возможности произнести ни слова. – Надеюсь только, что меня все же накормят в этом чертовом месте ужином!
– Мой подзащитный имеет в виду, что, как бы долго вы ни продержали его взаперти, он не сможет ответить на заданные вами вопросы по-другому.
– Вот-вот, – подтверждаю я.
Соболь выдерживает продолжительную паузу, говорит "допрос окончен", выключает магнитофон, записывавший нашу беседу, и достает кассеты.
– Как понимать ваши слова? Я могу идти домой? – спрашиваю я.
Соболь, ничего мне не отвечая, просит Росса проводить нас с мистером Тейлором из кабинета. Я беру со стола одну из кассет (свою копию), представляя, как поставлю запись для Олли. Мы всегда так делаем после допросов: покупаем пива, какой-нибудь хавки и, ухохатываясь, слушаем эти кассеты.
– И на том спасибо, – говорю я Соболю. – А то я проголодался как собака – за весь день ничего не ел. Верите, Чарли, мне не принесли даже чего-нибудь попить? Интересно, сколько стоит в этом заведении чашечка чая?
– Недорого, – отвечает Росс. – Признания.
Это самое слово я услышал от него, как только прибыл сюда сегодня.
– Справедливая сделка! – восклицаю я.
– Пойдем, – говорит Чарли. – Пойдем. Мы направляемся к двери.
– Ты становишься все более смелым, Бекс, все менее осторожным, – шипит мне в спину Соболь. – А тюрьма давненько по тебе плачет. Обещаю, что собственноручно упрячу тебя за решетку.
– Очень интересно, за что? – отвечаю я, оборачиваясь. – Этот дом обчистил не я, я ведь сказал. Можно дать вам один совет, сейчас, когда магнитофон уже выключен? – Я вопросительно смотрю на Чарли и опять поворачиваюсь к Соболю. – Не для записи, а так, чисто по-человечески. Вы гонитесь не за тем зайцем, Хейнс. Этот дом ограбил не я.
Не для записи! Ха-ха! У копов все записывается. Этот их фокус – еще один трюк, рассчитанный на то, что когда магнитофон выключен, допрашиваемый ведет себя менее предусмотрительно и может проболтаться. В "Билле" эта ситуация постоянно обыгрывается: стоит Тошу сказать "не для протокола", и Дуг Макхард тут же выдает ему, что он ни сейчас, ни позднее не намеревается разговаривать о мистере Биге и партии украденных сигарет.
Я же не настолько туп. Когда кто-нибудь спросит у меня: "Если разговаривать не для записи, ты сделал то-то и то-то?", я отвечу: "Даже не для записи это сделал не я". Мне плевать на все эти оговорки. Раз уж я начат врать, то буду врать до конца, вот и все. Смешно битый час отпираться от всего на свете, тратя столько своего и чужого времени, а потом вдруг, когда кто-нибудь произнесет "не для протокола", взять и все испортить.