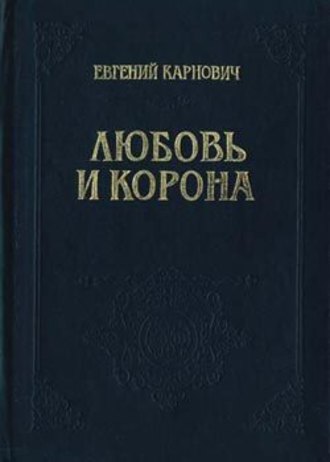
Е. П. Карнович
Любовь и корона
XIII
В то время, когда Ушаков и Трубецкой продолжали с обычным усердием расправляться в тайной канцелярии с недоброжелателями регента, Остерман, подавший ему мысль о вызове графа Линара в Петербург, приводил в исполнение этот план дипломатическим путем.
– Странные бывают противоположности в делах политических: вот почти три года тому назад на этом же самом месте мне приходилось сочинять депешу в Дрезден, чтобы сжить поскорее от нас графа Линара. Тогда герцог, проведав о любви к нему принцессы Анны, считал его главной помехой браку своего сына с принцессой, а теперь, наоборот, приходится приглашать Линара приехать поскорее в Петербург для того, чтоб он стал близким человеком к принцессе и своим влиянием на нее содействовал бы видам герцога…
Так размышлял кабинет-министр, сидя за своим письменным столом в том же самом, только еще более изношенном и более запачканном, красном – на лисьем меху – халате, который был на этом неряхе и скупце и в ту пору, когда он умудрялся сочинить слишком щекотливую депешу об отозвании Линара из Петербурга.
Перечитав и перечеркав несколько раз написанное, Остерман успел, наконец, составить весьма ловкую бумагу к польско-саксонскому министерству. В ней говорилось, что в прежнее время усложнившиеся и запутавшиеся политические обстоятельства в Европе заставляли русский двор держаться такой политики, которой не мог сочувствовать граф Линар, как самый ревностный оберегатель интересов его величества короля польского и курфюрста саксонского, вследствие чего и происходили некоторые взаимные недоразумения, и что так как, со своей стороны, петербургский кабинет всегда чрезвычайно высоко ценил графа Линара, то кабинету было крайне нежелательно, чтобы недоразумения эти отражались чем-либо на личности уважаемого посланника, почему тогда и признано было за благо – выразить дрезденскому двору предположение петербургского двора об отозвании графа Линара. Но так как теперь обстоятельства совершенно переменились, продолжал в своей депеше Остерман, то его высочеству регенту Всероссийской Империи было бы особенно желательно видеть около себя графа Линара, который, как опытный дипломат, без сомнения, успеет установить самые дружелюбные отношения и самое прочное согласие между обоими дворами – дрезденским и с.-петербургским.
Вместе с предложением об отправке этой депеши в Дрезден находили нужным сообщить и на словах графу Линару, через особое посланное к нему от Остермана доверенное лицо, чтобы Линар поспешил принять сделанное ему предложение и безотлагательно приезжал бы в Петербург, где его с большим удовольствием встретит не только регент, но и принцесса Анна Леопольдовна, и что со своей стороны герцог найдет возможность – если только пожелает того сам граф Линар – доставить ему и в русской службе самое блестящее и вполне обеспеченное положение. Неизвестно, до какой степени должны были доходить в этом случае намеки, подготовлявшие Линара к той не одной только политической, но еще и сердечной деятельности, которая была придумана для него находчивым Остерманом. По всей, однако, вероятности, приманка такого рода должна была быть высказана, хотя бы вскользь, так как прежние взаимные отношения между герцогом и Линаром были не настолько хороши, чтобы последний мог верить в искреннее желание первого видеть около себя Линара без каких-либо особых своекорыстных расчетов. Поторопиться с вызовом Линара в Петербург представлялось нужным регенту и по другим еще, новым соображениям. Прежде Анна жила со своим мужем в большом разладе и случалось так, что, несмотря на всю его угодливость и на все его ухаживания за ней, она не говорила с ним ни слова по целым неделям; но теперь стали замечать при дворе некоторую перемену в ее отношениях к принцу Антону.
Трудно сказать, отчего произошла в Анне такая перемена: от того ли, что после смерти императрицы прекратилось раздражавшее принцессу так часто и порою до последней крайности вмешательство тетки в ее супружескую жизнь, и Анна Леопольдовна теперь добровольно была готова обращаться с принцем поласковее, чего она не хотела делать прежде по принуждению? От того ли, что ей надоело, наконец, ничтожество ее мужа и она, почувствовав с переменой своего положения свою самостоятельность, захотела поднять его в общественном мнении и сделать это так, чтобы принц почувствовал, что он был обязан только одной ей? Увидела ли, наконец, Анна Леопольдовна, что домашние раздоры ослабляют ее и вместе с тем поняла, что хотя принц Антон сам по себе и ровно ничего не значит, но что он, как отец царствующего государя, став на стороне регента, придаст этому последнему еще более и силы, и обаяния? Принцесса вспомнила теперь слова, сказанные ей в утешение Волынским о будущей покорности перед ней тихого и смирного принца, и она уже на опыте могла вполне убедиться, что в лице ее мужа не может явиться опасный для нее соперник. Как бы то ни было, но действительное или только казавшееся сближение Анны с ее мужем начало сильно беспокоить герцога. Он и Остерман рассуждали, что если по приезде Линара в Петербург прежняя любовь и не оживет в сердце Анны, то они и в этом случае ровно ничего не потеряют, так как и в бытность Линара польско-саксонским послом при русском дворе они в состоянии будут по-прежнему направлять ход политических дел по собственному своему усмотрению. Если же, напротив, состоится ожидаемое ими сближение между Линаром и Анной, то граф, оставаясь в зависимости от регента, будет его покорным слугой. Если бы даже это последнее предположение и не осуществилось, то и тогда регент не будет в проигрыше: Линар отвлечет внимание принцессы от государственных дел; приятные с ним беседы она, наверно, предпочтет скучным докладам министров, затем отвыкнет мало-помалу от всякого участия в правлении, и, таким образом, единоличная власть герцога окончательно упрочится.
Кроме всего этого, при вызове Линара имелись в виду и другие коварные расчеты. Герцог мог возбудить в принце оскорбленное чувство супруга; мог напомнить ему, если бы это оказалось нужным, о прежней любви Анны к Линару и тем самым возобновить начавшие было стихать теперь раздоры между женой и мужем – раздоры, благоприятные для регента. Притом, во всяком случае, не трудно было бы пустить в ход молву о близости Линара с принцессой и такой молвой уронить ее в глазах русских, считавших Анну Леопольдовну женщиной скромной и безупречной в супружеской жизни.
В ожидании приезда на помощь к себе подготовленного для принцессы соблазнителя, запальчивый и заносчивый герцог тем не менее предпочитал бы обойтись без постороннего содействия, расправившись сам и с отцом, и с матерью царствующего государя. Регент начал с принца Антона. Он потребовал его к себе в Летний дворец и там при множестве лиц объявил принцу, что он приказал арестовать его адъютанта Грамотина.
– Я полагал, ваше высочество, – забормотал было принц, – что прежде чем сделать это распоряжение, вам угодно будет…
– Что мне угодно будет? – грозно вскрикнул герцог. – Уж не предварить ли вас об этом, для того чтобы дать вам возможность продолжать ваши злодейские замыслы?
Принц растерялся, а герцог заговорил с ним на плохом русском языке для того, собственно, чтобы было понятно всем присутствующим, что он хотел высказать принцу.
– Вы, ваше высочество, масакр, то есть рубку людей учинить хотите! Надеетесь на ваш Семеновский полк?.. Вы человек неблагодарный, кровожаждущий!.. Если бы вы имели в ваших руках правление, то сделали бы несчастным и вашего сына, и империю.
Говоря или, вернее сказать, крича это, герцог нагло наступал на пятившегося перед ним принца, и когда принц нечаянно положил левую руку на эфес своей шпаги, то регент принял это случайное движение за угрозу, и тогда бешенство его перешло все пределы.
– Вы хотите испугать меня вашей шпагой! – крикнул он. – Но знайте, что я не трус и готов «развестись» с вами поединком, – добавил надменно регент, ударив рукой по своей шпаге.
Все находившиеся в зале остолбенели от ужаса и поняли, что с расходившимся регентом шутить не приходится.
Униженный до последней степени и совершенно расстроенный, возвратился принц в Зимний дворец, но не сказал жене ничего о случившемся, боясь ее упреков за ненаходчивость и трусость перед регентом. Напрасно, однако, он думал сделать из этого тайну от принцессы. Вскоре по возвращении принца во дворец к нему явился брат фельдмаршала Миниха и предложил принцу от имени регента сложить с себя все военные звания. Разговаривать долго было нечего, так как Миних привез заготовленное заранее прошение, которое оставалось только подписать принцу, и он, запуганный герцогом, под этим прошением, обращенным к его сыну, безоговорочно подписался: «Вашего императорского величества нижайший раб Антон Ульрих». В прошении этом, после упоминания о тех военных званиях, которые он получил от покойной императрицы, говорилось, между прочим, от имени принца следующее: «А понеже я ныне, по вступлении вашего императорского величества на всероссийский престол, желание имею помянутые мои военные чины низложить, дабы при вашем императорском величестве всегда неотлучным быть, того ради всенижайше прошу…». Здесь следовало прошение об увольнении с присовокуплением просьбы о том, «дабы всемилостивейшее определение учинить, чтобы порозжия чрез те места и команды паки достойными особами дополнены были».
В то время, когда мамка убаюкивала императора, регент с довольным выражением лица подписывал, вследствие этого прошения, от имени Иоанна III указ военной коллегии об отставке его любезнейшего родителя и в просьбе которого, как заявлялось в указе, не мог отказать государь-младенец.
«Хорошо отомстил я ей, – думал регент, – она хотела быть неразлучно с своим сыном, пусть же теперь увидит, что я не придаю этому никакого значения и даже согласен, чтобы при нем был неотлучно и его родитель. Пусть эта чета наслаждается своим семейным счастьем; посмотрим, что будет!..»
С изумлением узнала принцесса о поступках регента с ее мужем, и давно накипевшая у нее злоба обратилась теперь в неукротимую ненависть. Казалось, что обычная вялость ее исчезла, она готова была идти на все опасности, и в первый еще раз в оскорблении, нанесенном ее мужу, она увидела свой собственный позор и поклялась в душе отомстить герцогу за то унижение, которое ей приходилось теперь испытывать.
После отставки принц Антон утратил всякое значение, прекратились все почести, которые воздавались ему прежде как отцу государя; никто уже не целовал его руки, как это делалось прежде, но все униженно лобзали руку герцога. Сенат издал уже указ о титуловании герцога «высочеством», о чем и было объявлено в Петербурге с барабанным боем. Все принизились перед герцогом, и даже самые преданные и более смелые люди перестали ездить к принцу и принцессе.
Вследствие всего этого находившиеся в Петербурге дипломатические агенты были поставлены в большое затруднение, как держать себя в отношении принцессы и ее мужа. Французский посланник маркиз де ла Шетарди обратился к своему двору с депешей, в которой спрашивал: должен ли он оказывать принцессе Анне те же почести, какие воздавались ей прежде лишь из угодливости перед покойной царицей, или же считать ее только принцессой Брауншвейгской? Ясно было, что теперь принцесса не только не приобрела большого значения, но, напротив, даже потеряла и прежнее. Маркиз спрашивал наставления и о том, как поступить ему в отношении к принцу Антону? Но самый щекотливый пункт в этой депеше был тот, который касался не дипломатических недоразумений, а сердечных дел герцога Курляндского.
«В упоении своей власти, – писал маркиз, – у герцога может явиться намерение ухаживать (de tenir sa cour) за дочерью Петра I. Каким образом я должен поступать в этом случае?» Как ни странным мог показаться версальскому кабинету этот новый вопрос, но он был вполне уместен со стороны тонкого и предусмотрительного дипломата. Общественный говор в Петербурге давно уже твердил, что обладать пленительной Елизаветой было заветной мечтой герцога, который рассчитывал на скорую кончину своей болезненной и расслабленной Бенигны, намереваясь в случае этой утраты предложить свою руку цесаревне Елизавете. Так толковали одни, другие же, находя, что обрюзгший пятидесятилетний герцог несколько стар для того, чтобы быть мужем цветущей Елизаветы, замышляет обвенчать ее со своим сыном. Но в этом последнем случае оказалась бы еще более неблагоприятной разница между годами жениха и годами невесты, так как принц Петр Курляндский был моложе Елизаветы на пятнадцать лет, тогда как сам герцог был старше ее восемнадцатью годами. Следственно, в отношении возраста брак герцога с цесаревной представлялся более подходящим, нежели брак с ней его старшего сына.
Молва об особом расположении герцога к цесаревне подтверждалась все более и более.
Он имел с цесаревной частые беседы, длившиеся нередко по нескольку часов.
В то время, когда Анна испытывала от него ряд и сильных, и мелких неприятностей, он оказывал Елизавете чрезвычайное внимание, и Анна ясно увидела в Елизавете опасную себе соперницу. До Анны Леопольдовны стали доходить вести, что все делаемые ей со стороны герцога притеснения клонятся к тому, чтобы принудить ее, под видом собственного ее желания, уехать вместе с мужем в Германию. Рассказывали ей также, что в одном многолюдном собрании, в котором была и Елизавета, герцог, жалуясь на неприязненные к нему отношения принцессы, не стесняясь нисколько, заявил, что если она и впредь будет держать себя так, как держит теперь, то он вышлет из России в Германию и ее, и ее мужа, и ее сына, и вызовет в Россию герцога Голштинского, родного внука Петра Великого. Опасно было пренебрегать угрозами регента, а обстановка принцессы была такова, что ему не трудно было привести их в исполнение. После удаления от службы принца Антона не было у нее никакой внешней поддержки, так как начальство над всеми гвардейскими полками получили приверженцы герцога: сила была на его стороне, и справиться с ним казалось делом нелегким.
XIV
Для постоянных сношений с принцессой регент избрал фельдмаршала графа Миниха. Казалось, этот человек как нельзя более должен был соответствовать такому назначению. После смерти императрицы он явился самым усердным сторонником регентства герцога, который потому и мог вполне положиться на него, как на самого преданного человека. Независимо от этого, Миних имел и другие качества, пригодные для успешного исполнения возложенной на него обязанности, а пожилые годы фельдмаршала – ему было уже под шестьдесят лет – отклоняли всякую мысль о возможности нежных отношений между ним и Анной Леопольдовной. Ошибочно было бы, впрочем, представлять Миниха старым, суровым воином, утомленным трудными походами и боевыми подвигами. Напротив, он был еще пылок, как юноша, и слишком чувствителен к прелестям молоденьких женщин; черты лица его были прекрасны, он был высок ростом, строен и развязен, а в движениях его было много приятности и ловкости. Он отлично танцевал и казался гораздо моложе своих лет. Миних считался одним из самых любезных кавалеров петербургского двора и слыл большим дамским угодником. Когда находился он в обществе дам, то старался выказывать веселость и ловкость, отзывавшуюся, впрочем, немецкой сентиментальностью. С томными глазами прислушивался он к чарующему его голосу женщины и, наслаждаясь ее разговором, вдруг приходил в восторг, схватывал руку своей собеседницы и покрывал ее поцелуями.
Такого приставника назначил регент к принцессе, и Миних не только по делам, но и так, без всякой надобности, пользуясь правом свободного входа к принцессе, очень часто навещал ее. Посещение Анны Леопольдовны было для старого любезника тем более приятным развлечением, что он у нее постоянно встречался с Юлианой Менгден, веселой, бойкой и говорливой девушкой. Принцесса еще и прежде чувствовала расположение к фельдмаршалу; в нем ей нравились его отвага и решительность, и как будто какой-то тайный голос подсказывал ей, что только один он может переменить к лучшему ее настоящую печальную участь. Предчувствие не обманывало ее: в ту пору – в пору политических измен, перебежек с одной стороны на другую, выдач друзей и приятелей, продажности самых высоких чувств – Миних, при своем ничем не удовлетворимом честолюбии, не составлял исключения в хорошем смысле. Регентство герцога Курляндского он поддерживал единственно из личных расчетов, воображая, что только лишь власть будет в руках герцога, он, Миних, может получить от него все, что пожелает; Миних предполагал, что герцог будет носить только титул, а вся власть регента будет принадлежать не кому другому, как ему, фельдмаршалу. Миних хотел руководить делами в звании генералиссимуса всех сухопутных и морских сил. Все это не могло понравиться регенту, знавшему Миниха слишком хорошо и слишком опасавшемуся его, для того чтобы решиться поставить фельдмаршала в такое положение, в котором он мог бы вредить ему. Поэтому регент не исполнил ни одной из его просьб. Впрочем, при жизни императрицы Анны честолюбивые виды фельдмаршала простирались еще далее. Когда он вступил с войском в Молдавию, то еще до покорения этой страны просил сделать его молдавским господарем и, по всей вероятности, он успел бы в этом, если бы Молдавия осталась за Россией. Вынужденный по заключении мира оттуда вернуться на стоянку на Украину, он задался гораздо более странным намерением: он пожелал носить титул герцога украинского и подал об этом прошение через Бирона. Выслушав доклад по этой просьбе, императрица насмешливо сказала:
– Миних еще очень скромен; я думала, что он попросит титул великого князя московского.
Никакого другого ответа не дала государыня на это прошение, и о нем не было уже более речи, но честолюбие по-прежнему кипятило Миниха.
После услуг, оказанных герцогу Минихом, в фельдмаршале возродились новые затеи, но он вскоре должен был разочароваться и теперь, негодуя на регента, направил свои смелые замыслы в совершенно противоположную сторону, сделавшись из усердного приверженца герцога заклятым его врагом.
– Отчего вы, ваше высочество, всегда дрожите, когда является к вам герцог? – спросил однажды Анну Леопольдовну Миних после ухода от нее регента, который, войдя к ней, сказал ей несколько сухих отрывистых фраз и вышел поспешно из комнаты.
Принцесса не отвечала ничего.
– Вы, верно, его очень боитесь?..
На глаза Анны Леопольдовны навернулись слезы.
– Напрасно, совершенно напрасно, – ободрительно заговорил Миних.
– Это ничего более, как старая причина бояться герцога, когда я была молоденькой девочкой… – заминаясь, проговорила принцесса.
– То было совершенно другое время, – перебил Миних, – тогда ваше высочество были поставлены в иное положение, а теперь?
– Что же теперь? – живо спросила принцесса, смотря пристально в глаза фельдмаршалу. – Теперь, кажется, еще хуже…
– Последние ваши слова только отчасти справедливы… Простите меня, ваше высочество, если я скажу вам прямо, что вы сами виноваты, позволяя регенту поступать с вами и с принцем так, как поступает он. Ведь в манифесте или в уставе о регентстве сказано, чтобы регент императорской фамилии достойное и должное почтение показывал и по их достоинству о содержании оных попечение имел. А разве регент исполняет это?
– Ну что же мне делать: принц только попытался возразить регенту, и чем кончилась эта попытка? Я же осталась виновата, за то, что подбила его к этому.
– Между принцем и вами – большая разница, и что герцог решится позволить себе в отношении к принцу, того он никак не посмеет сделать в отношении к вам, как по вашим личным правам, так и из уважения к вам, как к женщине…
– О, герцог не так любезен с женщинами, как вы, фельдмаршал.
– В этом я с вами, ваше высочество, совершенно согласен. В отношении прекрасного пола я всегда был и до конца жизни останусь средневековым рыцарем, и вашему высочеству, как даме моего сердца, стоит только пожелать – и моя шпага, и моя жизнь будут у ваших ног…
Говоря это, Миних встал с кресел и, приложив правую руку к сердцу, почтительно склонился перед принцессой.
– Но что же вы можете сделать с герцогом? – недоверчиво и с грустной улыбкой спросила Анна.
– Арестовать его, – твердым голосом проговорил Миних.
– Арестовать герцога? Арестовать регента? – с изумлением вскричала принцесса, вскочив с кресел.
– Да… и во всякое время, когда только вашему высочеству угодно будет приказать это, – сказал Миних с такой уверенностью, как будто речь шла о каком-нибудь ничего не стоящем деле.
– Вы шутите, любезный фельдмаршал, это невозможно…
– Я докажу вашему высочеству, что возможно…
– Притом вы…
– Вам, вероятно, угодно сказать, что я сторонник регента, что я поддержал его в трудную минуту, – это правда. Но, ваше высочество, – продолжал сентиментальный старик, – Миних прежде всего рыцарь, и если он видит страдания и слезы молодой женщины, он забывает все; для него тогда не существует никаких личных расчетов. Притом все чувства и привязанность должны замолкнуть, когда этого требует благо государства. Положитесь вполне на меня, и вы увидите, что торжество будет вскоре на вашей стороне. Обратите, ваше высочество, внимание на те последствия, какие могут произойти, если герцог останется регентом до совершеннолетия вашего сына. Он еще в звании обер-камергера стоил империи несколько миллионов, а теперь, сделавшись полновластным правителем на шестнадцать лет, он, вероятно, вытянет еще и из казны, и из народа шестнадцать миллионов, если не более. Притом, так как одним из пунктов завещания покойной императрицы герцог и министры уполномочены по достижении вашим сыном семнадцатилетнего возраста испытать его способности и обсудить, в состоянии ли он управлять государством, то никто не сомневается, что герцог найдет средство представить императора слабоумным, и тогда герцог, пользуясь своей властью, возведет на престол сына своего, принца Петра, бывшего жениха вашего высочества. Я говорю с вами откровенно, и потому в настоящую минуту должен сообщить вам, что безумная дерзость герцога, по случаю предположенного им брака, доходила даже до того, что на ваше высочество были возводимы самые недостойные клеветы, говорили, что граф Линар…
– Прекратите этот разговор, фельдмаршал, – торопливо вскрикнула принцесса, с трудом сдерживая охватившее ее волнение, – об этом поговорим в другое время, а теперь вы мне так убедительно высказались насчет моих обязанностей, как матери государя, что я готова… Нет… Дайте мне время подумать хоть до следующего вечера.
– Тем лучше, я сегодня обедаю у герцога и постараюсь выпытать от него те сведения, которые могут мне пригодиться. Позвольте мне только явиться к вам во всякое время дня и ночи: может неожиданно выдаться удачная минута, и неблагоразумно, чтобы не воспользоваться ею. Согласны вы, ваше высочество, дать мне такое разрешение?
Принцесса немного призадумалась.
– Согласна! – сказала она решительным голосом. – Я вполне полагаюсь, фельдмаршал, на вашу смелость и на ваше благоразумие.







