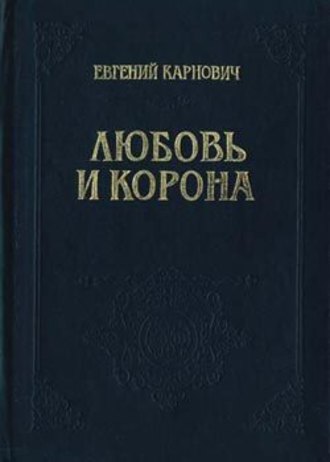
Е. П. Карнович
Любовь и корона
XLI
Наступило в Петербурге тоскливое январское утро с оттепелью и туманом, и при медленном рассвете, почти еще в потемках, рабочие принялись сколачивать эшафот перед зданием сената. На приготовленный ими эшафот поставлены были простой деревянный стул и плаха – низкий толстый обрубок дерева. Готовилось исполнение смертной казни, и толпы любопытных спешили к зданию сената, в ожидании зрелища кровавого, но вместе с тем и потешного для многих. Сенат помещался тогда в так называемых двенадцати коллегиях, где ныне университет, и собравшийся на этом месте народ с нетерпением ожидал вывода преступников из ворот сената, в который они были доставлены еще ночью. В окнах коллегий виднелось множество зрителей, между которыми находились и представители иностранных держав с чиновниками посольств.
На колокольне Петропавловского собора пробило девять часов. Ворота сенатского здания растворились, и из них выступило печальное шествие. Оно открывалось сильным отрядом гренадеров, перед которыми шли барабанщики, бившие безостановочно «сбор». За этим отрядом везли впереди всех, в простых крестьянских санях, графа Андрея Ивановича Остермана. Голова его, поверх растрепанного парика с осыпавшейся пудрой, была покрыта дорожной шапкой, на нем был его обыкновенный домашний наряд – красный, доходивший до пяток, подбитый лисьим мехом шлафрок, неизменно служивший ему десятки лет. За санями, в которых ехал Остерман, шли пешком фельдмаршал граф Миних, вице-канцлер граф Головкин, президент коммерц-коллегии барон Менгден, обер-гофмаршал Левенвольд и «статский действительный советник» Тимирязев. Всех их, сопровождаемых и спереди, и сзади, и с боков гренадерами с примкнутыми штыками, ввели в обширный круг, составленный из плотно сомкнутой цепи солдат. Барабанный бой замолк. Четыре солдата подняли Остермана из саней и повели его на эшафот. Там они посадили его на стул. Тогда на эшафот взошел сенатский секретарь и начал читать Остерману смертный приговор. Расслабленный старик обнажил голову и с невозмутимым хладнокровием слушал чтение приговора. Только по временам он взглядывал на небо и тихим движением головы выражал свое изумление при исчислении содеянных им государственных преступлений. Чтение приговора кончилось. Солдаты подступили к Остерману, повалили его навзничь и потом приподняли вверх его голову, которую один из палачей, сдернув со старика парик, схватил за волосы и притянул на плаху. Спокойное выражение на лице Остермана не изменилось нисколько и в эти ужасные минуты; заметно было только дрожание в руках, которые он вытянул вперед через плаху.
– Чего попусту руки суешь, – крикнул заботливо один из бывших на эшафоте солдат, – не их будут рубить, а голову!
Остерману подобрали руки и сложили их крестообразно на груди. Между тем другой палач принялся медленно вынимать из кожаного мешка топор и, потрогав рукой его лезвие, стал подле плахи и замахнулся топором, готовясь, по команде секретаря, нанести Остерману смертельный удар.
– Бог и всемилостивейшая государыня даруют тебе жизнь! – громко произнес секретарь. При этих словах один из палачей опустил топор вниз, а другой выпустил из рук волосы Остермана. Солдаты и палачи приподняли его. Остерман и теперь оставался так же спокоен, как и прежде.
– Отдайте мне мой парик и мою шапку, – сказал он окружавшим его. Ему подали их. Не торопясь нисколько, он накрыл ими голову и, не выказав ни малейшего волнения, сам застегнул ворот рубашки и шлафрока. Солдаты понесли его с эшафота в сани.
В толпе пронесся гул ропота: ожидания кровожадной черни не исполнились; но солдаты ласково обходились с осужденными: обращаясь к кому-либо из них, они почтительно называли его «батюшкой» и выказывали к ним сострадание вообще, в особенности же к Миниху, который при переходе из крепости в сенат шутил с конвойными и говорил им, что и на плахе они увидят его таким же молодцом, каким видывали в сражениях.
Действительно, если Остерман выказал невозмутимое спокойствие, то Миних, не зная еще о том, что его ожидает помилование, и, следовательно, готовясь к смерти, как бы рисовался своим бесстрашием. Тогда как все приговоренные к смертной казни обросли во время их заключения в крепости бородами и были в изношенных платьях, один только Миних был выбрит и сохранил обычную щеголеватость в своей одежде. Гордо и презрительно, со всегдашней своей величавой осанкой, он беспрестанно озирался кругом, как будто все происходящее нисколько не касалось его. Твердыми шагами взошел он на эшафот и там с рассеянным видом выслушал сперва смертный приговор, а потом и объявление о помиловании.
На лице Левенвольда, вошедшего на эшафот после Миниха, выражалась сильная скорбь и были видны следы тяжкой болезни, но и он сохранял хладнокровие и твердость. Только Головкин и Менгден оказались малодушными: они заметно дрожали всем телом и, точно стыдясь, закрывали свои лица одеждой до самых глаз.
После того как все осужденные перебывали на эшафоте, чтобы выслушать там сперва смертный приговор, а потом помилование, Миниха первого вывели из круга и в придворном возке, в сопровождении четырех гренадеров, отправили в Петропавловскую крепость. За ним повезли и его сотоварищей по несчастью, отдельно каждого в деревенских санях.
Всех, которым был объявлен теперь приговор, судили в сенате беспощадно, даже не по подлинному делу, а только по экстракту, препровожденному в сенат из тайной канцелярии и составленному там так, что обвиняемым не представлялось никаких способов даже к малейшему оправданию. Они были приговорены сенатом: Остерман – к колесованию, Миних – к изломанию членов и к отсечению головы; к последнему роду казни присуждены были также: Головкин, Левенвольд и Менгден. Следствие над ними велось с большим пристрастием не в их пользу, оно продолжалось с небольшим месяц и притом по приготовленным заранее вопросам. Следствие над ними кончилось 13 января, а 14 января состоялось повеление императрицы «судить их по государственным правам и указам». В следственной комиссии, заседавшей во дворце, не видимой никем присутствовала и Елизавета. Она, находясь за устроенной перегородкой, могла следить лично за ходом всего дела, сущность которого состояла в обвинении подсудимых в намерении предоставить императорскую корону принцессе Анне, отстранив навсегда от престола цесаревну.
На другой день после объявления приговора, ранним утром приказано было отправить осужденных в ссылку с тем, чтобы на рассвете следующего дня никто из них не оставался в Петербурге. Исполнение этого распоряжения возложено было на сенатора князя Я. П. Шаховского. При этом женам осужденных объявлено было, что они, если хотят, могут отправиться с мужьями в ссылку, и все они показали в этом случае пример самоотвержения, заявив желание воспользоваться данным им разрешением.
Наступили сумерки, и все было готово для отправки Остермана; сани, назначенные для него, стояли у крыльца той казармы, в которой он содержался. Между тем старик лежал и громко стонал, жалуясь на подагру. Солдаты подняли его с постели и бережно отнесли в сани; сюда же села и жена его Марфа Ивановна, причинявшая ему в былое время своей привередливостью много горя, но теперь оказавшаяся безгранично преданной ему подругой. Под прикрытием надежного конвоя повезли Остермана в Березов, где он окончил свою превратную жизнь. Вдова его была возвращена из ссылки и умерла в 1781 году.
После Остермана стали отправлять Левенвольда. Когда князь Шаховской вошел в большую и темную казарму, где сидел Левенвольд, к ногам сенатора, обнимая его колени, упал какой-то старик в дрянной, запачканной одежде, с седой бородой и с такими же всклоченными волосами, с впалыми щеками и бледным лицом. Он рыдал и говорил так тихо, что нельзя было разобрать его слов. Шаховской принял его за мастерового и велел вести себя к бывшему графу Левенвольду. Оказалось, однако, что эта жалкая личность и был еще так недавно блиставший при дворе обер-гофмаршал, граф Левенвольд, которому теперь изменила твердость, выказанная им при публичном объявлении приговора.
«В тот момент, – говорит в своих «Записках» Шаховской, – живо предстали в мысль мою долголетние его всегдашние и мной виденные поведения в отменных у двора монарших милостях и доверенностях, украшенного кавалерийскими орденами, в щегольских платьях и приборах, в отменном почтении перед прочими». С надрывающимся сердцем исполнил Шаховской свою обязанность и отправил Левенвольда в Соликамск, где он и умер 22 июля 1758 года, прожив шестнадцать лет в самом тяжелом изгнании.
Дошла очередь и до Миниха, этого, по словам Шаховского, «героя многократно с полномочной от монархов доверенностью многочисленных войск армией командовавшего, многократно над неприятелем за одержанные победы торжественными лаврами венчанного, печатными в отечестве нашем похвальными одами Сципионом, паче римского, восхвалявшего». И в эти роковые минуты Миних выдержал себя. Когда к нему вошел Шаховской, он стоял у стены, противоположной входу, спиной, смотря в окно. При входе князя Миних обратился к нему и глядел такими смелыми глазами, какими окидывал, бывало, поле битвы. Он бодро пошел навстречу Шаховскому и остановился перед ним в ожидании, что тот будет говорить. Шаховской объявил указ о ссылке, и на лице Миниха выразилось не столько печали, сколько досады. Он набожно поднял руки и, возведя вверх глаза, сказал твердым и громким голосом:
– Благослови, Боже, ее величество и ее государствование! – Затем, помолчав немного и обращаясь после того к Шаховскому, сказал: – Теперь, когда мне ни желать, ни ожидать ничего не осталось, я прошу только о том, чтобы для спасения души моей от всякой погибели, был со мной отправлен пастор, – и поклонившись вежливо Шаховскому, спокойно ожидал дальнейшего распоряжения.
Между тем жена его, скаредная немка, бросавшая тень на фельдмаршала своими поборами, хлопотала о домашнем скарбе. В дорожном платье и в капоре, с чайником и разной утварью в руках, она, скрывая волнение, готовилась к отъезду. Миних отправился в Пелым, откуда, по распоряжению императрицы Елизаветы, возвращался Бирон с «почетным» паспортом. На пути, при перемене лошадей на одной станции, Миних и Бирон встретились и только молча посмотрели один на другого. Двадцать лет протомился Миних в ссылке: он был возвращен в Петербург императором Петром III и умер в царствование Екатерины II, в 1767 году, 85 лет от роду, сохранив до глубокой старости изумительную бодрость.
Наступила ночь, и Шаховской, по его выражению, «нагрузя себя новыми мыслями», отправился к своему бывшему милостивцу и покровителю, графу Головкину, для исполнения и над ним состоявшегося приговора. Бывший вице-канцлер был неузнаваем: горе сломило его. Он стонал от хирагры и подагры и сидел неподвижно, владея только левой рукой. Печально и жалостно взглянув на Шаховского, он слабым голосом проговорил: «Тем более несчастнейшим себя я нахожу, что воспитан в изобилии и что благополучие мое, умножаясь с летами, возвело меня на высокие ступени, и я никогда не вкушал прямой тягости бед, коих сносить теперь сил не имею».
Головкин отправился в Собачий Острог. Он умер в ссылке в ноябре 1755 г. насильственной смертью. Жена его Екатерина Ивановна, урожденная княжна Ромодановская, близкая родственница Анны Леопольдовны, последовала за ним в изгнание, перенося мужественно все несчастья и лишения. После смерти мужа она жила в Москве и, прославленная за свои добродетели, умерла там в 1791 году, дожив до девяноста лет.
Таким образом покончила Елизавета с теми, кого она считала людьми преданными правительнице, а следовательно, и главными своими врагами. В далекой ссылке они были безопасны для нее. Другие, незначительные личности испытали тоже тяжесть опалы. Граматин был понижен чинами, «понеже до сего в катских руках был», т. е. по той причине, что он при Бироне подвергся пытке за преданность Анне Леопольдовне. Аргамаков был отставлен от службы с тем, чтобы никуда впредь не определять. Акинфьев был переведен в армейские полки с понижением чина. Дальнейшая жизнь самого ревностного приверженца правительницы – Ханыкова – неизвестна.
Ожидания примирения со Швецией после низвержения Анны Леопольдовны оправдались. По поручению императрицы Елизаветы, Шетарди немедленно известил шведского главнокомандующего Левенгаупта о перемене правительства, с добавлением, что государыня крайне сожалела бы, если бы при начале ее царствования была пролита кровь шведов и русских. В то же время в Стокгольм был отправлен русский уполномоченный для мирных переговоров. Шведские пленные были освобождены, а генералу Кейту было предписано не нападать на шведов.
В противоположность той отчужденности, какой держалась правительница в отношении войска и народа, императрица объявила себя полковником всех гвардейских полков и капитаном роты, известной потом под именем лейб-компании, составленной из гренадеров, сопровождавших императрицу в ее ночном предприятии. Чтобы привлечь народ, Елизавета в течение первых шести дней после ее воцарения раздавала бедным, собиравшимся перед дворцом в числе шести-семи тысяч человек, по 50 копеек на каждого.
Казалось, власть Елизаветы была окончательно упрочена, когда возникло дело о заговоре Лопухиных. Их сочувствие нечастной правительнице, выражаемое только на словах, было выставлено как злодейское государственное преступление. «Хотели, – объявляла Елизавета в своем манифесте, изданном 29 августа 1743 года, – возвести в здешнее правление по-прежнему принцессу Анну с сыном, которые к тому никакого законного права не имели и иметь не могут. Хотели привести нас в огорчение и в озлобление народу». Виновными по этому делу оказались: генерал-поручик Степан Лопухин, жена его Наталья, их сын Иван, графиня Анна Бестужева, сестра бывшего вице-канцлера Головкина, и Софья Лилиенфельдт, находившаяся фрейлиной при Анне Леопольдовне. Они обвинялись, между прочим, в том, что «прославляли принцессу». К этому делу был прикосновен и австрийский посланник маркиз Ботта, который «вмешивался во внутренние беспокойства империи». Статс-даме Лопухиной и графине Бестужевой сперва урезали языки, а потом, наказав их кнутом, отправили в далекую ссылку. В ссылку же препроводили и бывшую фрейлину, высеченную предварительно плетьми. Все эти знатные дамы, во время производившегося над ними следствия, побывали в застенке тайной канцелярии на «встряске» под ударами кнута.
Этот так называемый заговор был открыт в марте месяце 1743 года и произвел в Петербурге сильную тревогу. Секретарь саксонского посольства Пецольт писал: «Во дворце бодрствуют мужчины и женщины, боясь разойтись по спальням, несмотря на то, что у всех входов и во всех комнатах стоят часовые. Именитые особы не ложатся в постель на ночь, ожидая рассвета и высыпаясь днем. Вследствие этого происходит беспорядок в делах и в докладах и оказывается неурядица в общем государственном управлении».
Елизавета, встревоженная этим событием и беспрестанно запугиваемая окружавшими ее царедворцами, а также и иностранными посланниками, видела в невиноватой уже ни в чем лично Анне Леопольдовне главную причину всех своих беспокойств и потому, покончив с мнимыми заговорщиками, она вознамерилась привести в исполнение те советы, какие давались ей как относительно самой правительницы, так и ее семейства…
XLII
Поселенное в Раненбурге в исходе 1743 года брауншвейгское семейство, кроме тоски изгнания, начало испытывать там и беспрестанные лишения даже в предметах первой необходимости. Как ни тяжела была для бывшей правительницы неожиданно происшедшая в судьбе ее роковая перемена, но она пока могла переносить несчастье: подле нее был ее лучший друг – Юлиана, не терявшая никогда обычной своей веселости и тем поддерживавшая упадавшую бодрость Анны Леопольдовны. Молодых изгнанниц не оставляла также надежда на перемену к лучшему; однообразные дни коротали они в задушевных беседах, и порой Юлиана подсмеивалась даже над той западней, в которую попали и она, и ее беспечная повелительница. Бывшая фрейлина радовалась и развязке своих отношений к графу Линару, потому что брак, на который она соглашалась только из слепой привязанности к Анне, был теперь расстроен посторонними обстоятельствами, и Юлиана была довольна тем, что личной и, по ее мнению, только временной неволей она освобождалась навсегда от предстоявших ей тягостных супружеских уз. Принц Антон в изгнании держал себя в отношении к жене «смирным и тихим» человеком, каким он был и прежде. Он никогда не укорял Анну за то, что она, пренебрегая его советами, погубила и себя, и его, и все их семейство. Когда заходила об этом речь, он, вздохнув, уходил от жены с набегавшими на его глаза слезами. На постигшее его несчастье он смотрел смиренно, как на кару Божью, и надеялся на заступничество за него и за его семейство перед императрицей со стороны родственного ему венского двора. Вообще все – и принц, и принцесса, и Юлиана утешались мыслью, что над ними разразилась только временная невзгода, что страдания их скоро кончатся и что для них начнется свободная и спокойная жизнь, хотя уже и не при той блестящей обстановке, какой они пользовались и которой Анна Леопольдовна никогда не прельщалась. Одно только обстоятельство начинало несколько тревожить их: их как будто совсем позабыли в изгнании, а забвение в настоящем случае, как казалось им, могло быть не столько хорошим, сколько дурным предзнаменованием.
Любовь и привязанность Анны к Линару слабели постепенно. При всем ослеплении бывшей правительницы Линаром она не могла не видеть в нем одного из главных, хотя и неумышленных виновников ее падения; но в то же время ей приходилось укорять всего более себя за то, что она не последовала советам Линара относительно решительной расправы с Елизаветой. По временам, когда в воображении Анны оживала привлекательная личность Линара, когда ей припоминалось то время, которое она проводила с ним, она впадала в глубокое уныние, ее одолевала невыносимая тоска и она была готова отдать все надежды на лучшую будущность за то только, чтобы возвратить хоть на одно мгновение утраченное ею счастье. Юлиана употребляла все свое влияние для того, чтобы заглушить сердечные страдания своей подруги. В разговорах с Анной она старалась убедить ее, что Линар любил не столько ее, как женщину, сколько то величие, которое окружало ее; что он в сущности был такой человек, который избрал любовь орудием для осуществления своих честолюбивых замыслов, и что согласие его жениться на ней, Юлиане, всего лучше доказывает хладнокровность его расчетов, а также и отсутствие страстной и искренней любви к Анне.
Если бывшая правительница еще и прежде так легко поддавалась внушениям своей неразлучной подруги, то теперь она, отчужденная от всякого другого влияния, еще легче убеждалась доводами Юлианы, которая, видя кротость и терпение принца в несчастье, стала относиться к нему совершенно иначе, нежели делала это в былое время. Сначала она редко, а потом все чаще и чаще стала приязненно заговаривать о нем с принцессой, которую когда-то так усердно восстанавливала против него. Общее несчастье мирило Юлиану с принцем, и теперь, под ее влиянием, началось между не уживавшимися прежде друг с другом супругами сближение, которое мало-помалу должно было перейти в привязанность и в дружбу. Игра в карты, чтение – это любимое занятие принцессы, хотя уже далеко не столь избытное и разнообразное, как в Петербурге, и уход за детьми сокращали для Анны дни ее заточения в Раненбурге, и она, поддерживаемая Юлианой, утешалась надеждой, что если не сегодня, так завтра придет радостная весть об освобождении: она не переставала верить в сострадание Елизаветы.
Вечером 10 августа 1744 года до правительницы дошло известие, что в Раненбург приехал из Москвы камергер, барон Андрей Николаевич Корф, женатый на двоюродной сестре императрицы, графине Скавронской. Приезд такого близкого к государыне лица оживил изгнанников новыми радостными надеждами. На другой день утром Корф явился к бывшей правительнице, но его озабоченный и сумрачный вид не предвещал ничего хорошего.
– Я приехал по повелению государыни к вашей светлости… – начал Корф и, замявшись на этих словах, он с печальным участием посмотрел на молодую женщину, на лице которой при его появлении выразилась радость.
– Вероятно, государыня забыла все наши против нее поступки и хочет дать нам свободу? – быстро подхватила принцесса.
– Ее императорское величество соизволила мне поручить передать вашей светлости ее всемилостивейший поклон и осведомиться о здоровье как вашем, так и всей вашей фамилии… – отвечал грустно Корф.
– Но что же будет с нами? – порывисто спросила Анна Леопольдовна. – Когда же придет конец нашей неволи?..
– Ее императорское величество, – начал Корф с притворным хладнокровием, очевидно, уклоняясь от ответа на обращенный к нему вопрос, – изволит пребывать теперь в Москве и находится в вожделенном здравии. Без всякого сомнения, вашей светлости приятно будет узнать об этом…
Принцесса не отвечала ничего, и только крупные слезы покатились из ее впалых глаз.
– Я желал бы иметь честь представиться вашему супругу и взглянуть на ваших детей, чтобы донесением моим о них удовлетворить ту заботливость, какую насчет их имеет всемилостивейшая наша государыня.
– Дети мои постоянно больны, а я сама страдаю. Ах! как я ужасно страдаю!.. – проговорила Анна и, закрыв глаза рукой, громко зарыдала. – Умоляю вас, скажите мне: будем ли мы когда-нибудь свободны? – добавила она прерывающимся от слез голосом.
– Не смею долее утруждать вашу светлость моим присутствием, завтра я буду иметь счастье доложить вам о некоторых данных мне ее величеством поручениях, – сказал Корф и, почтительно поклонившись Анне Леопольдовне, вышел от нее сильно взволнованный при виде молодой страдалицы, которую он прежде видел в блестящем положении.
– У меня не хватило духу передать принцессе о том распоряжении, какое сделано государыней насчет ее, и я не в силах исполнить этого. Пойди и сообщи ей об этом, – сказал Корф ожидавшему его в другой комнате и состоявшему в Раненбурге при брауншвейгской фамилии капитану Гурьеву.
Капитан, по его приказанию, отправился тотчас же к Анне Леопольдовне и застал у нее принца Антона и двух бывших ее фрейлин, Юлиану и Бину. Все они прибежали к принцессе, чтобы узнать поскорее о разговоре ее с Корфом.
– По воле ее императорского величества всемилостивейшей нашей государыни, я обязан объявить вашей светлости, – сказал Гурьев, обращаясь к принцессе, – что вы и ваше высокое семейство должны немедленно выехать отсюда.
– Куда?.. – тревожно в один голос спросили все присутствовавшие.
Капитан молчал.
– Если бы нас выпускали на свободу, то ты, наверно, как добрый человек, поспешил бы обрадовать нас этой вестью, – вскрикнула Анна Леопольдовна. – Но, должно быть, нас ожидает еще худшая участь… – добавила она, смотря на Гурьева с выражением отчаяния в глазах.
– Ваша светлость, ваш супруг и ваши дети должны готовиться к немедленному отъезду, а куда – я этого вовсе не знаю, – ответил Гурьев.
– Стало быть, все кончено!.. – вскрикнула принцесса, и она пошатнулась на ослабевших ногах. Принц и фрейлины поспешили поддержать ее. Начался громкий плач, и в это время Корф, услышав, что Гурьев уже исполнил его поручение, вошел опять в ту комнату, где находилась Анна Леопольдовна.
– Вашей светлости не остается ничего более, как только беспрекословно исполнить волю ее величества, положившись на ее милосердие… – сказал Корф кротко, но вместе с тем и внушительно Анне Леопольдовне.
– Положиться на ее милосердие? – гневно и насмешливо вскрикнула она, вскочив с кресел, на которые только что посадили ее в совершенном изнеможении. – Оставьте меня, – добавила она, повелительно показывая рукой Корфу на двери, – у меня достанет сил перенести несчастье, но я – я никогда не поступила бы так с Елизаветой, как поступает она со мной и с моим семейством… У нее нет к нам ни малейшей жалости…
Корф сделал вид, что он не слушает этих упреков, обращенных к императрице, и поспешил уйти.
Принц кинулся, чтобы успокоить жену, прося ее не раздражать государыню резкими словами, а две бывшие фрейлины Анны Леопольдовны презрительно взглянули вслед камергеру, поспешно уходившему в сильном смущении.
Принцесса, потрясенная неожиданной вестью, которая отнимала всякую надежду лучшую перемену, и вдобавок беременная в это время, слегла в постель; маленький принц был сильно болен, и сострадательный Корф, приняв все это в соображение, решился на свой страх отложить на некоторое время выезд брауншвейгской фамилии из Раненбурга, желая вместе с тем доставить ей и некоторые удобства, необходимые в дороге.
Корф безотлагательно написал в Москву вице-канцлеру графу Воронцову о том положении, в каком находится принцесса, выражая мнение, что дальний путь может вредно повлиять на ее здоровье. Он сообщил также и о болезни маленького принца, для которого поездка в осеннее время может быть даже пагубна; добавляя при этом, что «четырехлетний ребенок, по отлучении от людей, которые с ним живут, не может быть покоен», почему он и спрашивал: не будет ли позволено взять в дорогу кормилицу и сиделицу? В пользу такого разрешения Корф приводил то соображение, что, оставаясь на их руках, младенец не будет плакать и кричать, а следовательно, и «разглашения о себе делать не станет». На это представление Корфа был вскоре получен суровый отказ со строгим подтверждением увезти немедленно «фамилию» из Раненбурга.
Прежде, однако, чем был получен такой отказ, Корф отправил в Москву еще другое представление. В этом представлении он, ссылаясь уже не на беременность принцессы, но на постигшую ее тяжкую болезнь, спрашивал, нельзя ли будет отложить поездку, если болезнь ее светлости усилится, а также и о том, не будет ли ему разрешено в этом последнем случае допустить к принцессе повивальную бабку и священника, если бы она, предчувствуя близость своей кончины, пожелала исповедаться и приобщиться св. тайне?
Сердобольный барон обратил внимание и на ту беспредельную привязанность, какую имела принцесса к Юлиане. Ввиду этого он писал графу Воронцову, что если разлучить принцессу с бывшей ее фрейлиной, не предназначенной по повелению государыни к отправлению из Раненбурга, то принцесса «впадет в отчаяние».
На эти предложения Корфа не последовало из Москвы никакого ответа, и он, выждав по сделанному им расчету крайний срок, убедился в необходимости выехать безотлагательно из Раненбурга, предвидя, что дальнейшее промедление может вызвать только усиленные строгости против принцессы и ее семейства и вместе с тем навлечь неприятности на него самого.
Наступил день отъезда. Измученная душевными потрясениями, едва двигаясь на ногах от болезни, Анна Леопольдовна, при пособии Юлианы, заботилась только о том, чтобы как можно удобнее везти своих малюток. Все оделись и готовились уже садиться в поданные к крыльцу экипажи.
– Я должен доложить вашей светлости, – сказал принцессе вошедший к ней в это время с расстроенным лицом Корф, – что вам, к крайнему моему сожалению, никак нельзя ехать вместе с принцем, вашим сыном: у нас недостает лошадей, и я вынужден отправить его светлость с особым поездом вперед. Но вы, светлейшая принцесса, не беспокойтесь нисколько, так как мы на дороге догоним принца… Проститесь с ним… на короткое, впрочем, время, – как бы поправляясь, подхватил Корф, и, проговорив это, он отвернулся, чтобы не видеть разлуки матери с сыном. Страшное предчувствие овладело Анной Леопольдовной.
– Вы хотите отнять у меня моего малютку! – с неистовством вскрикнула она и, быстро нагнувшись, крепко охватила Иванушку руками. – Я никому не отдам его… Ну, возьмите его от меня!.. Что же вы не берете? Возьмите!.. – насмешливо вызывающим голосом говорила Анна Леопольдовна, как будто уверенная, что заступничество матери преодолеет всякую силу.
– Позвольте, ваша светлость, – сурово и твердо проговорил бывший около Корфа и приехавший вместе с ним из Москвы капитан Миллер. – Принц по воле государыни поручен моим личным попечениям, – и с этими словами он высвободил малютку из слабых рук его матери, взял его в охапку и понес из комнаты. Принцесса рванулась за капитаном, но Корф и Гурьев удержали ее, а бывшие в другой комнате солдаты загородили ей выход на лестницу. Со страшным, пронзительным визгом рухнула молодая женщина на пол, а между тем малютка с громким плачем бился на сильных руках похитителя, протягивая к матери свои ручонки.
– Отдайте мне моего Иванушку!.. Отдайте мне его!.. – кричала Анна Леопольдовна и в исступлении, не помня уже ничего, рвала на себе и волосы, и платье.
С немым состраданием и с пробивавшимися на глазах слезами смотрели все посторонние на отчаяние молодой матери. Принц Антон рыдал как дитя. Юлиана и Бина кинулись помогать Анне Леопольдовне, которая, однако, сама вскочив на ноги, точно безумная, обводила вокруг комнаты испуганным, диким взглядом, как будто отыскивая отнятого у нее ребенка…







