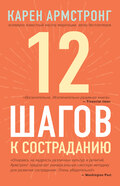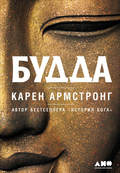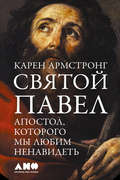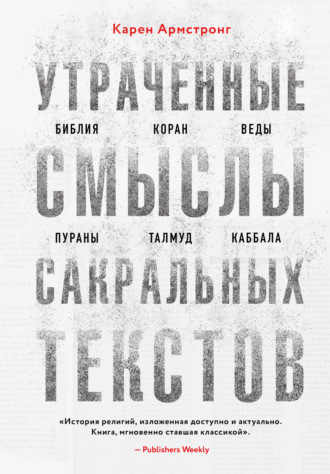
Карен Армстронг
Утраченные смыслы сакральных текстов. Библия, Коран, Веды, Пураны, Талмуд, Каббала
* * *
В 771 г. до н. э. варвары конран из Шэньси напали на западную столицу Чжоу и убили царя Юня. При царе Пине, его наследнике, династия Чжоу сумела перегруппироваться и закрепиться в восточной столице, однако это стало началом конца. У царя оставалась символическая аура власти; однако правители городов, уже долгое время мятежные, обладали теперь реальной властью и неуклонно расширяли свои территории. На Великой Равнине сложилось около десятка небольших, но сильных княжеств – таких как Сун, Вэй, Лю и Цай, а также множество практически автономных городов. Вплоть до конца III в. до н. э. Чжоу оставались номинальными правителями, однако поражение 771 года положило начало долгому периода распада страны. Казалось, в Китае воцарился хаос; однако задним числом можно увидеть, что в эти столетия проходил, без каких-либо фундаментальных разрывов преемственности, сложный и болезненный процесс перехода от архаической монархии к объединенному централизованному государству[307].
Итак, начался период, известный как «Весна и Осень» (Чунь-цю). Такое же название получили «Храмовые Летописи» княжества Лю, которым позже суждено было стать еще одной «Классической книгой». Начиная с IX столетия до н. э., ритуалисты (ши) в городах и княжествах записывали сведения о важных событиях и церемониально, день за днем, зачитывали их предкам в храме. Подобно прорицаниям на костях, эти летописи были еще одной попыткой создать архив, помогающий определять наилучшую дипломатическую и военную политику и истолковывать стихийные бедствия. И, подобно прорицаниям на костях, эти записи были сухими и лаконичными – казалось бы, мало подходящий материал для писания. Таких летописей было немало, но до наших дней дошли лишь «Анналы Весны и Осени». В них зафиксированы события с 722 по 481 г. до н. э., а название дано по временам года, перечисленным в заголовках каждого раздела. Вместе с «Комментарием Цуо» конца IV в. до н. э., превратившим эти архивы в религиозное писание, «Анналы Весны и Осени» остаются единственным нашим историческим источником по этому периоду[308].
Теперь, когда царь оставался лишь немногим более, чем символом единства, разбросанные по Великой Равнине города и княжества создали общую идентичность, объединившую их набором ритуальных практик (ли), определяющих все стороны жизни, как общественной, так и частной. Ли действовали как своего рода международные законы: ими определялись правила ведения войны, отмщения, заключения договоров, они регулировали обмен товарами и услугами. Во времена, когда китайское общество выглядело безнадежно расколотым, ритуал казался единственной силой, способной удержать его от распада. К VIII в. до н. э. китайцы уже не полагались на богов или на предков, способных отвратить беду. Вместо этого широко распространилось убеждение, что ключом к выживанию и успеху являются нравственно верные действия как таковые. Предполагалось, что Небо или Природа (Тянь) действует автоматически, почти как известные нам законы природы, так что добродетельное поведение, угодное Небу, естественным образом приносит удачу[309]. В начале периода Чжоу знать разработала – возможно, скорее методом проб и ошибок, чем сознательно – набор правил и обычаев, способствующих социальной гармонии. Были вещи, которые аристократ (чжун-цзы) должен делать, и другие, которых ему делать не следует. Теперь же, в период Весны и Осени, школы ритуалистов превратили эту массу традиционных обычаев в связную и внутренне логичную систему[310].
Эти специалисты относились к ши, чиновникам средней руки из низшего слоя аристократии. Изначально они управляли поместьями знати, надзирали за жертвоприношениями и ритуальными танцами, занимались прорицаниями и гаданиями. В течение VIII века до н. э. у этого слоя появилась более четкая специализация: многие ши, сосредоточившись на ритуальных церемониях, получили название жу («ритуалисты» или «эрудиты») и начали кодифицировать принципы жизни аристократов. Ли – слово, которое можно перевести и как «принципы правильного поведения» – стали теперь обязательными: жу настаивали, что пренебрежение ими может привести к катастрофе в межгосударственных отношениях. Каждому знатному человеку теперь требовался компетентный мастер церемоний, искушенный во всех деталях ли и понимающий общий дух, лежащий в основе этой системы[311]. Обучение специалиста по ритуалам начиналось в раннем возрасте под руководством опытного учителя. Детали традиционных обрядов, вместе с пояснениями, раскрывающими их трансцендентное значение, передавались от поколения к поколению из уст в уста. Кроме того, жу хранили память о кровопролитных схватках между великими феодальными вождями, поскольку эти битвы показывали, что происходит, когда люди отказываются от «правильного поведения». С годами ритуалисты школы Лю стали знамениты по всему Китаю. До того это небольшое, слабое в военном отношении государство в Шаньдуне играло на Великой Равнине третьестепенную политическую роль; однако к VIII столетию до н. э., благодаря связи с Князем Чжоу, его «эрудиты» стали уважаемыми хранителями славного прошлого. Они составили антологию ритуалов, также вошедшую в число «Китайских классических книг» наряду с «Документами» и «Песнопениями». «Ли-чжи», «Классическая книга ритуалов», воплотила в себе неразрушимую связь ритуала и писания, сложившуюся в Древнем Китае.
Шан и ранние Чжоу жили экстравагантно, кичась богатством и силой. Но новые кодифицированные обряды настаивали на скромности и сдержанности; прежний расточительный образ жизни теперь считался «недобродетельным». В VIII столетии до н. э. Китай постиг экологический кризис. Чжоу достигли больших успехов в освоении и распашке целинных земель, однако интенсивная вырубка лесов уничтожила естественную среду обитания многих видов; столетия безрассудной охоты сильно проредили фауну региона; все меньше оставалось пастбищ, пригодных для крупного и мелкого скота. Убийства сотен животных ради ритуальных пиршеств стали неприемлемы: непривычная скудость ресурсов заставила китайцев отвергнуть такую расточительность. Теперь ритуалисты строго контролировали число животных, закланных во время жертвоприношений, и ограничивали охоту тщательно выбранным временем года. Экономика более зависела от сельского хозяйства, чем от военных набегов и грабежей. Войны стали более «церемониальными» и менее жестокими. Время войны и охоты сократилось, и чжун-цзы теперь больше времени проводили при дворе, все более погружаясь в тонкости придворного протокола и этикета[312]. С точки зрения современного человека, эти ритуалы выглядели произвольными, бессмысленными и даже нелепыми. Но экологический кризис заставил китайцев понять опасность бездумной эксплуатации окружающей среды, и теперь они чувствовали себя обязанными возместить ущерб. Умеренность и самоконтроль стали их главными заповедями.
Разумеется, этого невозможно было достичь одними лишь словесными наставлениями. Правила «благопристойного поведения» чжун-цзы должны были воспринять физически, на уровне более глубоком, чем чисто рациональный – поскольку, как мы уже видели, очень многое мы постигаем через тело и движение. Все детали придворной жизни были теперь расписаны поминутно; служба придворного превратилась в стилизованный перформанс, превращающий беспорядочную обыденную жизнь в форму искусства[313]. Каждому чжун-цзы следовало точно знать, где стоять на приеме у царя, что говорить и как говорить: малейшая небрежность в костюме, осанке или тоне голоса могла привести к катастрофе. В центре двора теперь стоял местный князь, представляющий особу царя Чжоу. От него исходила, подобно некоей мистической силе, добродетель – которую, однако, следовало защищать от порчи. Поэтому он жил в изоляции, вассалы составляли защитный барьер, отделяющий его от мира. Никто не мог обратиться к нему напрямую – да что там, не смел даже заговорить в его присутствии! Если ему требовался совет – этот совет надо было предложить уклончиво, «окольным путем»[314]. Строгими правилами определялось даже то, как вассалу смотреть на князя: «Устремлять взор выше его головы высокомерно; склонять взор ниже его значит показывать смущение; взгляды по сторонам – выражение злого чувства»; взгляд следует устремлять в точку «чуть выше его подбородка»[315].
Жизнь при дворе превратилась в сложный ритуал. В присутствии князя чиновнику следовало «стоять, склонившись так, чтобы концы кушака свисали до земли, как бы наступая ногами на край своего одеяния. Подбородок его должен быть вытянут вперед, как у гаргулий на крышах»[316]. Прежде чем предстать перед князем, вассалы были обязаны очиститься, воздерживаться от секса и пять раз в день мыть руки[317]. Князю, со своей стороны, строго запрещалось дурачиться и шутить. Он мог слушать только предписанную музыку, есть только предписанную пищу, сидеть только на правильно сплетенной циновке и при ходьбе делать шаги не шире шести дюймов[318]. А вот его вассалам, вдохновленным мощью его моральной харизмы, напротив, следовало ходить быстро, «расставив локти, словно птичьи крылья», пока их князь, придавленный тяжестью своего положения, оставался недвижим и молчалив[319].
Возможно, именно ритуалисты княжества Лю добавили в сборник «Документы» «Каноны Яо и Шуня»[320]. Об этих двух царях, основателях династии Ся, рассказывали, что они правили Великой Равниной в XXIII в. до н. э. и, в отличие от других героев седой китайской древности, не выигрывали битв, не сражали чудовищ, а царствовали лишь благодаря «добродетели» или «харизме». Канон открывается описанием Яо:
Он был благочестив, рассудителен, безупречно воспитан, искренен и мягок. Был искренне почтителен и полон скромности. Свет его достигал четырех концов империи, распространялся на небо вверху и на землю внизу[321].
Таким образом, китайский мудрец сознательно вступал в отношения сперва с «низменным» миром земной политики, и лишь затем с Небом-и-Землей. Политика и уважение ко вселенной – так мыслились два ключевых элемента человеческого совершенства. Формула, с которой мы еще встретимся, гласила, что «добродетель» Яо излучалась своего рода концентрическими кругами: он изливал привязанность сперва на свою семью, затем на род и, наконец, – на чужеземные государства, превращая все человечество в единую любящую семью. Яо поручал чиновникам наблюдать за движениями небесных светил и за сменой времен года, дабы привести жизнь народа в соответствие с космическими ритмами. И вот результат: «Весь мир жил в равновесии и гармонии. Это означало, что все пребывали в состоянии просветления, и даже соседние государства и племена жили в мире друг с другом»[322]. Вместо того, чтобы строить эгоистическое, эксплуататорское государство, Яо установил Великий Мир (Дай Пин).
Преодоление эгоизма Яо особенно ярко проявил, когда отказался передать престол собственному сыну, человеку вероломному и лживому, и вместо него назначил своим наследником Шуня, человека скромного происхождения, однако прославленного величайшим терпением и самообладанием. Его отец дурно с ним обращался и даже пытался его убить, однако Шунь отказался ему мстить и, как докладывали министры Яо: «Сумел создать в своем доме такую гармонию, что все, кто там обитает, сделались лучше»[323]. Став императором, Шунь «стремился повсюду водворять гармонию и равновесие». Он скрупулезно соблюдал ритуалы почитания природы и строго следил за своими чиновниками: злоупотреблявших властью наказывал, но строгость его неизменно умерялась состраданием[324].
Ритуалисты княжества Лю не сомневались, что ли сможет сделать китайскую знать гуманными людьми, подобными Яо и Шуню. Идеал чжун-цзы описывался так: «Серьезный, величественный, внушительный, утонченный… лицо его… спокойно и приветливо»[325]. Его умеренность, самообладание и благородство способны поставить предел насилию, гордыне и шовинизму, поскольку «обряды противостоят беспорядку, как плотины наводнению»[326]. Однако ли необходимо исполнять «искренне» и соблюдать так неукоснительно, чтобы он вошел в плоть и в душу чжун-цзы, стал частью его личности; чжун-цзы должен отдаться этим ритуалам всем сердцем, так, как участники великих ритуальных драм забывают о себе, перевоплощаясь в предков. Тогда тело его станет ходячей и дышащей иконой той гармонии и порядка, которую он наблюдает в космосе[327].
Мы в современном мире склонны думать, что нравственное преображение начинается в умах и сердцах, а затем просто отражается в нашем физическом поведении. Но нейрофизиологи отвечают на это, что именно движения тела создают наши идеи и чувства: «Жесты не просто отражают мысль, но помогают ее сформулировать, – поясняет один психолог. – Без жестов мир был бы иным – и неполным»[328]. Другие настаивают, что тело и сознание неразделимы, и что многие наши фундаментальные понятия порождены телесным опытом. Через час после рождения младенец уже может подражать жестам взрослых и явно радуется их отклику; так возникает представление о тесной связи между чужими действиями и нашими внутренними состояниями. Со временем мы не вырастаем из этого ощущения; на нем строится вся наша дальнейшая жизнь[329].
В эпоху Весны и Осени, когда упадок династии Чжоу угрожал идеологическим основам общества, с помощью физических дисциплин ли ритуалисты стремились возродить мир. Попытки вести себя изысканно-вежливо и альтруистично сохраняли живым идеал общественного порядка и в то же время давали китайцам понять, как далеки они от этого идеала. Жесты ли были направлены на выработку уступчивости (жан). Вместо того, чтобы агрессивно соперничать за места в иерархии и кичиться своими достижениями, советники князя должны были уступать друг другу. В том же духе регулировалась и семейная жизнь. Старший сын должен был служить отцу и почитать его как будущего обожествленного предка; в сущности, именно тщательное соблюдение ли сыновнего благочестия и должно было придать его отцу ту священность (шень), что даст ему возможность сделаться божественным предком после смерти. Так что сын прислуживал родителям, готовил им еду, чинил одежду, разговаривал с ними тихим, почтительным голосом. Если отец бывал раздражителен – сын, подобно Шуню, воздерживался от гнева, а вместо этого старался сочувствовать отцу: вместе с ним радоваться, вместе грустить, поститься, когда отец болен[330].
С точки зрения современных нравов это может вызывать негодование, однако ли ограничивал и отцовскую власть, предписывая отцу поступать с детьми по справедливости, вести себя с ними вежливо и доброжелательно. В сущности, никто не ждал, что сын станет подчиняться дурным распоряжениям отца. Вся система была отлажена так, что каждый член семьи получал свою долю уважения и почтения. Главной обязанностью младшего сына было не служить отцу, а поддерживать старшего брата. Старший сын мог сам стать отцом и, прислуживая отцу, в то же время получать знаки почитания от своих детей; а когда отец умирал, сын представлял его в ритуале бин, поскольку именно он помог создать шень, сделавшую отца божественным предком. В основе семейных ритуалов, быть может, лежала та психологическая истина, что люди, ощущающие абсолютное уважение к себе, проникаются чувством собственной внутренней ценности[331].
Насколько тщательно китайцы соблюдали ли, нам неизвестно; однако к VII в. до н. э. экстравагантность и расточительность Чжоу, по-видимому, прочно сменилась новым этосом скромности и самообладания[332]. Кроме того, ли остановил распад империи Чжоу. Из своей отдаленной восточной столицы цари Чжоу больше не могли объединять Великую Равнину в политическом смысле; однако, поскольку в каждом княжестве теперь воспроизводились великие религиозные церемонии царского двора, сами цари тоже ритуально присутствовали в каждой столице. В то же время их речи сохранялись и распространялись в «Документах», гимны – в «Песнопениях», ритуалы – в «Ритуалах». Эти «Классические книги», вместе с боевыми искусствами и изучением музыки Чжоу, составили образовательную программу, сформировавшую аристократическую элиту с отчетливой китайской идентичностью.
Разумеется, это не означало, что китайские аристократы сделались во всем подобны Яо и Шуню. «Уступчивость» вообще дается человеку нелегко, а владение ли, по-видимому, порой становилось предметом бахвальства и соперничества – придворные состязались в том, кто демонстративнее уступит друг другу. Ли битвы требовал внешнего выражения подчинения врагу, однако эти обряды нередко исполнялись в духе гордости и бравады, а акты великодушия превращались в насмешку над противником. Перед битвой воины громко расхваливали доблесть врагов, швыряли за городские стены кувшины вина, как бы в дар противной стороне, а если замечали на той стороне вражеского князя – театрально снимали перед ним шлемы[333]. То же происходило на большом состязании лучников, по окончании которого оба соперника проливали слезы: победитель – из жалости к побежденному противнику, проигравший – из сочувствия победителю, который, в сущности, оказался побежденным, упустив шанс промахнуться и уступить победу, как истинный чжун-цзы.
Однако, пока небольшие княжества в центре Великой Равнины культивировали ли, три царства на периферии проникали в соседние варварские земли и приобретали там крупные и богатые территории. Это были царство Чжин на гористом севере, Ци – приморская страна на северо-западе и Чу, крупное государство на юге, в среднем течении Янцзы. У их новых подданных – коренных жителей покоренных мест – не было времени на сложные обряды, да и правители постепенно забывали правила «благопристойного поведения». К VII столетию до н. э., когда варварские племена с севера начали более агрессивно, чем прежде, вторгаться на китайскую территорию, царство Чу, также озабоченное экспансией, сделалось для некоторых наиболее уязвимых княжеств серьезной угрозой. В окружении мощных государств, чьи лидеры не проявляли ни малейшего стремления к «уступчивости», княжества Великой Равнины отчаянно цеплялись за свои обычаи и, не имея надежды защитить себя на поле боя, в борьбе за выживание все больше полагались на дипломатию.
Важную роль в их дипломатических стратегиях играли «Песнопения». Единственный наш источник по этому периоду – «Комментарий Цуо»: он составлен в IV в. до н. э., однако ученые полагают, что изложенные в нем сведения вполне надежны[334]. Некоторые жу при княжеских дворах специализировались на песнопениях: заучивали их наизусть, передавали дальше и слагали новые стихотворения[335]. Поскольку «Песнопения» были важным элементом образовательной программы для знатного юношества, обильное цитирование песнопений на публичных собраниях и при дворе доказывало, что говорящий – истинный чжун-цзы, и не только помогало ему эмоционально захватить и увлечь публику, но и давало возможность не ударить в грязь лицом перед другими аристократами[336]. Так постепенно «Песнопения» приняли вполне светское значение – и стали уже не выражением «уступчивости», а средством саморекламы.
Новая манера прочтения песнопений (фу ши) основывалась на стратегии, известной как «разбить строфу, чтобы извлечь смысл» (дуань жан цю и): при этом оригинальный смысл стихотворения уничтожался, и ему придавалось совершенно новое значение[337]. Китайцев это не беспокоило: как и большинство людей до Нового времени, они ценили тексты, способные преображаться, чтобы обращаться к новым проблемам. Они принимали как должное, что изначальный смысл текста со временем может меняться; использование фу ши мостило путь к позднейшему творческому комментированию «Песнопений». Эмоциональная наполненность «Песнопений» доказала свою чрезвычайную эффективность в дипломатии[338]. Когда энергичный дипломат Му Шу пытался убедить царство Чжин защитить Лю от угроз со стороны Ци, сухое фактическое описание стратегической уязвимости Лю не вызвало у его собеседников никакого отклика. Но когда он процитировал тем же послам песнопение, критиковавшее чиновника за то, что он бросил простых людей в беде, и еще одно, где военные бедствия и разорения сравнивались с жалобным криком диких гусей в небе – эти строки глубоко тронули слушателей, и княжество Лю получило от них требуемую военную помощь[339]. Неспособность узнать цитату из песнопения могла нанести политический ущерб, однако при определенных обстоятельствах неверный ответ на песнопение мог расцениваться как признак добродетели[340]. Эти вопросы были столь сложны, что даже авторы «Комментария Цуо», пытаясь их объяснить, испытывали затруднения. Однако их манеру читать и понимать «Песнопения» уже ничто не связывало с почтением или «уступчивостью».
Однако неожиданную этическую интерпретацию получил другой древний текст, «Чжоу-и» («Перемены Чжоу»), уже упомянутая нами древняя книга гаданий на бамбуковых костях. В отличие от «Документов» или «Песнопений», среди загадочных «речений» «Книги перемен» не было ни духоподъемных речей, ни повестей о героических подвигах, ни пронзительных стихотворных строк; однако в конце периода Весны и Осени люди начали наделять гадания нравственным смыслом. В «Комментарии Цуо» мы встречаем два десятка ссылок на истолкования «Книги перемен», относящиеся к VII – началу V вв. до н. э. К этому времени, по-видимому, предсказание будущего перестало быть исключительной прерогативой специально обученных гадальщиков: им занимались и политически мыслящие аристократы. В нескольких рассказах из «Комментария Цуо» чжун-цзы, основывающий свои предсказания не только на бросании костей, но и на моральных соображениях, предсказывает будущее точнее профессионалов. В одном случае женщина под домашним арестом спорит с придворными астрологами, которые обещают ей скорое освобождение. Значение выпавших костей гласит: «Превосходно, проницательно, успешно, благодетельно, чисто. Без вины», но дама возражает: «Я женщина и участвовала в мятеже… Я избрала зло – как же могу быть “без вины”?»[341]. Князь Хуэй из царства Чжин, заключенный в темницу за то, что пренебрегал своими обязанностями, жаловался: мол, если бы он слушал своих астрологов, смог бы избежать этой беды. Но товарищ по несчастью с ним не согласился: «Песнопения гласят: “Небо не посылает несчастий людям. Сходятся ли люди друг с другом в вежливых речах, или отворачиваются друг от друга с ненавистью – ответственность на них самих”»[342]. По-видимому, этика занимала в китайской религии все более важное место: скоро ей предстояло придать новое измерение и аристократическому культу ли.
* * *
К VI в. до н. э. все три рассмотренных нами региона переживали серьезную общественную, экономическую и политическую трансформацию. В Китае правители трех крупнейших периферийных государств отбросили стесняющие их ритуалы и этику «уступчивости»; конечной целью их стало смещение ослабевших царей Чжоу. Равнина Ганга в Индии стояла на пороге экономической революции, после которой ушли в прошлое многие древние идеалы ариев. А народ Израиля в 597 г. до н. э. потерял страну после неудачного восстания против царя Навуходоносора II, когда израильские аристократы и их приближенные были переселены в Вавилонию. Десять лет спустя, после еще одного неудачного мятежа, вавилоняне разрушили город Иерусалим и сравняли с землей Иерусалимский Храм. Пытаясь приспособиться к резко изменившимся обстоятельствам, израильтяне обратились к писанию.