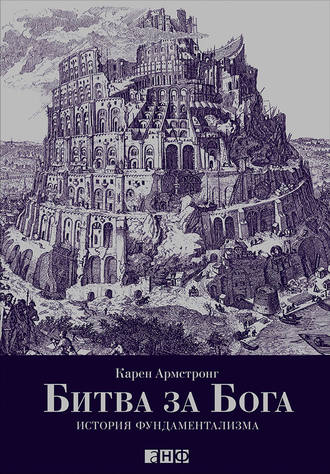
Карен Армстронг
Битва за Бога: История фундаментализма
Сефевиды, впрочем, довольно скоро обнаружили, что мессианская, «крайняя» идеология, так хорошо служившая им в оппозиции, совершенно не годится для правящего класса. Шах Аббас I (1588–1629), задавшись целью искоренить старую теологию гулув, удалял «экстремистов» из своего чиновничьего аппарата и приглашал арабских улемов-шиитов, чтобы те распространяли ортодоксальную доктрину «Двенадцати имамов». Он построил для них медресе в своей новой столице Исфахане и в Хилле, даровал на их нужды собственность (вакф) и осыпал щедрыми дарами. На начальном этапе эта поддержка значила многое, поскольку улемы были иммигрантами, полностью зависевшими от шахов. Однако природа шиизма при этом неизбежно менялась. Последователи шиизма всегда составляли меньшинство. У них никогда не было своих медресе, вся учеба и дискуссии велись по домам друг у друга. Теперь шииты оказались у власти. Исфахан стал официальным средоточием шиитской схоластики[116]. Шииты всегда держались подальше от правительства, однако теперь в руках улемов оказались и образование, и иранская правовая система, а также определенные правительственные обязанности в области религии. Административный аппарат состоял из иранцев, по-прежнему преданных суннизму, поэтому перед ними ставились более светские задачи. Фактически в иранском правительстве наметился раскол на светскую и религиозную сферы[117].
Однако улемы по-прежнему относились к сефевидскому государству настороженно, отказываясь от официальных чиновничьих постов и предпочитая числиться подданными. Таким образом, они стояли на отличной от османских улемов позиции, но обладали большей потенциальной властью. Щедрость и покровительство шахов дали улемам финансовую независимость. Если османцы и их преемники давили на улемов угрозами лишить их субсидий или собственности, с шиитскими улемами такая манипуляция не проходила[118]. По мере распространения шиизма среди иранцев авторитету улемов способствовало и то, что они, а не шахи, оказывались единственными истинными глашатаями сокрытого имама. Первым Сефевидам, впрочем, еще удавалось приструнить улемов, и подлинную власть духовенство обрело только в XVIII в., когда в шиизм обратился весь иранский народ.
Но власть развращает. Постепенно обживаясь в Сефевидской империи, улемы становились слишком авторитарными, вплоть до фанатизма. Некоторые самые привлекательные стороны шиизма уходили в небытие. Проводником этого нового жесткого направления стал Мухаммад Бакир Меджлиси (ум. 1700), один из самых авторитетных и влиятельных улемов за все время. Столетиями шииты приветствовали инновационный подход к Писанию. Меджлиси, напротив, крайне враждебно относился и к мистической духовности, и к философским размышлениям, на которых строился исконный эзотерический шиизм. Он начал безжалостные гонения на оставшихся в Иране суфиев, пытаясь подавить и философский рационализм (фальсафу), и мистицизм, насаждавшийся в Исфахане. Именно с его подачи иранский шиизм проникся глубочайшим недоверием к мистицизму и философии, которое сохраняется в нем по сей день. Вместо того чтобы углубиться в эзотерическое изучение Корана, шиитским богословам предлагалось направить все силы на изучение фикха, исламского права.
Кроме того, Меджлиси изменил смысл ритуальных процессий в честь мученика Хусейна[119]. Процессии стали выглядеть более замысловато, теперь на верблюдах с зелеными попонами ехали рыдающие женщины и дети, изображающие родных имама; солдаты стреляли в воздух, а за гробами, в которых якобы покоились имам и его погибшие соратники, шли правитель, знать и толпа мужчин, с рыданиями режущих себя ножами[120]. Изложенные с высоким эмоциональным накалом иракским шиитом Ваизом Кашифи (ум. 1504) события кербельской трагедии – «Раудат аш-Шухада» – пересказывались на особых собраниях под названием «Рауда-хани» («Речитативы Раудата») под скорбные вопли и плач. Эти ритуалы всегда прежде были проникнуты революционным духом, демонстрируя готовность народа бороться с тиранией не на жизнь, а на смерть. Теперь же Меджлиси и его духовенство вместо того, чтобы представлять Хусейна как пример для подражания, учили людей видеть в нем покровителя, который обеспечит им пропуск в рай в обмен на преданность, выраженную в оплакивании его гибели. Таким образом, ритуалы упрочили статус-кво, побуждая народ поклоняться власть имущим и заботиться только о собственных интересах[121]. Происходили выхолащивание и деградация старого шиитского идеала, а также ослабление духа традиционности. Культ теперь не помогал людям принять основные законы и ритмы существования, а служил для того, чтобы держать народ в узде. Это очередное, другое свидетельство того, насколько губительной может оказаться для религии политическая власть.
Одной из главных мишеней Меджлиси была школа мистической философии, разработанной в Исфахане Миром Димадом (ум. 1631) и его учеником муллой Садрой (ум. 1640) – мыслителем, который окажет большое влияние на будущие поколения иранцев[122]. Мир Димад и мулла Садра категорически не принимали намечающуюся нетерпимость улемов. Они видели в этом извращение основ шиизма и, в принципе, религии вообще. В прежние времена, ища скрытый смысл в Писании, шииты негласно полагали, что божественная истина безгранична, свежие озарения бесконечны и единственного толкования Корана всегда будет недостаточно. Для Мира Димада и муллы Садры истинное знание не могло заключаться в интеллектуальном конформизме. Никакой мудрец и никакой религиозный авторитет, каким бы почетом он ни пользовался, не вправе монополизировать истину.
Так же четко они выражали консервативное убеждение, что и мифология, и рацио одинаково важны для полноценной человеческой жизни – друг без друга они многое теряют. Мир Димад был не только богословом, но и естествоиспытателем. Мулла Садра критиковал и улемов – за недооценку мистических озарений, и суфиев – за умаление важности рационального мышления. Истинный философ должен сравняться по рационализму с Аристотелем, но затем превзойти его в экстатическом, творческом постижении истины. Оба мыслителя подчеркивали роль бессознательного, которое они изображали как состояние между областью чувственного восприятия и сферой интеллектуальных абстракций. Прежде суфийские философы называли эту часть психического «алам аль-митхаль», миром чистых образов. Это было царство видений, рожденных тем, что мы сейчас называем подсознанием, проявляющихся на сознательном уровне в сновидениях и под гипнозом, но достижимых также с помощью определенных упражнений и интуитивных практик, которыми владеют мистики. И Мир Димад, и мулла Садра утверждали, что эти видения – не просто игра воображения, а объективная реальность, пусть даже не поддающаяся логическому анализу[123]. Вместо того чтобы отвергать их как воображаемые и, следовательно, не имеющие отношения к реальности, как сделал бы современный рационалист, мы должны уделять внимание и этому измерению нашего существования. Пусть оно слишком глубоко для осознания, однако оказывает огромное влияние на наше поведение и восприятие. Наши сны реальны, они стремятся нам что-то поведать, в них мы переживаем происходящее в воображении. Мифология была попыткой организовать переживания бессознательного в образах, которые помогут человеку установить связь с фундаментальными областями своего существования. Сегодня с той же целью – проникнуть в глубины подсознания – люди обращаются к психоаналитикам. Исфаханская мистическая школа, возглавляемая Миром Димадом и муллой Садрой, утверждала, что истина – это не только то, что воспринимается посредством логики, открыто и согласно правилам, у нее есть еще и внутренняя область, непостижимая для обычного бодрствующего сознания.
Такая позиция привела к неизбежному конфликту с улемами, исповедовавшими новоявленный непримиримый шиизм, и их стараниями мулла Садра был выдворен из Исфахана. Десять лет он вынужден был жить в крохотной деревушке близ Кума. За время этого затворничества он осознал, что при всей преданности мистической философии к религии он по-прежнему подходит с позиции разума. Исламский закон (фикх) и богословие дают лишь сведения о религии, не принося озарений и личного преображения, которые являются конечной целью религиозных поисков. Только когда мулла Садра начал всерьез упражняться в мистических приемах сосредоточения и погружаться в глубины алама аль-митхаля внутри себя, его душа «загорелась», «свет божественного мира озарил меня… и открылись мне тайны, которых прежде я не понимал», как объяснял он позже в своем великом труде «Аль-асфар-уль-арбаа» («Четыре путешествия духа»)[124].
Благодаря своему мистическому опыту мулла Садра убедился, что человек может достичь совершенства и на этом свете. Однако, в полном соответствии с традиционным духом, постигнутое им совершенство состояло не в переходе на новую, более совершенную ступень, а в возвращении к исконному чистому образу Ибрагима и других пророков, возвращении к Богу, источнику всего сущего. Но это не означало, что мистик порывал с мирским. В «Четырех путешествиях духа» мулла Садра описывает мистическое странствие харизматичного политического лидера. Сперва он должен проделать путь от человека к Богу. Далее он путешествует в божественной сфере, созерцая по очереди божественные атрибуты, пока не приходит на интуитивном уровне к выводу об их неизменном единстве. Взирая на лик Бога, он преображается и заново переосмысляет значение монотеизма, обретая озарение сродни тому, которое испытывают имамы. В третьем путешествии герой возвращается обратно в мир людей и видит его совершенно по-новому. Четвертый и последний его путь – нести слово Бога людям, отыскивая новые способы учреждения божественного закона и реорганизации общества в соответствии с Божьей волей[125]. С этой точки зрения совершенство общества связывалось с одновременным духовным развитием. Без мистической и религиозной основы добиться равенства и справедливости здесь, на земле, не представлялось возможным. Учение муллы Садры объединяло политику и духовную жизнь, разделенные у шиитов-двунадесятников, ибо он считал рациональные действия, необходимые для преобразования общества в физическом мире, неотделимыми от мифологического и мистического контекста, наделявшего их смыслом. Таким образом, мулла Садра предложил новую модель шиитского руководства, которая окажет основательное влияние на политику Ирана уже в наши дни.
Мистический глава государства из видений муллы Садры обладал божественным откровением, но это не означало, что он может силой навязывать свое мнение и религиозные ритуалы остальным. В таком случае, по мнению Садры, он отрицал бы саму суть религиозной истины. Садра решительно отвергал растущую власть улемов, и особенно его беспокоила новая для Ирана концепция, постепенно укоренявшаяся в XVII в. Среди улемов зародилось мнение, что мусульмане в большинстве своем неспособны самостоятельно толковать основные положения веры (усуль); поскольку единственными официальными глашатаями сокрытого имама являются улемы, простому народу надлежит выбрать себе муджтахида, имеющего право практиковать иджтихад (самостоятельное мышление) и строить свою жизнь по его указаниям. Подобные требования усулитов, как называли приверженцев этой точки зрения, возмущали Садру[126]. Он считал, что любая религия, основанная на таком рабском подражании (таклиде), заведомо «гнилая»[127]. Традиции (акбар) пророков и имама вполне доступны пониманию любого шиита, и человек может сам для себя найти решения с помощью разума и духовных озарений, полученных через молитвы и ритуалы.
На протяжении XVII в. конфликт между усулитами и их оппонентами постепенно обострялся. Власть Сефевидов слабела, в обществе намечался раскол. Улемы в глазах народа были единственными, кто способен навести порядок, однако суть своего авторитета улемы понимали по-разному. К этому времени большинство иранцев отвернулись от усулитов и обратились к так называемым ахбаритам, опиравшимся на прежние традиции. Ахбариты отвергали иджтихад и провозглашали необходимость сугубо буквального прочтения Корана и Сунны. Они требовали, чтобы любой суд выносил решение, руководствуясь точными цитатами из Корана, пророков или имамов. В случае если таковых цитат не обнаруживается, мусульманский юрист, не имея права полагаться на собственное суждение, должен передать дело в светский суд[128]. Усулиты отличались более гибким подходом. Юрист может использовать собственные доводы, чтобы вынести приемлемое решение, основываясь на законодательных принципах, освященных исламской традицией. С их точки зрения, ахбариты рисковали сильно завязнуть в прошлом, настолько, что исламское законодательство не в силах будет справиться с новыми задачами. Без сокрытого имама, утверждали они, ни один юрист не может вынести окончательный вердикт, и никакой прецедент не может стать руководством к действию. Дошло до того, что они призывали верных подчиняться указаниям ныне живущего муджтахида, а не почитаемых авторитетов прошлого. Обе стороны пытались сохранить традиционный дух на фоне социальных и политических неурядиц, и обе заботились в первую очередь о законе божественном. Ни усулиты, ни ахбариты не требовали интеллектуального подчинения – верные должны следовать букве Писания либо указаниям муджтахида лишь в поступках и религиозных действиях. Тем не менее кое-что обе стороны упускали. Ахбариты путали исконную божественную волю, выраженную в законе, с исторически сложившимися традициями прошлого – став буквалистами, они полностью утратили связь с традиционным для шиитской религии символизмом. Вера в их понимании оказалась набором прямых указаний. Усулиты больше доверяли человеческому мышлению, которое по-прежнему обусловливалось религиозной мифологией. Однако, требуя от верных полагаться на свои суждения, они утрачивали постулат муллы Садры о священной свободе личности.
К концу XVII в. назрела острая необходимость в твердой руке, которая компенсировала бы слабость государства. Упадок торговли повлек за собой экономическую нестабильность, а неумелое правление следующих шахов сделало государство уязвимым. В 1722 г. Исфахан позорно сдался напавшим на него афганским племенам. Иран охватил хаос, и в какой-то период казалось даже, что он может вообще прекратить свое существование как единое государство. С севера наступали русские, с запада – османцы, а на юге и востоке закрепились афганцы. Однако Тахмасп II, третий сын шаха Султан-Хусейна, уцелевший после осады Исфахана, с помощью полководца Надир-хана, предводителя тюркского племени афшаров, сумел дать врагам отпор и выдворить их из страны. В 1736 г. Надир-хан, избавившись от Тахмаспа, сел на трон сам. Он правил жестоко, но твердо – пока не погиб от рук наемного убийцы в 1748-м. Последовал период смуты и междувластия, закончившийся воцарением в 1794 г. Ага-Мухаммед-хана из тюркского племени каджаров[129]. Каджарская династия продержалась у власти до начала XX в.
За эти годы смуты в религиозной сфере произошли две существенные подвижки. Надир-хан безуспешно пытался вернуть в Иран суннизм, в результате чего ведущие улемы покинули Исфахан и укрылись в священных городах Наджафе и Кербеле, расположенных в османском районе Ирана. В конечном итоге это поражение сыграло улемам на руку, поскольку в Кербеле и Наджафе они обрели еще большую автономию. В политическом отношении они оказались вне досягаемости шаха, обладали финансовой независимостью и постепенно получили статус альтернативной власти, успешно противостоящей двору благодаря своему удачному местожительству[130]. Второй существенной переменой стала победа усулитов, достигнутая в результате весьма жестокой политики выдающегося богослова Вахида Бехбехани (1705–1792), который четко определил роль иджтихада и обязал юристов к нему прибегать. Шииты, отказывающиеся принимать позицию усулитов, провозглашались неверными, и любая оппозиция безжалостно подавлялась. В Кербеле и Наджафе вспыхивали стычки, в которых погибли несколько ахбаритов. Исфаханская мистическая философия также попала под запрет, а суфизм подавлялся с такой жестокостью, что сын Бехбехани Али получил прозвище «истребителя суфиев». Однако, как мы уже видели, принуждение в религиозных вопросах обычно имеет обратный эффект: мистицизм ушел в подполье, где продолжал влиять на умы диссидентов и интеллектуалов, ведущих борьбу со сложившимся положением вещей. Победа Бехбехани стала политической победой иранских улемов. Доктрина усулитов завоевала популярность в народе во время междуцарствия, поскольку обеспечивала ему уверенность в источнике харизматичной власти, вносившей в царящий хаос некое подобие порядка. Муджтахиды сумели воспользоваться политическим вакуумом и не потерять власти над народом. Однако победа Бехбехани, достигнутая тираническими методами, стала одновременно религиозным поражением, поскольку оказалась далека от идеалов и одобрения имамов[131].
К концу XVIII в. и в Османской, и в Иранской империях царил хаос. Их постигла неизбежная участь аграрной цивилизации, исчерпавшей свои ресурсы. Начиная с осевого времени традиционный дух помогал людям принять ограничения подобной цивилизации на глубинном уровне. Это не значит, что в традиционном обществе царили неподвижность и фатализм. Подобная духовность способствовала крупным политическим и культурным достижениям исламского мира. До XVII в. исламские страны были сильнейшими державами. Однако весь этот политический, интеллектуальный и художественный прогресс совершался в мифологическом контексте, чуждом ценностям новой западной культуры, развивающейся в это время в Европе. Многие современные европейские идеалы тем не менее пришлись бы мусульманам по нраву. Как мы видели, стандарты, выработанные у них благодаря вере, вполне сходны с теми, что пропагандируются современным Западом: равенство, социальная справедливость, эгалитаризм, свобода личности, ориентированная на человека духовность, светская форма правления, религия как частное дело, культивация рационального мышления. Однако в новой Европе были и другие аспекты социального устройства, которые человеку, взращенному в традиционном обществе, трудно принять. К концу XVIII в. мусульмане начали отставать от Запада в интеллектуальной сфере, и исламские империи ввиду своей политической ослабленности оказались уязвимыми для европейских государств, отвоевывающих мировое господство. Британия уже захватила Индию, Франция готовилась создать собственную империю. 19 мая 1798 г. Наполеон Бонапарт отплыл из Тулона на Ближний Восток с 38-тысячной армией и 400 кораблями, собираясь оспорить британское владычество на Востоке. Французский флот пересек Средиземное море, и Наполеон, высадившись 1 июля у Александрии с войском в 4300 человек, к рассвету взял город и закрепился в Египте[132]. Наполеон привез с собой ученых, библиотеку современной европейской литературы, научную лабораторию и печатный станок с арабским шрифтом. Новая научная, светская культура вторглась в мусульманский мир, отрезав ему все пути к прошлому.
3. Христиане. Дивный новый мир
(1492–1870)
Пока иудеи боролись с трагическими последствиями изгнания из Испании, а мусульмане строили три великие империи, христиане Запада вступали на путь, который уведет их далеко от догм и святынь старого мира. Это был восхитительный, но и очень тревожный период. В XIV–XV вв. треть населения христианских стран выкосила чума, а из европейских стран высосала все соки Столетняя война между Англией и Францией и итальянская междоусобица. Европейцам пришлось пережить потрясения: завоевание османцами Византии в 1453 г., а после папских скандалов – Авиньонского пленения пап и Папского раскола, когда преемниками святого Петра провозгласили себя сразу три понтифика одновременно, у многих сильно пошатнулось доверие к официальной церкви. Люди мучились тайными страхами и верить по-старому больше не могли. Эта же эпоха стала периодом расширения горизонтов и освобождения. Иберийские мореплаватели открыли новые земли; астрономы дотягивались до звезд, новые технологии давали европейцам большую, чем когда-либо прежде, власть над окружающей средой. В отличие от традиционного духа, не велящего выходить за четко очерченные рамки, новая культура западного христианского мира демонстрировала, что преодоление границ известного и знакомого не только не вредит, но и, напротив, ведет к процветанию. В итоге приверженность старой мифологической религии стала невозможной, поскольку, судя по всему, враждебный настрой к вере закладывался в западном модерне изначально.
Однако на ранних этапах преобразования западного общества этого еще не наблюдалось. Многие путешественники, ученые, мыслители, находящиеся в авангарде своего времени, думали, что не отвергают религию, а, наоборот, находят новые пути к ней. Некоторые из этих путей и их глубинное значение мы рассмотрим в данной главе. Однако важно четко понимать, что главные провозвестники эпохи модерна не сами ее придумали. К XVI в. в Европе, а позднее и в американских колониях уже разворачивались сложные процессы, преобразующие мышление людей и способ познания мира. Перемены шли постепенно и зачастую незаметно, исподволь. Изобретения и нововведения происходили одновременно в различных областях и даже не казались современникам определяющими и ключевыми, однако в совокупности приводили к разительным изменениям. Все эти открытия отличались прагматичностью, научной основой, которая постепенно вытесняла прежний мифологический, консервативный этос и благодаря которой все больше людей начинали воспринимать Бога, религию, государство, личность и общество по-новому. В Европе и американских колониях политический контекст преобразований окажется различным. Сама эпоха, как и любой период далекоидущих социальных перемен, отличалась жестокостью – множество разрушительных войн и революций, насильственные переселения, разорение сельского хозяйства, страшные религиозные конфликты. В течение трех сотен лет модернизация в Европе и Америке велась весьма кровавыми методами. Это и гонения, и инквизиция, и массовые казни, и эксплуатация, и рабство, и насилие. Точно такие же кровавые встряски переживают сейчас развивающиеся страны, проходящие тот же мучительный процесс модернизации.
Несмотря на то что рационализация сельского хозяйства составляла лишь небольшую часть этого процесса, повышение урожайности и развитие ветеринарии не могло не отразиться на благополучии общества. Были и другие, более узконаправленные улучшения. Люди научились делать точные приборы – компас, телескоп, увеличительное стекло помогали раздвигать горизонты и способствовали развитию картографии и навигации. В XVII в. голландский натуралист Антоний ван Левенгук сконструировал микроскоп, в который впервые в мире рассмотрел бактерии, сперматозоиды и другие микроорганизмы – впоследствии эти наблюдения помогут многое прояснить в процессах зарождения жизни и разложения. Прагматическое значение этих открытий состояло не только в борьбе с заболеваниями, но и в устранении мифологической составляющей из таких базовых понятий, как жизнь и смерть. Начала развиваться медицина, и, несмотря на то что в терапии вплоть до XIX в. основным оставался метод проб и ошибок, уже в XVII столетии началась забота о гигиене и впервые были точно идентифицированы некоторые болезни. Постепенно складывались геологические дисциплины, наука лишила мифологического флера такие явления природы, как землетрясения и извержения. Совершенствовались механические приборы. Более точными стали часы, что также способствовало секуляризации понятия времени. Применение математических и статистических методик позволило по-другому взглянуть на будущее: в 1650–1660-х слово probable («вероятный») начало обретать новое значение. Если прежде, в традиционную эпоху, оно значило «одобренный властями», теперь под ним понималось «возможный по имеющимся данным». Эта независимость и уверенность в будущем способствовали поиску научных доказательств, а также бюрократической рационализации. Британские статистики Уильям Петти и Джон Граунт активно исследовали продолжительность жизни, и к началу XVIII в. в Европе появилось страхование[133]. Все это планомерно подрывало традиционный этос.
Ни одно из перечисленных открытий не было решающим само по себе, однако в совокупности они вели к радикальным переменам. К XVII в. нововведения в Европе достигли такого гигантского размаха, что прогресс уже был необратим. Открытие в одной области зачастую влекло за собой открытия в других. Развитие шло полным ходом. Если раньше миром правили незыблемые фундаментальные законы, то теперь оказалось, что природа поддается исследованию и преобразованию, приводящему к ошеломляющим результатам. Европейцы могли отныне управлять окружающей средой и удовлетворять свои материальные потребности в невиданных прежде масштабах. Постепенно люди осваивались с этим новым укладом, и логос набирал силу, а миф терял. Крепла уверенность людей в будущем. Новации можно было без опаски вводить в обиход. Например, у деловых людей твердая уверенность в том, что дела будут идти в гору, выработала готовность реинвестировать капитал по мере постоянного изменения условий. Благодаря этому капиталистическому подходу Запад смог бесконечно возобновлять свои ресурсы и избавиться от ограничений прежнего аграрного общества. К XIX в., когда рационализация и механизация производства привели к индустриальной революции, жители Запада уже настолько привыкли к бесконечному прогрессу, что перестали оглядываться в прошлое в поисках вдохновения и стали воспринимать жизнь как триумфальный марш к еще большим достижениям в будущем.
Процесс этот требовал и социальных изменений, вовлекая в модернизацию все большее количество участников на самом скромном уровне. Самые обычные люди становились печатниками, станочниками, фабричными рабочими, и им тоже приходилось в той или иной степени усваивать современные стандарты производительности. От все большего количества людей требовались хотя бы начатки образования. Рабочие учились грамоте, а научившись, неизбежно стремились к большему участию в общественных делах. Назревала потребность в более демократичной форме правления. Поскольку модернизация и увеличение производительности труда требовали участия всех человеческих ресурсов, постольку прежде отвергаемые и сегрегированные группы – например, иудеев – тоже включали в процесс. Образованные по требованиям нового времени наемные работники уже не подчинялись прежним иерархиям. Идеалы демократии, толерантности, всеобщих прав человека, ставшие священными ценностями в светской западной культуре, появились в результате многогранного процесса модернизации. Это был не просто плод мечтаний государственных деятелей и политологов; по крайней мере отчасти эти идеалы были продиктованы нуждами современного государства. В Европе начала Нового времени социальные, политические, экономические и духовные перемены были взаимосвязаны, один процесс обусловливал другие[134]. Наиболее эффективным и продуктивным способом организации модернизированного общества оказалась демократия – как продемонстрировали на своем отрицательном примере восточноевропейские страны, которые, не приняв демократические нормы и вовлекая бывшие меньшинства в общий процесс насильственными, драконовскими методами, начали отставать в развитии[135].
Бок о бок с ошеломляющими открытиями шли мучительные политические перемены, и люди искали поддержки в религии. Прежние средневековые догмы больше не несли утешения, поскольку теряли смысл в изменившихся обстоятельствах. Религия тоже требовала модернизации и рационализации, подобно Реформации католицизма в XVI в. Однако религиозные реформы раннего Нового времени показывали, что, несмотря на идущую полным ходом в XVI столетии модернизацию, европейцы по-прежнему проникнуты традиционным духом. Деятельность реформаторов-протестантов, как и уже проанализированные нами усилия мусульманских реформаторов, в эту эпоху перемен была обращена в прошлое. Мартин Лютер (1483–1546), Жан Кальвин (1509–1564) и Ульрих Цвингли (1484–1531) обращались ad fontes, к истокам христианства. Точно так же, как ибн Таймия отвергал средневековую теологию и фикх, ища чистый ислам в Коране и Сунне, Мартин Лютер выступал против средневековых схоластов и пытался вернуться к аутентичному христианству Библии и отцов Церкви. Как и консервативные реформаторы-мусульмане, реформаторы-протестанты были одновременно реакционерами и революционерами. Они не принадлежали к новому, зарождающемуся миру и были укоренены в старом.
Однако и они тоже были людьми своей эпохи, эпохи перемен. Как будет видно на протяжении всей книги, модернизация нередко сопряжена с большими волнениями. Мир вокруг меняется, вызывая растерянность и дезориентацию. Наблюдая ситуацию изнутри, люди не могут отследить, в каком направлении развивается общество, однако отдельные разрозненные аспекты медленного преобразования непременно их коснутся. Когда старая мифология, служившая опорой и смыслом жизни, вдруг начинает рушиться под влиянием перемен, люди переживают болезненную утрату своего «Я» и впадают в отчаяние. Как мы еще увидим, самые распространенные ощущения, которыми сопровождаются перемены, – беспомощность и боязнь истребления, которые в экстремальных случаях могут вылиться в агрессию. Примерно так происходило с Лютером. В молодости его преследовали мучительные депрессии. Средневековым обрядам и религиозным действиям не удавалось прогнать то, что он называл tristitia (тоска), ужас перед смертью, которую он представлял как исчезновение с лица земли без остатка. Когда наваливалась эта черная тоска, Лютер не мог заставить себя читать Псалом 90, где подчеркивается бренность человеческой жизни и описывается гнев и ярость, которые Господь обрушивает на людей. До самой старости Лютер считал смерть порождением господнего гнева. Его доктрина оправдания верой изображала человека абсолютно не способным позаботиться о собственном спасении и полностью зависящим от божьей милости. Только осознав свою беспомощность, он сможет спастись. Чтобы как-то бороться с депрессиями, Лютер развил кипучую деятельность, задавшись целью принести как можно больше блага миру, но в то же время его обуревала ненависть[136]. Гнев Лютера на папу, турок, евреев, женщин, бунтующих крестьян – не говоря уже о его богословских оппонентах – вполне типичен и для реформаторов наших дней, мучающихся от неприятия нового мира и разрабатывающих религиозную доктрину, в которой любовь к Господу зачастую соседствует с ненавистью к себе подобным.







