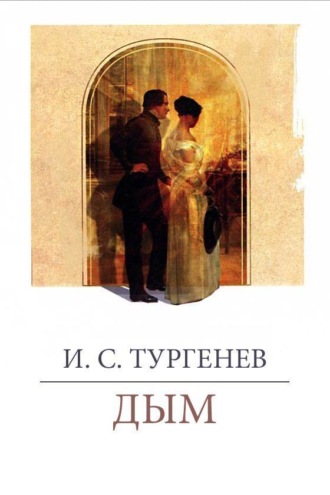
Иван Тургенев
Дым
XXIV
Литвинов расхаживал по комнате у себя в гостинице, задумчиво потупив голову. Ему предстояло теперь перейти от теории к практике, изыскать средства и пути к побегу, к переселению в неведомые края… Но, странное дело! он ни столько размышлял об этих средствах и путях, как о том, действительно ли, несомненно ли состоялось решение, на котором он так упорно настаивал? Было ли произнесено окончательное, бесповоротное слово? Но ведь Ирина сказала ему при прощании: "Делай, делай, и когда будет готово, предуведомь только". Кончено! В сторону все сомнения… Надо приступить. И Литвинов приступил – пока – к соображениям. Прежде всего деньги.
У Литвинова налицо оказалась тысяча триста двадцать восемь гульденов, на французскую монету – две тысячи восемьсот пятьдесят пять франков, сумма незначительная; но на первые потребности хватит, а там надо тотчас написать отцу, чтобы он выслал елико возможно; продал бы лес, часть земли…
Но под каким предлогом?.. Ну, предлог найдется. Ирина говорила, правда, о своих bijoux, но это никак в соображение принимать не следует: это, кто знает, про черный день пригодится. Притом в наличности находился также хороший женевский полухронометр, за который можно получить… ну, хоть четыреста франков.
Литвинов отправился к банкиру и завел обиняком речь о том, что нельзя ли, при случае, занять денег; но банкиры в Бадене народ травленый и осторожный и в ответ на подобные обиняки немедленно принимают вид преклонный и увялый, ни дать ни взять полевой цветок, которому коса надрезала стебель; некоторые же бодро и смело смеются вам в лицо, как бы сочувствуя вашей невинной шутке. Литвинов, к стыду своему, попытал даже счастье свое на рулетке, даже – о позор! – поставил талер на тридцатый нумер, соответствовавший числу его лет.
Он это сделал в видах увеличения и округления капитала; и он действительно если не увеличил, то округлил этот капитал, спустив излишние двадцать восемь гульденов.
Второй вопрос, тоже немаловажный: это паспорт. Но для женщины паспорт не так обязателен, и есть страны, где его вовсе не требуют. Бельгия, например, Англия; наконец, можно и не русский паспорт достать. Литвинов очень серьезно размышлял обо всем этом: решимость его была сильная, без малейшего колебания, а между тем, против его воли, мимо его воли, что-то несерьезное, почти комическое проступало, просачивалось сквозь все его размышления, точно самое его предприятие было делом шуточным и никто ни с кем никогда не бегивал в действительности, а только в комедиях да романах, да, пожалуй, где-нибудь в провинции, в каком-нибудь чухломском или сызранском уезде, где, по уверению одного путешественника, людей со скуки даже рвет подчас. Пришло тут Литвинову на память, как один из его приятелей, отставной корнет Бацов, увез на ямской тройке с бубенчиками купеческую дочь, напоив предварительно родителей, да и самое невесту, и как потом оказалось, что его же надули и чуть ли не приколотили вдобавок. Литвинов чрезвычайно сердился на самого себя за подобные неуместные воспоминаиия и тут же, вспомнив Татьяну, ее внезапный отъезд, все это горе, и страдание, и стыд, слишком глубоко почувствовал, что дело он затеял нешуточное и как он был прав, когда говорил Ирине, что для самой его чести другого исхода не оставалось… И снова при одном этом имени что-то жгучее мгновенно, с сладостной болью, обвилось и замерло вокруг его сердца.
Конский топот раздался за ним… Он посторонился…
Ирина верхом обогнала его; рядом с нею ехал тучный генерал. Она узнала Литвинова, кивнула ему головой и, ударив лошадь по боку хлыстиком, подняла ее в галоп, потом вдруг пустила ее во всю прыть. Темный вуаль ее взвился по ветру…
– Рas si vite! Nom de Dieu! pas si vite! – закричал генерал и тоже поскакал за нею.
XXV
На другое утро Литвинов только что возвратился домой от банкира, с которым еще раз побеседовал об игривом непостоянстве нашего курса и лучшем способе высылать за границу деньги, как швейцар вручил ему письмо. Он узнал почерк Ирины и, не срывая печати, – недоброе предчувствие, бог знает почему, проснулись в нем, – ушел к себе в комнату. Вот что прочел он (письмо было написано по-французски):
"Милый мой! я всю ночь думала о твоем предложении… Я не стану с тобой лукавить. Ты был откровенен со мною, и я буду откровенна: я не могу бежать с тобою, я не в силах это сделать. Я чувствую, как я перед тобою виновата; вторая моя вина еще больше первой, – я презираю себя, свое малодушие, я осыпаю себя упреками, но я не могу себя переменить.
Напрасно я доказываю самой себе, что я разрушила твое счастие, что ты теперь, точно, вправе видеть во мне одну легкомысленную кокетку, что я сама вызвалась, сама дала тебе торжественные обещания… Я ужасаюсь, я чувствую ненависть к себе, но я не могу поступать иначе, не могу, не могу. Я не хочу оправдыватъся, не стану говорить тебе, что я сама была увлечена… все это ничего не значит; но я хочу сказать тебе и повторить, и повторить еще раз: я твоя, твоя навсегда, располагай мною, как хочешь, когда хочешь, безответно и безотчетно, я твоя…
Но бежать, все бросить… нет! нет! нет! Я умоляла тебя спасти меня, я сама надеялась все изгладить, сжечь все как в огне… Но, видно, мне нет спасения; видно, яд слишком глубоко проник в меня; видно, нельзя безнаказанно в течение многих лет дышать этим воздухом! Я долго колебалась, писать ли тебе это письмо, мне страшно подумать, какое ты примешь решение, я надеюсь только на любовь твою ко мне. Но я сочла, что было бы бесчестным с моей стороны не сказать тебе правды – тем более что ты, быть может, уже начал принимать первые меры к исполнению нашего замысла. Ах! он был прекрасен, но несбыточен. О мой друг, считай меня пустою, слабою женщиной, презирай меня, но не покидай меня, не покидай твоей Ирины!..
Оставить этот свет я не в силах, но и жить в нем без тебя не могу. Мы скоро вернемся в Петербург, приезжай туда, живи там, мы найдем тебе занятия, твои прошедшие труды не пропадут, ты найдешь для них полезное применение… Только живи в моей близости, только люби меня, какова я есть, со всеми моими слабостями и пороками, и знай, что ничье сердце никогда не будет так нежно тебе предано, как сердце твоей Ирины. Приходи скорее ко мне, я не буду иметь минуты спокойствия, пока я тебя не увижу.
Твоя, твоя, твоя И."
Молотом ударила кровь в голову Литвинова, а потом медленно и тяжело опустилась на сердце и так камнем в нем и застыла. Он перечел письмо Ирины и, как в тот раз в Москве, в изнеможении упал на диван и остался неподвижным. Темная бездна внезапно обступила его со всех сторон, и он глядел в эту темноту бессмысленно и отчаянно. Итак, опять, опять обман, или нет, хуже обмана – ложь и пошлость…
И жизнь разбита, все вырвано с корнем, дотла, и то единственное, за которое еще можно было ухватиться – та последняя опора, – вдребезги тоже! "Поезжай за нами в Петербург, – повторял он с горьким внутренним хохотом, – мы там тебе найдем занятия…" "В столоначальники, что ли, меня произведут?
И кто эти мы? Вот когда сказалось ее прошедшее! Вот то тайное, безобразное, которого я не знаю, но которое она пыталась было изгладить и сжечь как бы в огне! Вот тот мир интриг, тайных отношений, историй Бельских, Дольских… И какая будущность, какая прекрасная роль меня ожидает! Жить в ее близости, посещать ее, делить с ней развращенную меланхолию модной дамы, которая и тяготится и скучает светом, а вне его круга существовать не может, быть домашним другом ее и, разумеется, его превосходительства… пока… пока минет каприз и приятель-плебей потеряет свою пикантность и тот же тучный генерал или господин Фиников его заменит – вот это возможно, и приятно, и, пожалуй, полезно… говорит же она о полезном применении моих талантов! – а тот умысел несбыточен! несбыточен…" В душе Литвинова поднимались, как мгновенные удары ветра перед грозой, внезапные, бешеные порывы… Каждое выражение в письме Ирины возбуждало его негодование, самые уверения ее в неизменности ее чувства оскорбляли его."Этого нельзя так оставить, – воскликнул он наконец, – я не позволю ей так безжалостно играть моею жизнию…"
Литвинов вскочил, схватил шляпу. Но что было делать? Бежать к ней? Отвечать на ее письмо? Он остановился и опустил руки. Да; что было делать?
Не сам ли он предложил ей тот роковой выбор? Он выпал не так, как ему хотелось… Всякий выбор подвержен этой беде. Она изменила свое решение, правда; она сама, первая, объявила, что бросит все и последует за ним, правда и то; но она и не отрицает своей вины, она прямо называет себя слабою женщиной; она не хотела обмануть его, она сама в себе обманулась… Что на это возразить? По крайней мере, она не притворяется, не лукавит… она откровенна с ним, беспощадно откровенна.
Ничто не заставляло ее тотчас высказываться, ничто не мешало ей успокоивать его обещаниями, оттягивать и оставлять все в неизвестности до самого отъезда… до отъезда с мужем в Италию! Но она жизнь его загубила, она две жизни загубила!.. Мало ли чего нет!
А перед Татьяной виновата не она, виноват он, один он, Литвинов, и не имеет он права стряхивать с себя ту ответственность, которую железным ярмом на него наложила его вина… Все так; но что же теперь оставалось делать?
Он снова бросился на диван, и снова темно, и глухо, и бесследно, с пожирающею быстротой, побежали мгновения…
"А не то послушаться ее? – мелькнуло в его голове. – Она меня любит, она моя, и в самом нашем влечении друг к другу, в этой страсти, которая, после стольких лет, с такой силой пробилась и вырвалась наружу, нет ли чего– то неизбежного, неотразимого, как закон природы? Жить в Петербурге… да разве я первый буду находиться в таком положении? Да и где бы мы приютились с ней. эх И он задумался, и образ Ирины в том виде, в каком он навек напечатлелся в его последних воспоминаниях, тихо предстал перед ним…
Но ненадолго… Он опомнился и с новым порывом негодования оттолкнул прочь от себя и те воспоминания, и тот обаятельный образ.
"Ты мне даешь пить из золотой чаши, – воскликнул он, – но яд в твоем питье, и грязью осквернены твои белые крылья… Прочь! Оставаться здесь с тобою, после того как я… прогнал, прогнал мою невесту… бесчестное, бесчестное дело!" Он стиснул горестно руки, и другое лицо, с печатью страданья на неподвижных чертах, с безмолвным укором в прощальном взоре, возникло из глубины…
И долго так еще мучился Литвинов; долго, как трудный больной, металась из стороны в сторону его истерзанная мысль…
Он утих наконец; он наконец решился. С самой первой минуты он предчувствовал это решение… оно явилось ему сначала как отдаленная, едва заметная точка среди вихря и мрака внутренней борьбы; потом оно стало надвигаться все ближе и ближе и кончило тем, что врезалось холодным лезвием в его сердце.
Литвинов снова вытащил свой чемодан из угла, снова уложил, не торопясь и даже с какою-то тупою заботливостью, все свои вещи, позвонил кельнера, расплатился и отправил к Ирине записку на русском языке следующего содержания:
"Не знаю, больше ли вы теперь передо мной виноваты, чем тогда; но знаю, что теперешний удар гораздо сильнее… Это конец. Вы мне говорите: "Я не могу"; и я вам повторяю тоже: "Я не могу… того, что вы хотите, Не могу и не хочу". Не отвечайте мне. Вы не в состоянии дать мне единственный ответ, который я бы принял. Я уезжаю завтра рано с первым поездом. Прощайте, будьте счастливы… Мы, вероятно, больше не увидимся".
Литвинов до самой ночи не выходил из своей комнаты; ждал ли он чего, бог ведает! Около семи часов вечера дама в черной мантилье, с вуалем на лице, два раза подходила к крыльцу его гостиницы. Отойдя немного в сторону и поглядев куда-то вдаль, она вдруг сделала решительное движение рукой и в третий раз направилась к крыльцу…
– Куда вы, Ирина Павловна? – раздался сзади ее чей-то напряженный голос.
Она обернулась с судорожною быстротой… Потугин бежал к ней.
Она остановилась, подумала и так и бросилась к нему, взяла его под руку и увлекла в сторону. – Уведите, уведите меня, – твердила она, задыхаясь.
– Что с вами, Ирина Павловна? – пробормотал он, изумленный.
– Уведите меня, – повторила она с удвоенною силой, – если вы не хотите, чтоб я навсегда осталась… там!
Потугин наклонил покорно голову, и оба поспешно удалились.
На следующее утро, рано, Литвинов уже совсем собрался в дорогу – в комнату к нему вошел… тот же Потугин.
Он молча приблизился к нему и молча пожал ему руку. Литвинов тоже ничего не сказал. У обоих были длинные лица, и оба напрасно старались улыбнуться.
– Я пришел пожелать вам счастливого пути, – промолвил наконец Потугин.
– А почему вы знаете, что я уезжаю сегодня? – спросил Литвинов.
Потугин поглядел вокруг себя по полу…
– Мне это стало известным… как видите. Наш последний разговор получил под конец такое странное направление… Я не хотел расстаться с вами, не выразив вам моего искреннего сочувствия.
– Вы сочувствуете мне теперь… когда я уезжаю?
Потугин печально посмотрел на Литвинова.
– Эх, Григорий Михайлыч, Григорий Михайлыч, – начал он с коротким вздохом, не до того нам теперь, не до тонкостей и препираний. Вы вот, сколько я мог заметить, довольно равнодушны к родной словесности и потому, быть может, не имеете понятия о Ваське Буслаеве?
– О ком?
– О Ваське Буслаеве, новогородском удальце… в сборнике Кирши Данилова.
– Какой Буслаев? – промолвил Литвинов, несколько озадаченный таким неожиданным оборотом речи. – Я не знаю.
– Ну, все равно. Так вот я на что хотел обратить ваше внимание. Васька Буслаев, после того как увлек своих новгородцев на богомолье в Ерусалим и там, к ужасу их, выкупался нагим телом в святой реке Иордане, ибо не верил "ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай", – этот логический Васька Буслаев взлезает на гору Фавор (Табор), а на вершине той горы лежит большой камень, через который всякого роду люди напрасно пытались перескочить… Васька хочет тоже свое счастье изведать. И попадается ему на дороге мертвая голова, человечья кость; он пихает ее ногой. Ну и говорит ему голова: "Что ты пихаешься? Умел я жить, умею и в пыли валяться – и тебе то же будет". И точно: Васька прыгает через камень, и совсем было перескочил, да каблуком задел и голову себе сломил. И тут я кстати должен заметить, что друзьям моим славянофилам, великим охотникам пихать ногою всякие мертвые головы да гнилые народы, не худо бы призадуматься над этою былиной.
– Да к чему все это? – перебил наконец с нетерпеньем Литвинов. – Мне пора, извините…
– А к тому, – отвечал Потугин, и глаза его засветились таким дружелюбным чувством, какого Литвинов даже не ожидал от него, – к тому, что вот вы не отталкиваете мертвой человечьей головы и вам, быть может, за вашу доброту и удастся перескочить через роковой камень. Не стану я вас больше удерживать, только вы позвольте обнять вас на прощанье.
– Я и пытаться не буду прыгать, – промолвил Литвинов, троекратно целуясь с Потугиным, и к скорбным ощущениям, переполнявшим его душу, примешалось на миг сожаление об одиноком горемыке. – Но надо ехать, ехать… – Он заметался по комнате.
– Хотите, я вам понесу что-нибудь? – предложил свои услуги Потугин.
– Нет, благодарствуйте, не беспокойтесь, я сам…
Он надел шапку, взял в руки мешок. – Итак, вы говорите, – спросил он, уже стоя на пороге, – вы видели ее?
– Да, видел.
– Ну… и что же она?
Потугин помолчал.
– Она вас ждала вчера… и сегодня ждать вас будет.
– А! Ну так скажите ей… Нет, не нужно, ничего не ну нужно. Прощайте… Прощайте!
– Прощайте, Григорий Мпхайлыч… Дайте мне еще вам слово сказать. Вы еще успеете меня выслушать: до отхода железной дороги осталось больше получаса. Вы возвращаетесь в Россию… Вы будете там… со временем… действовать… Позвольте же старому болтуну – ибо я, увы! болтун, и больше ничего – дать вам напутственный совет. Всякий раз, когда вам придется приниматься за дело, спросите себя: служите ли вы цивилизации – в точном и строгом смысле слова, проводите ли одну из ее идей, имеет ли вашим труд тот педагогический, европейский характер, который единственно полезен и плодотворен в наше время, у нас?
Если так – идите смело вперед вы на хорошем пути, и дело ваше – благое! Слава богу! Вы не одни теперь. Вы не будете "сеятелем пустынным": завелись уже и у нас труженики… пионеры… Но вам теперь не до того. Прощайте, не забывайте меня!
Литвинов бегом спустился с лестницы, бросился в карету и доехал до железной дороги, не оглянувшись ни разу на город, где осталось столько его собственной жизни… Он как будто отдался волне: она подхватила его, понесла, и он твердо решился не противиться ее влечению… От всякого другого изъявления воли он отказался.
Он уже садился в вагон.
– Григорий Михайлович… Григорий… – послышался за его спиной умоляющий шепот.
Он вздрогнул… Неужели Ирина? Точно: она. Закутанная в шаль своей горничной, с дорожною шляпою на неубранных волосах, она стоит на платформе и глядит на него померкшими глазами. "Вернись, вернись, я пришла за тобой",говорят эти глаза. И чего, чего не сулят они! Она не движется, не в силах прибавить слово; все в ней, самый беспорядок ее одежды, все как бы просит пощады…
Литвинов едва устоял на ногах, едва не бросился к ней… Но та волна, которой он отдался, взяла свое… Он вскочил в вагон и, обернувшись, указал Ирине на место возле себя. Она поняла его. Время еще не ушло. Один только шаг, одно движение, и умчались бы в неведомую даль две навсегда соединенные жизни… Пока она колебалась, раздался громкий свист, и поезд двинулся.
Литвинов откинулся назад, а Ирина подошла, шатаясь, к скамейке и упала на нее, к великому изумлению заштатного дипломата, случайно забредшего на железную дорогу. Он мало был знаком с Ириной, но очень ею интересовался и, увидав, что она лежит, как в забытьи, подумал, что с ней случилась une attaque de nerfs, a потому счел своим долгом, долгом d'un galant chevalier, прийти ей на помощь. Но изумление его приняло гораздо большие размеры, когда при первом слове, к ней обращенном, она вдруг поднялась, оттолкнула предложенную руку и, выбежав на улицу, чрез несколько мгновений исчезла в молочной мгле тумана, столь свойственного шварцвальдскому климату в первые осенние дни.
XXVI
Нам случилось однажды войти в избу крестьянки, только что потерявшей единственного, горячо любимого сына, и, к немалому нашему удивлению, найти ее совершенно спокойною, чуть не веселою. "Не замайте, – сказал ее муж, от которого, вероятно, не скрылось это удивление, – она теперь закостенела".
И Литвинов так же "закостенел". Такое же спокойствие нашло на него в первые часы его путешествия. Совершенно уничтоженный и безнадежно несчастный, он, однако, отдыхал, отдыхал после тревог и терзаний последней недели, после всех этих ударов, раз за разом обрушившихся на его голову. Они тем сильнее его потрясли, чем менее он был создан для подобных бурь. Он уж точно ни на что не надеялся теперь и старался не вспоминать – пуще всего не вспоминать; он ехал в Россию… – надо же было куда-нибудь деваться! – но уже никаких, лично до собственной особы касающихся, предположений не делал. Он не узнавал себя; он не понимал своих поступков, точно он свое настоящее "я" утратил, да и вообще он в этом "я" мало принимал участия.
Иногда ему сдавалось, что он собственный труп везет, и лишь пробегавшие изредка горькие судороги неизлечимой душевной боли напоминали ему, что он еще носится с жизнью. По временам ему казалось непостижимым, каким образом может мужчина – мужчина! – допустить такое влияние на себя женщины, любви… "Постыдная слабость!" – шептал он и встряхивал шинелью и плотнее усаживался: вот, дескать, старое кончено, начнем новое… Минута – и он только улыбался горько и дивился самому себе. Он принялся глядеть в окно. День стоял серый и сырой; дождя не было, но туман еще держался и низкие облака заволокли все небо. Ветер дул навстречу поезду; беловатые клубы пара, то одни, то смешанные с другими, более темными клубами дыма, мчались бесконечною вереницей мимо окна, под которым сидел Литвинов.
Он стал следить за этим паром, за этим дымом. Беспрерывно взвиваясь, поднимаясь и падая, крутясь и цепляясь за траву, за кусты, как бы кривляясь, вытягиваясь и тая, неслись клубы за клубами: они непрестанно менялись и оставались те же… Однообразная, торопливая, скучная игра! Иногда ветер менялся, дорога уклонялась – вся масса вдруг исчезала и тотчас же виднелась в противоположном окне; потом опять перебрасывался громадный хвост и опять застилал Литвинову вид широкой прирейнской равнины. Он глядел, глядел, и странное напало на него размышление… Он сидел один в вагоне: никто не мешал ему.
"Дым, дым", – повторил он несколько раз; и все вдруг показалось ему дымом, все, собственная жизнь, русская жизнь – все людское, особенно все русское. Все дым и пар, думал он; все как будто беспрестанно меняется, всюду новые образы, явления бегут за явлениями, а в сущности все то же да то же; все торопится, спешит куда-то – и все исчезает бесследно, ничего не достигая; другой ветер подул – и бросилось все в противоположную сторону, и там опять та же безустанная, тревожная и – ненужная игра. Вспомнилось ему многое, что с громом и треском совершалось на его глазах в последние годы…
Дым, шептал он, дым; вспомнились горячие споры, толки и крики у Губарева, у других, высоко– и низкопоставленных, передовых и отсталых, старых и молодых людей… Дым, повторял он, дым и пар. Вспомнился, наконец, и знаменитый пикник, вспомнились и другие суждения и речи других государственных людей – и даже все то, что проповедовал Потугин… дым, дым, и больше ничего.
А собственные стремления, и чувства, и попытки, и мечтания? Он только рукой махнул.
А между тем поезд бежал да бежал; уже давно и Раштадт, и Карлсруэ, и Брухзаль остались назади; горы с правой стороны дороги сперва отклонились, ушли вдаль, потом надвинулись опять, но уже не столь высокие и реже покрытые лесом… Поезд круто повернул в сторону… вот и Гейдельберг. Вагоны подкатились под навес станции; раздались крики разносчиков, продающих всякие, даже русские, журналы; путешественники завозились на своих местах, вышли на платформу; но Литвинов не покидал своего уголка и продолжал сидеть, потупив голову. Вдруг кто-то назвал его по имени; он поднял глаза: рожа Биндасова просунулась в окно, а за ним – или это ему только померещилось? – нет, точно, все баденские, знакомые лица: вот Суханчикова, вот Ворошилов, вот и Бамбаев; все они подвигаются к нему, а Биндасов орет:
– А где же Пищалкин? Мы его ждали; но все равно; вылезай, сосюля, мы все к Губареву.
– Да, братец, да, Губарев нас ждет, – подтвердил, выдвигаясь, Бамбаев, вылезай.
Литвинов рассердился бы, если б не то мертвое бремя, которое лежало у него на сердце. Он глянул на Биндасова и отвернулся молча.
– Говорят вам, здесь Губарев! – воскликнула Суханчикова, и глаза ее чуть не выскочили.
Литвинов не пошевелился.
– Да послушай, Литвинов, – заговорил наконец Бамбаев, – здесь не один только Губарев, здесь целая фаланга отличнейших, умнейших молодых людей, русских – и все занимаются естественными науками, все с такими благороднейшими убеждениями! Помилуй, ты для них хоть останься. Здесь есть, например, некто… эх! фамилию забыл! но это просто гений!
– Да бросьте его, бросьте его, Ростислав Ардалионыч, – вмешалась Суханчикова, – бросьте! Вы видите, что он за человек; и весь его род такой. Тетка у него есть; сначала мне показалась путною, а третьего дня еду я с ней сюда – она перед тем только что приехала в Баден, и глядь! уж назад летит, ну-с, еду я с ней, стала ее расспрашивать… Поверите ли, слова от гордячки не добилась. Аристократка противная!
Бедная Капитолина Марковна – аристократка! Ожидала ли она подобного посрамления?!
А Литвинов все молчал, и отвернулся, и фуражку на глаза надвинул. Поезд тронулся наконец.
– Да скажи хоть что-нибудь на прощанье, каменный ты человек! – закричал Бамбаев. – Этак ведь нельзя!
– Дрянь! колпак! – завопил Биндасов. Вагоны катились все шибче и шибче, и он мог безнаказанно ругаться. – Скряга! слизняк! каплюжник!!
Изобрел ли Биндасов на месте это последнее наименование, перешло ли оно к нему из других рук, только оно, по-видимому, очень понравилось двум тут же стоявшим благороднейшим молодым людям, изучавшим естественные науки, ибо несколько дней спустя оно уже появилось в русском периодическом листке, издававшемся в то время в Гейдельберге под заглавием: "А toyt venant je crache!" – или: "Бог не выдаст, свинья не съест".
А Литвинов опять затвердил свое прежнее слово: дым, дым, дым! Вот, думал он, в Гейдельберге теперь более сотни русских студентов; все учатся химии, физике, физиологии – ни о чем другом и слышать не хотят… А пройдет пять-шесть лет, и пятнадцати человек на курсах не будет у тех же знаменитых профессоров… ветер переменится, дым хлынет в другую сторону… дым… дым… дым!
К ночи он проехал мимо Касселя. Вместе с темнотой тоска несносная коршуном на него спустилась, и он заплакал, забившись в угол вагона. Долго текли его слезы, не облегчая сердца, но как-то едко и горестно терзая его; а в то же время в одной из гостиниц Касселя, на постели, в жару горячки, лежала Татьяна; Капитолина Марковна сидела возле нее.
– Таня, – говорила она, – ради бога, позволь мне послать телеграмму к Григорию Михайловичу; позволь, Таня.
– Нет, тетя, – отвечала она, – не надо, не пугайся. Дай мне воды; это скоро пройдет.
И действительно, неделю спустя здоровье ее поправилось, и обе подруги продолжали свое путешествие.







