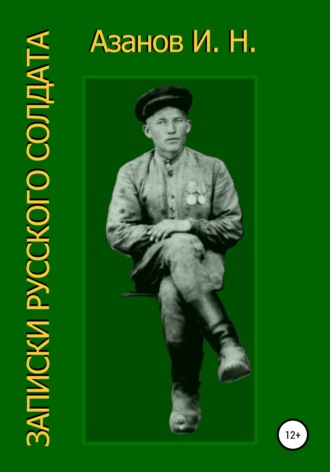
Иван Николаевич Азанов
Записки русского солдата
Побег
Наутро шёл нудный, мелкий, осенний дождь с туманом. К нам пришёл ихний фельдфебель и маячит нам, мол, ломайте замок у соседа на овощехранилище, носите картошку, вот такую кучу, и чистите. Почему-то пришёл без переводчика. Я взял, да и огрызнулся, мол, ломайте, и носите сами, а мы начистим. Фельдфебель вытащил свой Вальтер из кобуры, потряс им перед моим носом, да как залает на своём собачьем языке! Думаю, так ведь и прикончит ни за что, ни про что. Пошёл, у хозяина выпросил ломик, вывернул замок, у него же взяли мешки и натаскали кучу картошки. Уселись вокруг кучи чистить картошку. А сердечко у меня так колотится, что грудь звенит. Воткнул я нож в землю, завернул папиросу. Вышел из хаты, хотел прикурить у часового. Часового около двери нет. Думаю: наверное, вокруг хаты пошёл. Пошёл и я вокруг хаты. Обошёл кругом, часового нет! Наверное, мы друг за другом ходим, Пошёл в другую сторону. Обошёл кругом, часового нет. Да что за наваждение, думаю? Наверное, опять совпадение? Отошёл от хаты в кусты крапивы да бурьяна, снял штаны, уселся. Если ходит вокруг хаты, так всё равно, придёт. Посидел, посидел, часового нет.
А по деревне молодёжь, подростки лет 15–16 погнали на волю стадо коров. Пока я сидел, конец стада поравнялся с нашей хатой. Я встал, оделся и шагнул на дорогу, чтобы прикурить у парней, и ещё не думал о побеге. Вышел на середину улицы, попросил у парня спичек, прикурил. Сам шагаю рядом с парнем. Потом одной рукой подаю парню спички, другой забрал у парня прутик. Сам шагаю за стадом вдоль улицы. Парень от меня отошёл к домам на край улицы. Я иду срединой. Так дошёл до конца посёлка, вышел в поле. Довольно далеко отошёл от посёлка. Когда оглянулся, то силуэты домов ещё едва маячили, ну а мелких деталей, как-то окна, трубы и т. д. видно не было. Тогда я бросил прутик и бросился бежать. Бежал, наверное, километра три. Выбежал на скошенное ржаное поле. Рожь скошена, а снопы кучками, снопов, наверное, по двадцать лежат на поле. Так вот в такую кучку я и влез, как гвоздь. Лежал до наступления темноты. Ночью пошёл дальше продолжать свой путь. Вот не помню, на какой день я набрёл на небольшой хуторок, дома два, или три. Он расположен километрах в четырёх или в восьми от села.
Этот нудный, мелкий дождь так и продолжал идти. Весь, до нитки промокший, я попросился на ночлег у пожилой женщины. Она охотно пригласила в дом. Семья состояла из трёх человек. Вот эта женщина, её сноха, лет тридцати и девочка лет семи-восьми. Дом большой, хороший, семья зажиточная: корова, телёнок, овцы, свинья, домашняя птица. Одним словом, всё, как полагается. Хозяин, сын пожилой женщины, муж молодой, в армии. Меня как дорогого гостя, покормили ужином, сделали постель. Одним словом, ночевал, как дома. Наутро покормили завтраком. Я поблагодарил хозяйку, стал собираться в поход. Хозяйка говорит мне: «Куда ты в такую погоду пойдёшь? Ложись-ко, да отдохни ещё. А я вот нагрею воды, да помойся. Бельё я тебе дам свежее, а это, что на тебе, пожарим, да постираем. А идти ещё успеется». Подумал я, подумал, да и вправду, когда я мылся, уже забыл. И бельё не менял давно. И вошки беспокоят, раздеваться тоже редко приходилось. Бабка больно уж приветливая, да весёлая, таких немного встречается.
Помог молодой хозяйке скот напоить, да раза два-три за водой на ручей сходил. А тут бабка мне и баню устроила. Поставила деревянное стиральное корыто, ведра два или три тёплой водички, мыло, полотенце, давай, говорит, иди, мойся. Но мне это в новинку, в корыте-то первый раз мыться пришлось. Так, да сяк, но всё-таки, помылся я. Одел бабкино бельё. Своё-то смотал в узелок, да за дверь и выбросил, чтоб, мол, вши у добрых людей не поселились. Прибрал за собой всё, как умел, да так и щеголяю в нательном белье по дому. А бабка той порой где-то на дворе с делами управлялась. Пришла домой, вытащила грязную воду на улицу. «Залезай-ко, сынок, на печку, да отдохни после баньки. А где твоя одежонка-то? Я её в печку посажу». В сенках, говорю, за дверью лежит. Улёгся я на печку в нижнем белье и босой. Полежал, да и задремал. Бабка хлопотала по хозяйству. Потом, слышу, бабка на дворе плачет, да причитает, и к сенцам приближается. Ну, думаю, влип я снова в историю! Наверно пришли немцы, и забирают кого-нибудь из скота. Того и гляди, до меня доберутся. Прятаться некуда, да и времени нет! Проворонил, думаю. Лежу на печи, решил притвориться спящим. Думаю, авось за местного сойду. Одним глазом на дверь поглядываю. Дверь отворилась, входит мужчина, бородатый, в гражданской одежде. Возрастом лет тридцать-тридцать пять. Бабка около него виташится, друг друга расспрашивают. Молодая хозяйка следом идёт молча, весело поглядывает. Понятно стало, что хозяин пришёл. А он на печку уставился, на меня смотрит.
Я сел на печи, ну, говорю, здорово, хозяин! А я вот наперёд твоего на печку забрался. Он всё мне в глаза глядит, разговаривает неохотно. Подозревает, что я тут в «заместителях» обосновался. Потом бабка втолковала ему, что я всего одну ночь ночевал, да она же меня и не отпустила, а то бы давно ушёл. После этого заговорил мой хозяин. Смотреть веселее стал. Потом бабка устроила и ему баню, если это можно назвать баней. Потом мы с ним постригли друг друга. Он побрился. Бабка же нам принесла коряжок самогону, курим на равных. Мамаша не нарадуется на сынка, что жив-здоров, домой явился. Да меня благодарит, говорит, это ты сынка привёл. Поит, кормит меня с ним наравне. Я ещё ночь ночевал у них, отдохнул очень хорошо. Наутро стал в путь собираться. А бабка опять своё поёт: «Да куда же ты в такую погоду? Да тебе до дому-то и за год не дойти». Нет, говорю, мамаша, спасибо тебе за всю твою теплоту и доброту, за хлеб, за соль. Пора мне и честь знать. Домой, говорю, я не спешу, а вот до своих добраться надо спешить. До зимы добраться, по чёрной тропе.
Мамаша вручила мне каравашек пшеничного хлебушка, мяконького, да кусок свиного сала, весом грамм триста. Уложил я это всё в свою противогазную сумку. Попрощался и говорю хозяину: «Ну а ты что делать думаешь? К своим пойдёшь, али дома останешься?» «Недельки две, говорит, отдохну дома, а там посмотрим». Ну, говорю, счастливо оставаться. И так я подался дальше в путь. На подходах к Белгороду в деревни входить не было возможности. В них размещались немцы на постой. Дороги тоже не были безопасны. На полях что-либо съестного найти было не просто. Картошка, кукуруза, были уже убраны. Так я на этом хлебушке, что дала мне бабка, питался дней пять. Ночевал на полях, с трудом пробирался вперёд. Белгород и Северный Донец не давали покоя, где и как преодолеть эту водную преграду. Около одной из Лопаней, а их было три, если не больше – это деревни на подступах к Белгороду – малая Лопань, большая Лопань, и Казачья Лопань – я встретил подростка лет пятнадцати-шестнадцати. Он направлялся в Белгород. Там жила его бабушка. Одет он был бедно, нёс с собой узелок: пол-каравая хлеба, кусочек сала и пару яичек. Я пристроился с ним.
Идём, и разговариваем. Я расспрашивал его, все, что можно было узнать о Белгороде, а так же о немцах. Как они себя ведут, чем занимаются? На ходу решил идти напролом, через город. На окраине Белгорода, в районе кирпичного завода был немецкий пост. Трое немцев в яме жгли костёр, около него подпрыгивали, греясь, и наблюдали за дорогой. Когда мы поравнялись с ними, они остановили нас, обшарили карманы и всё остальное, что можно обшарить при обыске. У меня поживиться было нечем. У парня выпотрошили узелок, а тряпочку выбросили ему. Всё содержимое тут же проглотили. Мы с ним пошли дальше. Он свернул в город, а я направился к железнодорожному мосту. Мост был взорван. Восточный конец фермы лежал на опоре, западный лежал на дне реки, но не против опоры, а ниже её, как будто её отнесло течением. Тот конец, что лежал в реке, был искорёжен взрывом и падением.
Повыше моста был кем-то сделан пешеходный переход. Сколочены из кряжей дров козла, поставлены ногами на дно. На них положены доски, по одной в ряд. К козлам прибиты стойки, а к стойкам тоненькие жердочки, поручни. Когда я подошёл к этому переходу, с противоположного берега подошло отделение немецких солдат. Я переждал, пока пройдут они, потом перешёл я. Народу шло много, потому я не был белой вороной, и не привлекал внимания. В старом городе, на восточном берегу Донца, были склады заготзерна. При отходе наши их сожгли. Горы обгорелого зерна лежали под открытым небом. Немцы сгоняли сюда местное население, убирали верхние, обгорелые слои зерна в сторону. А там оставалась чистая, золотистая пшеничка, метра три толщиной, огромный бурт. Эту нашу русскую пшеничку контарили в мешки и грузили в вагоны для отправки в Германию русскими руками под надзором немцев. Народу было толпы, пришлось и мне потрудиться.
Днём я договорился с женщинами, которым идти домой по Шебекинской железнодорожной ветке, километров около пяти. Они мне принесли мешок под пшеничку, которой немцы расплачивались за дневной труд. Принесли и хлебушка, пожеваться днём. Работы заканчивались с наступлением темноты. Тогда люди шли, неся на плечах мешки с пшеницей, кто, сколько сможет унести. Нагрузил и я килограмм двадцать и со всеми наравне подался в деревню по железнодорожному полотну. Ночевал и покушал и вечером и утром за свою пшеничку. Потом подался вперёд, на восток. Шёл вначале полем, напрямик, без дорог. Потом вышел на дорогу, ведущую на село Большая Троица. Шагал километров сорок, не встречая ни немцев, ни наших. В сводках Совинформбюро в то время бытовало такое выражение: «На таком-то участке фронта велись поиски разведчиков». Так вот это и был такой участок фронта, где лазили и наши и немецкие группы разведчиков. Но я их не встретил.
Снова в строю
Дорога эта гравийно-засыпная, не в хорошем состоянии. Не контролировалась в своё время дорожным отделом. На дороге, вернее, возле дороги, стоял дом. Жителей в нём не было. Он предназначался для размещения людей, временно работающих на дорожноремонтных работах на близлежащем участке. За домом стоял наш танк Т-34. В доме танкисты играли в карты. На столе лежали кучи денег. Вокруг валялись пустые бутылки. Под столом было несколько полных. Танкисты были изрядно выпившие. В поле, не доходя до дому, в копне сена, лежал танкист с танковым пулемётом. Вот он меня окликнул, подозвал к себе, расспросил, откуда я, что видел? Когда понял, что я могу рассказать много интересного, проводил меня в дом. Старшим среди танкистов был старший лейтенант. Ему я поведал всё, что мог. Потом спросил: что же мне делать? Куда пойти? Он мне посоветовал идти в Большую Троицу, а там, мол, найдёшь, к кому обратиться. И я ушёл.
Вот это были те первые русские, кого я повстречал после столь нелёгкого путешествия. Было это шестого ноября, 1941 года. Пришёл я в Большую Троицу. Спрашиваю, где военкомат? Мне сказали – эвакуирован. Военного коменданта нет. Я зашёл в милицию. Спросил, куда и как мне обратиться, что я военнослужащий. Вышел сам из окружения. Дежурный говорит: «Подожди, вот придёт начальник, он решит, что с тобой делать». Сижу, жду, часа два и три, и дальше. Дело уже к вечеру. Когда же, говорю, придёт ваш начальник? «Сегодня не будет. Придёт завтра». Что же, говорю, ты морочишь мне голову? Спасибо, говорю за гостеприимство, досвидания. Сам той порой в дверь, да на улицу. Дежурный кричит: «Стой! Стрелять буду!» Я уже бегу по улице, народ идёт и по пути, и встречу. Добежал до перекрёстка, повернул налево. Спрашиваю у женщины: «Где есть военные?» «Налево, во втором дворе». Бегу туда. Зашёл во двор. Там стоит строй, человек до сотни. Перед строем похаживает полковник пограничных войск. Толкает речь.
Подхожу, докладываю, так, мол, и так. Он говорит: «Становитесь в строй!» Встаю в строй. Вбегает этот милиционер с наганом наголо. Увидал меня в строю, ни слова не говоря, подался обратно. Нам дали по буханке хлеба, да по банке говяжьей тушёнки, и подались мы на станцию Волоконовка. Ночью погрузили на паровоз и ночью же доехали до станции Валуйки. Вокзал большой, каменный. Народу ещё больше. Сидят и лежат и толкаются на ногах ещё больше. Так мы протолкались всю ночь. Нам надо пробираться на станцию Лиски, железная дорога не работает. Правая колея забита сплошь эшелонами без паровозов. Грузы самые разнообразные от продовольственных товаров, до станков и другого заводского оборудования, до обычных дров. Левой колеёй пропускают самые необходимые для фронта грузы, а с фронта эшелоны с ранеными.
Топали мы по железной дороге, или вблизи её, по деревням пешочком. Прибыли в посёлок. Пересыльный пункт был размещён в здании школы. Здание большое, двухэтажное, п-образной формы. Народу толпа! Стою я в коридоре, прислонившись к стенке. Не помню уже, чего-то ожидая. Напротив меня окно. На подоконнике сидит человек, и так внимательно смотрит на меня. Я в свою очередь посмотрел на него. Что-то знакомое нашёл в чертах его лица. Стою, и перебираю в памяти, где бы мог я видеть этого человека? Одет он в плащ песочного цвета, на голове простая кепка, каких в то время можно было видеть где угодно. Посмотрю снова: да, лицо знакомое, а кто именно, не придумаю. Он поглядывает на меня, и тоже молчит. Потом я подхожу к нему, подаю руку и называю фамилию. Да, отвечает, это я, но с кем имею дело? Не знаю, лицо знакомое, а кто именно, не помню. В 151 кавалерийском полку служили? Да, отвечает, в 105 отдельный батальон связи был переведен. Азанов! Говорит. Да, говорю, он самый.
Ну, рассказывай, говорю, как ты и что, где, кем воевал, как сюда попал? Он мне рассказал, что попал на фронт в качестве стрелка радиста на самолёте-бомбардировщике. Самолёт сбили, он приземлился на занятой врагом территории. Так же, как я, пробирался через фронт. Служил он радистом и в 151 кавалерийском полку, и в 105 ОБО. Ну, а я в свою очередь рассказал о своём житье, бытье. Потом нас отправили в запасной полк в Россошь, располагались мы в домах плодоконсервного завода, числа до 20 декабря, 1941 года. Обмундирования не было, кто в чём был, так и щеголяли. Ходить на двор у меня было не в чём. Сапоги мои развалились совсем. Ноги стали опухать, и гнулись плохо. Солдатские брюки не одевались на опухшие ноги. Так я с месяц сидел сиднем на соломе, брошенной на пол. Обед мне приносили товарищи. На двор ходил только на крыльцо, ито на коленках. Очень беспокоящих болей не чувствовал, а слушались ноги очень плохо, как деревянные. И как будто я очень много прошел, ноги устали при ходьбе и никак не отдохнут. Медиков я не встречал, были они, или нет, или их совсем не было, не знаю, за помощью обратиться было не к кому. Но вот подошёл срок, меня назначили в маршевую роту.
Посадили в машину, отвезли в городскую баню. Обмундировали довольно неплохо, в новое обмундирование: нательное бельё, летнее и зимнее. Гимнастёрки хлопчатобумажные. Ватный костюм новый, новые шапки-ушанки, трёхпалые рукавицы хлопчатобумажные. Ботинки и портянки летние и зимние. Потом погрузились в вагоны-теплушки. Прибыли на станцию Новый Оскол. Потом пешочком 120 километров до фронта. Прибыли через три дня пути в деревню Чурсино, Курской области, в 664 артиллерийский полк. Я попал во вторую батарею первого дивизиона. Командиром батареи был старший лейтенант Плотников. Родом он с Вологодской области, среднего роста, плотный, крепкий мужичёк, с типичным вологодским лицом. Скуластый, с грубыми чертами, не красавец, но и не похабный. Говорок тоже типичный, вологодский.
Очень спокойный, не суетливый, но и не тихоня, всегда уверенный в себе. Принял нас доброжелательно. Взгляд деловой и весёлый. Одним словом, нам понравился. Через несколько дней он обратил внимание на мою неуклюжую походку. Спрашивает: что у тебя с ногами? Что-то мне не нравится твоя походка. Я ему рассказал всё начистоту, и высказал своё пожелание: мне бы двигаться надо беспрестанно, но не далеко, авось пройдёт. Медик в батарее был: санинструктор, толстая, огромная тётя, но помочь мне она ничем не помогла. Старший лейтенант нашёл мне должность по моему желанию: послал меня связным в штаб дивизиона.
В мои обязанности входило то разыскать кого-то, то отнести бумажку, то передать устно какое-то распоряжение. День начинался часов в пять-шесть утра, и продолжался до двух-трёх часов ночи. Идти далеко некуда, вся беготня в пределах одной деревни. Перерывы между побегушками случались очень редко. Только появишься в штабе, доложишь, что «ваше приказание выполнено», а там не дадут договорить, следует новое приказание, и опять побежал. Так я бегал больше месяца, надоело, хуже горькой редьки. Я попросил комбата заменить меня другим человеком. Прислал он пришедшего вместе со мной солдата Попова. Это огромного роста, моложе меня детина. Он прижился на этой должности, и бегал всю зиму. Я же на следующий день пошёл с комбатом на НП, и тоже акклиматизировался там почти напостоянно. Редко, когда меня оставляли на огневой позиции. Комбат моей работой в должности телефониста был доволен. Не избегал меня и его заместитель, старший на батарее, лейтенант Игнатов. Родом этот с Белоруссии, тоже среднего роста, плотный мужчина, можно сказать, с красивым лицом.
На разговоре довольно резкий, но очень хладнокровный и спокойный человек. Человек без нервов. Когда немцы нащупывали нашу огневую и обстреливали её, так я не видел, чтобы он сошёл со своего места или ушёл в укрытие. Становился на одно колено, и при разрыве снаряда приклонял голову, потом опять выпрямлялся. Такое я наблюдал много раз. Командиром взвода был молодой лейтенант Орлов. Он обычно дежурил с нами на НП по ночам, когда комбат уходил отдыхать на батарею. Ночью почти никогда не стреляли, потому, как в то время давали лимит: четыре снаряда на орудие в сутки, шестнадцать на батарею, так что снаряды берегли.
Пушки у нас были образца 1900-затёртого года, на деревянных колёсах с толстенными шинами на ободе. Так что зимой на снегу не держались, прорезали до земли. Тяга конная, кони были настоящие, артиллерийские, но худые, заморённые. Пушки длинноствольные без искрогасителей, с резким отрывистым звуком выстрела. Люди в огневых расчётах были большей частью глуховаты. Когда разговаривали между собой, то так кричали, что казалось, что они что-то не поделили между собой и каждый стремится доказать свою правоту. Я частенько подтрунивал над ними: «Что, говорю, вы кричите? Клад нашли что ли? Чур, и я в паю!» Они смеялись, немножко понижали тон, но ненадолго. Потом опять шло всё своим чередом.
Солдатский труд
Наш наблюдательный пункт находился на бугре, перед большой деревней Сажное, которая тянулась вдоль ручья на расстояние семи километров. Дома были разбросаны по берегам ручья, кустами по два, три, четыре. Сзади села была расположена железная дорога от Сажное. Каменный дом, здание вокзала и несколько частных домиков. Расстояние между селом и станцией километра полтора. Посреди села была расположена одноэтажная деревянная школа. Из Чурсино на станцию Сажное проходила просёлочная дорога через село Сажное, как раз мимо школы. Так вот, наш НП находился на бугре в метрах ста от дороги. Пехотных позиций впереди нас не было. На одной линии с нами стояло несколько противотанковых пушек 45-миллиметровых, укрытых снежными валами. Пехота часто ходила в наступление, но от Сажное, это с бугра, под уклон, на совершенно открытую местность расстояние метров восемьсот, несли жуткие потери.
Истребились почти поголовно все. Начали потом возами трупы возить, как дрова. И это на протяжении длительного времени. Это называлась – активная оборона. Частенько нашу батарею посылали и на другие участки, но на не большое расстояние. Или в соседнюю деревню, или через деревню, через две. Расстояние в пределах десять-пятнадцать километров. Но во второй половине зимы, по глубокому снегу, это был адский труд. Обычно переезжали ночами. Три, пять, семь километров «ехали» целую ночь. К утру все офицеры оставались без голоса, только хрипели. Команды подавали так: «Взвод управления за постромки! Расчёт, за колёса! Шагом маар-р-р-рш!»
А пушка при этом продвинется на метр, а то и на полметра. Опять команды: «Выправить лошадей! Шагом маар-р-р-рш!» Ещё полметра. Потом за следующую пушку, и так всю ночь! Когда орудия ставились около деревни, люди ютились в хатах человек по тридцать-сорок, а то и пятьдесят. Спали сидя, лежать было негде. Уснешь – окажешься под телами товарищей, и на морде твоей устроятся чьи-нибудь ноги, проснёшься, расправишь свои члены, и разложишь их тоже на чьи-то тела. И так всю ночь «отдыхаем», если не пошлют куда-то, или на работу, или на пост. Придёшь ночью, шагнёшь в хату одной ногой, а потом ищешь место, куда бы поставить другую ногу. А когда ставили орудия в поле или в лесу около села Казачье, то люди неделями попрыгивали на улице, на свежем воздухе. Делали из снежных бугров стенки, чтоб защититься от ветра. На пол подстилали прутики или хвою, или солому и тут ютились.
Спали по-цыгански: кому хочется тепла, ложись вниз, кому надо мягко, ложись сверху. Потом менялись местами, и так выживали все. Зима же была довольно суровая, морозы и там достигали двадцать пять градусов ниже нуля. А ветры были такие, что идти против ветра стоило большого труда, огромного труда. Лицо открытым держать было невозможно, секло до крови снегом, поднятым с земли. Закрывали лицо полотенцем, оставляя открытым один глаз, и в таком виде двигались и достигали нужной цели. Немцы в основном в то время ютились по деревням, так как одеты они были плохо. Дома, или хаты превращали в укрытия и отсиживались возле печек. Даже пушки затягивали в хаты. Стреляли через окно или через пролом в стене. Когда не стреляли, оттягивали пушку, а пролом стены затыкали мешками с соломой. Так вот и текли наши фронтовые дни.
Но были и из ряда вон случаи, какие бывают не каждый день. Под немецкое Рождество два немецких солдата везли посылки солдатам-фронтовикам на большой немецкой арбе. В неё были впряжены две огромные, куцехвостые лошади. Шёл обильный снегопад. Погода стояла довольно тёплая, без ветра. На фронте было тихо. Снег шёл густо, огромными хлопьями. Видимость чрезвычайно ограничена. И вот эти солдаты проехали занятое ими село Сажное, и едут полем к селу, занятому нами. Уже мало не доехали до него. Навстречу им из Чурсино шли два солдата и старший сержант, из взвода управления командира первого дивизиона. Немцы едут и разговаривают, смеются. Наши поняли, что это немцы, насторожились. Приготовились. Короткая схватка – и немцы обезоружены! Посылки уже делили не немецкие солдаты, а мы!
Через день, или два, точно так же, наши повар и ездовой с полевой кухни, поехали кормить людей на передовую, а кормили немцев. Однажды я сам вот такой же ночью, вернее вечером, шёл один на наблюдательный пункт. Дорога знакомая, а видимости ни какой. Ориентироваться не по чему, и я прошёл отворот от дороги на наблюдательный пункт. По времени чувствую, что должен дойти. Остановился, прислушиваюсь и всматриваюсь в эту темень, в эту снежную мглу. И вот заметил: мерцает огонёк едва заметно. Размышляю: где бы он должен быть? Потом до меня дошло, что я в деревне, занятой немцами. И огонь этот в школьном окне со стороны станции Сажное. Я пошёл назад, Благополучно добрался до своего наблюдательного пункта.
Командир взвода спрашивает: «Что-то ты очень долго шёл?» Так я говорю: «Прогулялся до немцев, был по ту сторону школы». Потом был такой случай: из села Сажное вышли два немецких танка. Направились в нашу сторону. Мы их видим, сидим и ждём. Нас на наблюдательном пункте пять человек. Двое разведчиков со стереотрубой, двое телефонистов и командир батальона. Оружия у нас – один наган у комбата, и больше ничего. Окоп наш немудрящий, глубиной около метра. Над ним перекрытие поперёк окопа несколько жердочек. На них настлали старые, полугнилые доски. На досках слой земли сантиметров пять-десять толщиной и снег, сколько навалило и удержалось. Вот и всё. Между землёй и крышей щели на толщину жердей. Через эту щель и велось наблюдение за противником. На одной линии с нами были окопы командиров других батарей, и командира дивизиона. В полукилометре от наших окопов были окопы второго дивизиона. Так вот, танки направились один – в расположение окопов нашего дивизиона, второй – в расположение окопов второго дивизиона.
Танки идут, мы сидим. Один поравнялся с нашим окопом и остановился в метрах двадцати, двадцати пяти от окопа. Заглушили двигатель, разговаривают. Я смотрю в щель. Потом стала поворачиваться башня. Остановилась пушка, направленная в сторону нашего окопа, но задрана вверх. Потом пошла вниз, остановилась на нашем окопе. Я ложусь сверху на товарищей и шепчу: сейчас выстрелят, пушку навели. Не успел я высказать – выстрел! Разрыва не последовало. Лежим. Потом завели двигатель, танк пошёл дальше, к нам в тыл. Мы стали считать потери, оказалось: у комбата разбило фляжку с водкой, помяло крышку у польского телефонного аппарата и кое-кому достались удары комышками земли по разным частям тела. Это все потери, что понёс наш первый дивизион. Второй дивизион не усидели в своих окопах, пустились наутёк, но видимо уже вблизи от танка. Понесли большие потери, не помню, сколько именно человек. В том числе и командир дивизиона был убит пулемётным огнём.
Полк наш был расположен на небольшой площади в районе деревни Чурсино. За зиму порядком насолил немцам. Где-то, к концу зимы, не помню числа, или конец февраля, или начало марта, часу в десятом утра, во время завтрака, прилетели двадцать четыре немецких бомбардировщика. До сих пор авиация нас не беспокоила. Потому, наверное, причинила нам огромный урон. Из четырёх наших пушек собрали в арт. мастерской только одну. Лошадей перебило и покалечило больше половины. Людей тоже больше половины вышло из строя. Много было и убитых. Деревня пострадала очень сильно. Дома, в которые попали прямые попадания разрушило совсем. Другие же растрясло так, что они и стояли на местах, но для жилья были не пригодны. Местные жители не были эвакуированы, толклись тут же, вместе с нами. Потому, и у них были и убитые, и раненые. Хата, где обитали мы, пострадала не более других. Вокруг её разорвалось шесть бомб, четыре бомбы за хатой в огороде между пушками, почти на уровне щитов. Они и изуродовали пушки. Одна в огороде, от этой пострадали лошади, и одна на дороге, побольше весом, чем остальные. Крыша на хате была соломенная, от неё не осталось ни соломинки. Всю солому раскидало по окрестностям.
После этой бомбёжки пушки нам дали другие, на резиновом ходу, полегче весом, более современные. Потом нас передвинули на Юзимобарвенковское направление, на западный берег Северного Донца. Но там мы воевали недолго. В конце марта, хутор, где стояла наша батарея, обошли немецкие танки. Пушки сняли с боевых позиций, но вывезти не смогли. Пушки застряли в снегу, и лошадей перебили танки. Люди, что уцелели, собрались в селе Писаревка. После этого нам удалось вытаскать обломки пушек и сдать их в металлолом. После этого нас отвели на формировку в деревню, недалеко от Купянска. Простояли около месяца, потом нас вооружили 152-миллиметровыми гаубицами, образца 1910 года.
Отправились мы в оборону южнее Красного Лимана, под Славянск. Полк наш стал именоваться «667-й Гаубичный, артиллерийский полк РГК», т.е. резерва главного командования. Коней сдали, полк полностью перевели на механическую тягу. У нас в батарее было три трактора НАТИ-3, и один трактор НАТИ-5. Командиром батареи стал лейтенант Игнатов. Плотникова перевели начальником штаба дивизиона. Командиров взводов, помощника командира батареи, тоже поменяли, и я сейчас не помню их фамилий. Вскоре, после того как мы обосновались в лесу под Славянском, оборудовали четыре огневых позиции: основную, две запасных и ложную. Меня с товарищем командир батальона откомандировал на передовой наблюдательный пункт, на командный пункт командира роты, из бригады морской пехоты, не помню её номера.


