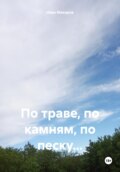Иван Алексеевич Макаров
Задушевная математика
КАПЛИ И КАМНИ
«Да, – сказал Жан-Жак Руссо, -
Ланьсе было каласо…»
Мария Козлова
А как хорошо все начиналось!
И осень была теплая…
А потом у нас сгорел курятник.
Действительно, хорошо начиналось. Правда, шли иногда дожди, и даже снег уже был и растаял, но настоящего холода еще не случалось.
А потом у нас сгорел курятник. Вместе с курами. Куриц было много. Едва не сто. Курятник был большой, кирпичный, с большой деревянной пристройкой, в которой и начало гореть.
Еще в августе я с товарищами колол и носил туда дрова для печки. На зиму. Дров было много. И когда в пожаре почти все уже сгорело, в том месте, где мы сложили наши дрова, стоял большой плотный огонь. Даже издали видно было, какой там жар.
А еще вместе с курицами в курятнике сгорел щенок.
Там их было много, весь помет.
Наша большая старая сука Арма ощенилась, и когда щенки чуть подросли, Игорь, заведовавший курятником, всех их собрал туда, в пристройку, ни одного не позволил утопить, он очень любил собак и вообще всякое зверье.
Но вот случился пожар, все собачонки выбрались, а один сгорел.
Страшно, но мне тогда не очень жалко было щенка, до того я успел устать от жизни и очерствел душой. Сразу, когда сказали, что щенок сгорел, больно кольнуло, конечно (просто себя на месте погибающего в огне щенка представил: я маленький, беспомощный, ничего не понимаю, а кругом огонь, и ничего сделать нельзя). А потом я больше переживал за Игоря: вдруг у него будут неприятности из-за электрического или печного небрежения, от которого загорелось.
Обаче, обошлось.
Почему обошлось, понятно. Монастырские люди бывают умны. Все поняли: раз сгорело, так и должно было быть. Не нарочно же поджигали.
Кто-то, может быть, сказал даже: «Бог посетил». Или подумал.
А как хорошо все начиналось! –
Так любил говорить послушник Евгений («схиархипослушник», как он сам себя называл), человек большого роста и толстый, с глубоким громким голосом.
– А как хорошо все начиналось! – говорил он, на двух костылях медленно спускаясь по узкой лестнице желтого корпуса, – Еще два месяца назад с палками только ходил, а теперь вот и на двух костылях кое-как. А как хорошо все начиналось!..
Еще он придумал свою какую-то особенную, грамматически сложно, вернее, непривычно устроенную молитву и очень любил всех, кто еще не знал его и готов был слушать, этой молитве научать.
Похоже, иногда он мыслил себя «старцем». А в остальном, неплохой человек.
Из Боровского монастыря его в конце концов все-таки выгнали, хоть и долго пытались терпеть его своеобразия и бороться. «Спасать». Свято-Пафнутьев Боровский был не первый монастырь, из которого его удаляли, потому и – «схиархипослушник».
И вот однажды он вернулся. На Пасху. Просто приехал в гости.
Он сидел на лавке с плотником Евгением.
– Ого! Не каждый день такое увидишь: два Евгения рядом.
– А вот и нет, – сказали мне, – Евгений только один.
А бывший схиархипослушник был теперь (он так сказал) схимонах Петр.
Честно говоря, я удивился, что это за монастырь такой, где так легко и быстро постригают, и тем более в схиму. Да и одет он был «в гражданское».
Однако, как бы то ни было, передвигался он теперь совершенно самостоятельно и довольно-таки легко – и с одной только палкой.
А как хорошо все начиналось!
«А потом князь Курбский убежал в Ливию…»
(Это, кажется, на экзамене по истории.)
А как хорошо все начиналось!
Капля, говорили, камень точит…
Но это дело нескорое. А вот сами они, падая на камень, рассыпаются, вдребезги…
А как хорошо все начиналось!
Давно это было. Лето. Свет и тепло. Березы. Елки. Трава.
Свято-Введенский женский монастырь на острове. В городе Покров Владимирской области. Накануне Петра и Февронии Муромских.
И настоятельницу зовут Феврония.
Я в первый раз в жизни приехал тогда в монастырь. Бывал, конечно, «на экскурсии», а «по-настоящему» в первый раз.
Приехал на три недели. «Потрудиться». И «для душевной пользы». А, может быть, и из любопытства тоже. И даже, может быть, главным образом, именно из любопытства. И образ жизни ненадолго переменить. А главное – «Так благословили». Тогда это было значимо.
Мы, так называемые «трудники», курим на лавочке (Где разрешалось).
Много курим и очень много говорим. Мне здесь все еще такое новое…
«Трудник» Слава очень худой и высокого роста. Я поневоле смотрю на него снизу вверх. И не только из-за роста.
– Это у тебя, – спрашивает он, – первый монастырь?
– Первый… А у тебя не первый?!
Слава только покачал головой.
– Второй?.. Нет?.. А какой?
Слава только иронически качал головой и смотрел на меня сверху вниз. Поневоле. Из-за высокого роста. А я трепетал от уважения.
Сколько ж, думал я, человек монастырей восстановил…
Позже я бы по-другому подумал: Эх, из скольких же уже монастырей тебя, беднягу бездомного, за пьянство выгнали…
А теперь я б уже и ничего не подумал. А что тут думать? Думай – не думай, ничего не придумаешь. Судьба такая. Путь. И не у одного только Вячеслава.
Жив ли он теперь? Хотелось бы.
А как хорошо все начиналось!
Раньше, еще до 17-го года, в монастыри тоже приезжали «трудники» (случалось, даже по морю приплывали – на Соловки).
Тогда, 100 лет назад, эти «трудники» разделялись (условно) на две категории: приезжали или «по усердию», или «по обещанию».
Большую часть теперешних «трудников» тоже можно разделить, хотя и условно, конечно, на два разряда: кому некуда пойти (БОМЖ’и, бездомные и т.п., просто не знающие пока, как дальше жить – страна-то у нас, как сказал пролетарский поэт, «для счастья мало оборудована», и число людей, теми или иными обстоятельствами выброшенных из условно-нормальной жизни не поддается никакому учету) и те, которые от кого-то или от чего-то прячутся, на современном околомонастырском языке – «шифруются». Тоже – «область неблагополучия». Или то и другое одновременно.
Но не все, конечно. И «по усердию» бывают, и «по обещанию», и «по благословению», и «за послушание». Некоторых родные в надежде исправления (исцеления, перевоспитания) отправляют в монастырь, других приходские батюшки благословляют. И «взыскующие» бывают, и «ищущие»… И верующие, и всякие… И те, кто в семинарию собирается, и рекомендация нужна, и те, кто монахом хочет быть, или просто в монастырскую братию (это, кстати, не совсем одно и тоже)… И в разных монастырях бывает по-разному, и в разное время по-разному…
Но первые две категории, хоть и не всегда, но очень часто, главные. Случается, спустя некоторое время кто-то из этих людей получают подрясник, а иные становятся даже монахами…
Но что бы там с кем дальше ни было, дай, Бог, здоровья и всякой радости настоятелям, наместникам и экономам тех монастырей, где принимают в «трудники» всех приходящих без разбора чина, звания и возраста, всех болящих, заблудших, трудных, белых, черных, чистых, грязных… Лишь бы минимально соблюдали (или старались) общепринятые нормы человеческого общения (друг друга не убивали)…
Не всем, конечно, но очень многим это самое монастырское «трудничество» очень помогло в жизни… Многих монастыри просто спасают. И от физической погибели даже… Не всех, конечно, но многих…
Хотя бывает и наоборот… И монастырская (околомонастырская) жизнь таит в себе множество опасностей. Случается, просто калечит… Бывает, и убивает…
…А вообще-то все мы, странники, очарованные и разочарованные, обыкновенно и сами не очень знаем, зачем, как, почему и отчего оказываемся в том или и ном месте времени и пространства. От каких поворотов чувства, мысли, судьбы, обстоятельств. Просто летим, куда ветер дует, плывем, куда несет волна или течение, тащимся, куда тащит…
А как хорошо все начиналось!
И у Вячеслава тоже. В армии он служил где-то на Памире. Очень высоко в горах. Пограничником. Любил вспоминать про это. Потом жил возле Питера. В Сосновом бору. На атомной станции работал. Техником. Была у него там жена и дочь…
А теперь вот идет он по свету из монастыря в монастырь.
Из Свято-Введенского в Покрове, я после слышал, его вскоре тоже выгнали.
А тогда он не унывал. О странствиях своих рассказывал весело и не зло. Что-то врал, конечно. О чем-то молчал. Разумеется, хвастал. Мне тогда это все было удивительно и даже казалось прекрасным…
Между прочим, Слава утверждал, что его прадед по матери был епископом, и что он тоже непременно когда-нибудь будет епископом…
Все может быть. Правда, «Символа веры» он тогда, на четвертом уже десятке лет совсем не знал, и «Отче наш» нетвердо… Но разве он в этом виноват?
А как хорошо все начиналось!
У моей знакомой медсестры Любы есть подруга.
Год назад она нешуточно заболела. Ей поставили диагноз. Страшный и неутешительный. Когда узнала, она все свои вещи, всю одежду в срочном порядке раздала…
Но пока, слава Богу, вопреки диагнозу, жива. И неплохо себя чувствует.
Только теперь ей совершенно не во что одеться. Все раздала.
Сейчас мороз -15 -20 градусов, а она ходит в плаще и туфлях или в очень тонких («осенних») сапогах. Ко всему, она дама крупная, и необходимого размера ей нелегко что-нибудь на себя подобрать.
Но ведь это теперь просто смешно, правда?
Теперь, когда диагноз «не исполнился». К тому же подруга медсестра Люба ей непременно поможет, срочно добудет где-нибудь все необходимые тряпки…
А как хорошо все начиналось!
В Св. Введенском монастыре был обычай каждый вечер обходить остров с иконой. Иногда ходили порядочным числом, благословляя иконой всех, и нас, «трудников», сидящих на «курительной» лавке у нашего отдельного корпуса тоже. Тогда мы все вставали с лавки, прятали за спину горящие папиросы, крестились на иконы и кланялись.
А иногда шествие состояло из одной только старушки, за которой шли две-три маленькие, дошкольные девочки. Но всегда, независимо от числа женщин, за ними шла хотя бы одна кошка.
Кошачьи вообще почему-то очень любят крестные ходы. Однажды в Боровске на Светлой седмице два кота даже подрались – за свое место в процессии.
А как хорошо все начиналось!
В Св. Екатерининском монастыре в Суханово (г. Видное) благочинным был иеромонах Иоанн, довольно еще молодой человек.
В отсутствие настоятеля, епископа Видновского Тихона, ему вменено было в обязанность после обеда, перед началом работы произносить напутственное слово.
О. Иоанн очень любил и умел работать и служить в храме любил, но назидательное говорить не любил и при всякой возможности уклонялся, но послушание у нас «паче поста и молитвы», паче того и другого, паче много чего, и о. Иоанн иногда говорил это положенное «слово».
И до и после я много слышал и читал и напутственных, и разных, и замечательных, и всяких «слов», но лучше того, что я услышал однажды от о. Иоанна, я едва ли вспомню:
– Ну, что я могу сказать?.. Молиться и трудиться… Трудиться и молиться… И… – О. Иоанн помолчал… – И… И не обижайте друг друга… Всем трудно… Тяжести друг друга носите…
Кто-то улыбнулся, кто-то поправил, и о. Иоанн улыбнулся тоже и поправился:
– Тяготы, конечно, тяготы… Тяготы друг друга носите…
Будь я не так жестокосерд, я б, может быть, прослезился тогда от этих простых и честных слов.
Тем более, про несение тяжестей было как нельзя более своевременно: нам случалось там и очень большие камни, и много всего другого еще более тяжелого перетаскивать, откапывать и закапывать, разбирать и складывать.
Конечно, о. Иоанн, не только эти и прежде всего не эти тяжести имел ввиду, но я был так тогда своей личной душевной болью и скорбью полон, что все чужие несчастья и эти самые тяжести (которые суть «тяготы друг друга») казались мне совершенными пустяками… Мне б, думал я (дурак!), их заботы…
А как хорошо все начиналось!
Выпал снег. Сразу стало легко и красиво. И работа выпала нам всем в тот день легкая и радостная.
В монастыре тогда была еще свалка строительного мусора, и в тот день мы убирали и грузили металлолом. Железо вообще приятно грузить и сравнительно легко: оно не камни и, тем более, не мешки.
Но главное: что мы грузили!
Сколько радости было сдавать это в переплавку!
Это было радостней, может быть, чем, если б мы мечи на орала перековывали…
Примерно три четверти лома были большие железные решетки. Обычные на вид, сваренные из прутка, уголка, полосы, похожие на какие-нибудь самодельные двери, каких на каждом заводе сколько угодно встречается.
Но это было совсем другое. Это были настоящие тюремные решетки, оставшиеся от прежних хозяев.
Когда-то, а, в сущности, не так уж и давно, в монастыре располагалась Сухановская особая тюрьма МВД.
Даже, когда монастырь вернули церкви, и в храме уже шли службы, местные жители все еще просто боялись заходить внутрь…
… Один из братских корпусов и сейчас называется «бериевским», а в трапезной в цементном полу видны были срезы железных труб – ножек намертво залитых в бетон железных табуретов, там допрашивали…
С воодушевлением и восторгом я кидал гнусное железо в кузов 130-го ЗИЛ’а.
Туда их! Вон! В печь! В переплавку!
Наверно, я слишком несдержанно радовался. Или рано радовался.
Совсем немного времени спустя, оставив монастырь, я побывал в «обезьяннике» за очень похожей решеткой…
Не все переплавили.
Больше того: много еще новых навыдумывали и наделали…
… Когда меня везли в милицейской машине, был поздний вечер, горели фонари. И тяжелый, большой, мокрый, совсем не московский, а какой-то южный выпал в тот вечер снег, и ветки деревьев в снегу были красивы, как пальмы, даже лучше, и я смотрел, смотрел на них с жадностью. Старался запомнить. Что бы ни было со мной дальше, я должен сохранить, не забыть эту красоту, она согреет, она утешит меня всегда… Обыкновенные городские деревья в снегу. На нешироких улицах. Вечером. В свете фонарей.
… А ночью резко похолодало. Градусов до десяти. И засыпанным снегом деревьям, схваченным вдруг льдом, было, наверно, больно, ветки гнулись и ломались…
Рядом со мной в обезьяннике умирал бездомный. Похоже, действительно умирал. Похоже, было на воспаление легких.
Он пытался все же улечься на узкой лавке. Я положил ему под голову свою шапку, стал стучать в дверь. Неотложку, к моему удивлению, охотно вызвали. Фельдшер с блестящим чемоданчиком подошел к решетке, ему открыли.
Обернувшись, он спросил сержанта:
– Документы есть? (Т.е., у лежащего) … – Нет?– Фельдшер развернулся. – До свидания…
… Для меня, однако, тогда все обошлось: выпустили.
Следователь умный попался. Решил не занимать драгоценную зарешеченную площадь всякими пустяками…Или «установка» была такая… Не занимать попусту драгоценную зарешеченную площадь…
А как хорошо все начиналось!
Многого я не знал, был глух и нем, патологически самовлюблен.
В Св. Екатерининском монастыре я не жил. Даже не переночевал ни разу.
Видел мельком, когда искал кого-то, что койки в «кельях» у них там по большей части двуярусные. Мне, дураку, это даже понравилось. Показалось уютно …
Я просто приходил в монастырь поработать «во славу Божию» (так это называлось). С 9 до 18, кажется.
Когда в 18-00 я уходил, на меня смотрели с тоской и завистью.
А я завидовал остающимся. Уходил, с тоской оглядываясь на стены и башни, в пустоту и одиночество дома, где, как говаривал Батюшков, «я не один, и мы не двое»…
Я работал в монастыре не «по усердию» и не «по обещанию», а как бы «за послушание». Вернее, «за непослушание».
В августе я, мягко говоря, порядочно начудил, и настоятель храма, куда я тогда ходил, велел мне однозначно и немедленно ехать в монастырь – «исправляться».
А я считал, что уезжать из дому мне как раз в это время и нельзя было, и выдумал такую вот непонятную паллиативу: в монастыре не жить, а только приходить «трудиться». Мне и прежде случалось так «приходить потрудиться» – было время всеобщего воодушевления и восстановления храмов. Ни служб, ни молитв практически не зная, бежали хотя бы «потрудиться»…
И вот я уходил, а «трудники», в большинстве своем, в сущности, бездомные, завидовали мне как уходящему, а я, дурак, завидовал им, остающимся…
А как хорошо все начиналось!
1960-ый год. За окном маленькие, чуть живые, их только посадили, липы, зато во дворе огромные старые тополя.
Дома, в комнате большой лимон на подоконнике, диван … «Радио», сначала это был даже не приемник, просто большая черная тарелка репродуктора… Старый платяной шкаф с зеркалом до самого пола. По граненым краям зеркала – радуга…
На полу горшок…
А потом я поступил в Детский Сад…
А как хорошо все начиналось!
Но меня укусила собака.
В детстве я очень боялся собак. Даже самых маленьких. Любая несчастная болонка или «пекинеса» могла просто терроризировать меня. Мне отец объяснял: «Не надо бояться, и собака не тронет». Я верил, но не мог с собой справиться…
Это продолжалось долго. Пока первый раз не укусила. Тогда я понял, что это не очень страшно и перестал бояться…
Но на сей раз это была совсем другая собака. Правда, она была большая, лохматая и грязная. Но я ее совсем не боялся.
Я жил тогда, как все: пил, гулял, занимал деньги у друзей и знакомых… А потом случилась эта самая маленькая беда. Собака.
Я, собственно, ничего дурного не делал. Я только газету хотел почитать.
Очень вдруг захотелось почитать газету. Бывает, знаете, приходит вдруг такая блажь…
Я в подземном переходе стоял, от дождя укрылся, а газета на мраморном полу лежала, а на ней какая-то чепуха… И собака это ела.
Ей, по-видимому, так и дали на газете, чтобы мраморного пола не пачкать…
Я не трогал ее еды… Зачем она мне нужна?.. Я только газету хотел, а собака, наверно, не поняла и укусила. Дура собака!..
А как хорошо все начиналось!
Воспитательницы в детском саду были большие и красивые. Чулки у них были черные кружевные. Это я хорошо помню, потому что, когда они меня одевали, голова моя была где-то на уровне ихних коленок.
Они были добрые и веселые.
А еще они учились, наверно, где-нибудь на вечернем или на заочном. Или просто любили читать. Потому что в самой младшей группе они выучили меня стихотворению Лермонтова «Воздушный корабль». Сами, м. б., учили по программе и заодно меня выучили. Мне очень нравилось, хотя я не все смог запомнить:
По синим волнам океана,
Лишь волны блеснут в небесах…
А потом я продекламировал это дома, и дальше тоже:
Не слышно на нем капитана,
Не видно матросов на нем,
Но скалы, и тайные мели,
И бури ему нипочем…
Мама страшно возмутилась. Для младшей группы детского сада это показалось ей непозволительно сложно. Вероятно, она и в детском саду, придя меня забирать, возмущалось: нельзя так нагружать малолетнюю голову…
На самом деле мама очень любила Лермонтова и, может быть, это было что-то вроде ревности: не она сама, а какие-то детсадовские воспитательницы читают меня с ним.
А как хорошо все начиналось!
Только никто никому не верил, и за колбасой в Москву даже с Урала ездили…
Нет, не совсем так… Верили… «Своим» верили… И «чужим» верили: заграничным, эмигрантским и несоветским…
А потом объявили зеленого змея врагом и ввели полусухой закон… Даже за самым плохим и глупым пойлом живых людей выстроили в километровые очереди. Первые жертвы, и слезы, и смех…
Одна из веселых историй того времени:
Очередь к пивной палатке. Длинная. Над окошком объявление:
«Ветераны Куликовской битвы обслуживаются вне очереди.»
Кто-то возмущается, кто-то смеется.
Приходит старец с клюкой: Давайте пиво без очереди. Я ветеран.
– Очень приятно. Ваше удостоверение…
– Какое удостоверение? Вы что? 600 лет прошло…
– Не знаю, не знаю… Татары предъявляют.
А как хорошо все начиналось!
…Тулон, Египет, Аустерлиц, Москва, Лейпциг, 100 дней… А дальше ночь, океан, Св. Елена … И – этот самый воздушный корабль Лермонтова:
«… Иные погибли в бою, иные ему изменили и продали шпагу свою…»
Изменили… Это очень нехорошо… И шпагу продали…
В те счастливые детсадовские годы я понимал это очень буквально, я отчетливо представлял себе маршала в темном плаще, который в вечерних сумерках под полой этого плаща нес продавать свою шпагу на какой-то рынок с деревянными прилавками, вроде нашего Зацепского…
А как хорошо все начиналось!
Но – появилось лучшее: непримиримый враг хорошего…
А как хорошо все начиналось!
Но – четверть века промелькнула, как миг.
И вот, конец июля. Пасмурно. Низкие тучи. На увитых хмелем репейниках веселятся и ссорятся птицы.
Напротив монастыря два узбека в оранжевых жилетах собирают из синих металлоконструкций трибуну-эстраду-помост.
Подготовка к 1025-летию крещения Руси.
Один молодой узбек стучится к нам. В руках у него большая белая электрическая вилка с розеткой на проводе, удлинитель:
– Брати света можна…
А еще недавно 1000-летие было. Четверть века назад. Тоже как-то отмечали.
Правда, никакие узбеки тогда никакого «света брати» не спрашивали…
А как хорошо все начиналось!
… И как-то вообще многое у нас на грешной земле имеет свойство и обыкновение хорошо начинаться… А, может быть, и не только у нас. Может быть, и на других не менее грешных планетах тоже что-нибудь хорошо начинается?
А как хорошо все начиналось!
Из какого-то монастыря в Курской области приехали два монаха и один послушник.
Послушник очень много и страстно говорил, всех обличал и грозил вечными муками, а один из монахов отличался невероятной какой-то кротостью, имел очень длинную, до пола, косу, и был несколько странного вида. Главное, коса до пола.
Он шел вдоль монастырской стены, и возле круглой башни на него неожиданно выскочил какой-то заезжий, болящий или из «взыскующих» (или и то, и другое, и третье):
– Ба-а-атюшка!
– Я не батюшка, – отвечал монах с кротостью.
– Ма-а-атушка!
– Я не матушка, – отвечал монах так же просто и кротко.
Заезжий остановился в удивлении.
Что было дальше, я не видел. Прошел мимо. Я нес воду с источника.
А как хорошо все начиналось!
Но шли дожди.
Шли, шли, шли…
И вот у монастырских ворот сидит небольшого роста совершенно мокрый кот, держит в зубах задушенную мышь, и при том еще громко орет: «Мяу! Мяу!»
А как хорошо все начиналось!
Зашел в церковь погреться, да там и остался.
То есть, не совсем остался, конечно, но иногда заходил… Погреться.
А как хорошо все начиналось!
Осень. Монастырь. Сад. Яблоки. Стайка паломниц. Одна спрашивает:
– Батюшка! А можно мне одно яблоко сорвать?
Батюшка отвечает отрицательно:
– Одна уже сорвала!
«Монастырские» вокруг улыбаются. Не без злорадства. Им нравится. Похоже, «крылатые» батюшкины слова будут повторять и пересказывать…
Молодому «труднику» грустно это слышать. Грустно и стыдно. Он даже смотрит в сторону.
Потому что он, хотя еще и относительно молодой, но, грех сказать, трудного и всякого жизненного опыта у него больше, чем у этого остроумного батюшки …
Стыдно ему это слышать… За батюшку стыдно…
А как хорошо все начиналось!
А теперь… Увы… Увы…
А что теперь?.. Нехорошо?.. А как знать, может быть, и про это наше нехорошее сегодняшнее мы еще скажем: «А как хорошо все начиналось!»
А как хорошо все начиналось!
Однажды случилось чудо.
То есть, чудеса, конечно, случались часто, можно сказать почти каждодневно, и теперь случаются, и самое главное чудо это то, что мы еще до сих пор живы.
то было совсем другое чудо.
Отключилось электричество на подстанции. Это бывало нередко, отключалось ненадолго. Дело было днем, ничего страшного не произошло, только воды в кранах не было, насос не работал, и чайника нельзя было подогреть. Но это все не чудо.
Я проходил мимо Собора, в это время на колокольне сколько-то там пробили часы, и полминуты спустя ко мне подлетел Круглый Дима (действительно круглый):
– Ты слышал? Ты слышал?.. Чудо!
– Какое чудо?
– Света нет, а часы идут… И звенят!.. Чудо!..
Дима в свои 35 лет и не подозревал даже, что на монастырской колокольне 17-го века могут быть механические часы, которые идут и звенят не зависимо от подачи электричества… И в самом деле: чудо. Чудо удивления.
Дима вообще был немногословен, поэтому все, что он говорил, слушалось с вниманием.
Однажды, лежа в «келье», он безо всякой связи с происходящим, отвечая своим внутренним мыслям, вдруг произнес:
– Да… Теперь настоящих монастырей мало. Теперь монастыри коммерческие.
А как хорошо все начиналось!
Действительно, хорошо начиналось.
Хуже было некуда. Так казалось.
Мы еще не знали, что бывает гораздо, гораздо хуже. Дураки были.
А как хорошо все начиналось!
Мой добрый друг Вадим, послушник, удивительной, редкой, большой, доброй и умной души и трудной судьбы человек, рассказал мне однажды, как он начал воровать.
Он был тогда без подрясника, и мы с ним присели покурить, спрятавшись в маленькой нише возле монастырских ворот.
– Знаешь, как я начал воровать? Из-за женщины…
Мне было не очень приятно про это слышать. Не то чтоб неприятно, тут другое… У меня не было такого богатого, трудного и страшного опыта, как у Вадима, и я, поневоле, чувствовал себя не совсем ловко. Мне было стыдно что ли… Да, именно стыдно. Не за Вадима, конечно. За себя. Стыдно, что я такой условно благополучный… Стыдно было, как сытому перед голодным…
– Да, – продолжал Вадим, – из-за женщины. Вернее, из-за девочки. Это было в первом классе. Я как-то случайно залез в раздевалке в карман чужого пальто, там были конфеты, хорошие, шоколадные… Мне очень нравилась одна моя одноклассница, и я принес ей эти конфеты. Она была так рада! И мне радостно было на нее смотреть, когда она радуется… И я стал ходить в раздевалку и искать там сладости во всех карманах… И находил, и приносил ей. И смотрел, как она радуется…
А как хорошо все начиналось!
Ночь. Луна. Волки.
А как хорошо все начиналось!
В Иосиф-Волоцком монастыре по утрам перед началом работы, еще в темноте, мы все собирались возле мусорных контейнеров. Курили, разговаривали. Потом приезжал эконом на тракторе с прицепом, мы загружались в этот прицеп, усаживались на борта и ехали куда-нибудь недалеко, где на монастырской или околомонастырской территории мусор был выброшен «беззаконно», там вылезали и лопатами нагружали прицеп. Эконом привозил его назад, а мы возвращались пешком и выкидывали мусор в контейнеры.
Однажды мы как-то слишком долго ждали эконома, видно, трактор не заводился, к нам подошла Михайловна, жаловалась на свои беды.
Михайловна командовала коровником. У нее были неприятности. «Трудники» от нее как-то все сразу разбрелись, некому стало работать. Убирать за коровами.
Михайловна добрая женщина. Она очень любила животных, она так сильно их любила, что те, кому случалось у нее поработать, говорили, что коров она любит гораздо больше, чем людей, и поэтому работать в ее хозяйстве, никто не хотел.
Вот она и стояла с нами, разговаривала, надеясь кого-нибудь уговорить.
Рассказывала, какие у нее трудились подвижники. В основном жаловалась, что сильно пили. Но этим никого не удивишь. Однако бывали и другие случаи.
– … Один был такой уж старательный… Не нарадуюсь… Но… Другая беда… Все надо было на замок закрывать… Только не закроешь, что-нибудь стащит…
Мы слушали сочувственно, но помочь Михайловне и пойти к ней на коровник никто не спешил. А Михайловна все рассказывала:
– А вот еще один был… Чудо… Не работник, а клад… Тихий, спокойный, старательный… Две недели проработал, а потом вдруг вечером кошку схватил, нож к ней приставил и мне говорит: «Сию минуту давай, говори мне телефон патриархии, а то я кошку пополам перережу…»
А как хорошо все начиналось!
Мы все больше всего на свете любили прекрасное и стремились к нему…
Но… Увы, увы… У нас у всех было разное представление о прекрасном…
А как хорошо все начиналось!
Только вот коровы…
Сколько беды от них! Жрут. Жуют. Роняют навоз. Доятся. Рожают телят и так далее. И не знают, не думают, какие они всем этим нам беды несут.
Хуже всего навоз. Валят и валят…
… А весной всякие мелкопоместные дачники радостно покупают этот самый навоз машинами, а водителю стыдно бывает «навозными» деньгами не поделиться, и потом многие страшно болеют, дни путаются с ночами, память теряет огромные куски времени и др. и пр. Тем более, на навозные деньги и напитки приобретаются какого-то совершенно навозного качества…
А как хорошо все начиналось!
Разные люди приезжали в монастырь.
Однажды приехал среднего возраста скромный человек из Москвы. Усердно посещал все службы. Стоял в храме прямо и неколебимо, как памятник. Работал усердно до изнеможения. В немногое свободное время лежал на кровати и читал книжку рассказов Хармса.
Звали его Андрей. Разумный, спокойный. У него случились всякие непонятности.
Умерла, погибла в пожаре родственница в деревне в Елецком районе. Или даже не совсем родственница. Но нечужой человек. Стало душевно трудно. Плюс алкоголь.
И Андрей приехал в монастырь потрудиться, помолиться, успокоиться, привести себе в разумный вид. Что ему, кстати говоря, кажется, вполне удалось. Уехал спокойный, довольный, обещал еще приезжать.
Между прочим, я спросил его о профессии.
– Художник. Художник-ювелир…
– Ну, и как это теперь? Хотя бы прибыльно?
– Нет.
– Конкуренция?
– Нет. Просто все есть.
– То есть, в магазинах?
– Да. Все есть… Никому ничего не надо…
А как хорошо все начиналось! А теперь слишком много всего стало, и никому ничего теперь уже не нужно…
А как хорошо все начиналось!
А теперь везде видеонаблюдение. Даже в монастыре. Даже в нашем.
И на трапезной (16 век) установили камеру, что, как говорят, если под колокольней (16 век) почти за полста метров кто-нибудь сядет газету читать, в мощную камеру будет видно, что он читает и даже вместе с ним читать…
О, Сад! Где видеокамеры напоминают людям, что они братья…
А как хорошо все начиналось!
… Ну, сколь можно!.. И не надоело повторять…
Нет! Не надоело. Потому что это правда. И не устану повторять: Как же хорошо все начиналось!..
А как хорошо все начиналось!
Я ходил лохматый и с бородой. И одевался, как попало. Мог себе позволить…
Я шел подземным переходом. В кулаке у меня была зажата такая бумажка (сто рублей). Единственная. Перед самой лестницей на меня выскочил мужик. Обыкновенный, не очень выпивший.
Увидев мою лохматость и небритость, спросил:
– А вы в Бога веруете?
Почему-то лохматость и небритость у нас как-то неразрывно связывается в народном сознании с религиозностью и даже почему-то с принадлежностью к Святой Соборной Апостольской церкви…
– Верую, – твердо ответил я, а внутри шевельнулось сомнение: не обманул ли я, может быть, честнее было бы сказать «Стараюсь верить»… Вера-то моя слабая…
– А футбол любите?
– Нет. Футбол не люблю.
– О! – Мужик схватился за голову, зашатался и не пошел, почти побежал мимо меня по переходу.– Вот это да! Вот это да! Как это? В Бога верует, а футбол не любит… Вот это да!..
Бедняга был так удивлен, что даже забыл попросить у меня сто рублей на вино, хотя явно именно ради этого он и про веру спрашивал, и про футбол…
А как хорошо все начиналось!
А теперь нас стало слишком много, и мы больше не можем относиться друг к другу внимательно… Стали, собственно, друг другу не очень нужны. Никто никому не нужен. Потому что нас много?