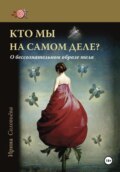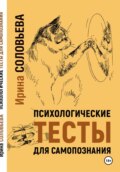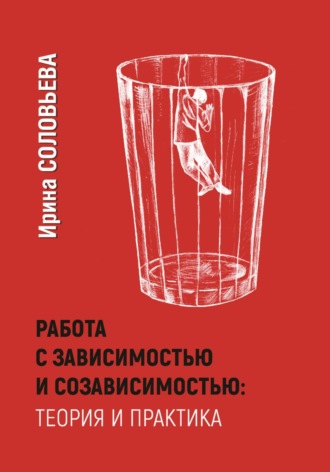
Ирина Соловьева
Работа с зависимостями и созависимостью: теория и практика
2.3.Психологический портрет зависимой и созависимой личностей: основные характеристики, различие и сходство.
Несмотря на яркую индивидуальность любого человека, можно выделить общие психологические черты и динамику, характерные для аддиктивной личности.
НАРУШЕНИЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ
УБЕГАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ
ИНФАНТИЛИЗМ
ЭГОЦЕНТРИЗМ
ПРОБЛЕМЫ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НЕАДКВАТНАЯ САМООЦЕНКА
СЛОЖНОСТИ В ЭИМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
ТОКСИЧНЫЕ СТЫД И ВИНА
ПРОБЛЕМА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ
МАГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, ВНУШАЕМОСТЬ
Нарушение саморегуляции. Аддикция – способ саморегуляции, заботы о себе, возможность достичь желаемого состояния, НО! неправильным путем. Аддиктивная личность не освоила в детстве навыки здоровой саморегуляции, это проблема целой семейной системы – отдельные паттерны и целые сценарии саморегуляции иногда передаются из поколения в поколение.
Поэтому к развитию зависимости есть предрасположенность не только генетическая, но и психологическая, сценарная. Например, в одной семейной системе распространен механизм изоляции, члены семьи не могут обмениваться энергией любви, каждый страдает от одиночества и находит утешение в аддикции: еде, алкоголе, бесконечном просмотре сериалов. В другой семейной системе невозможно здоровым образом размещать гнев: кто-то гнев подавляет, кто-то отреагирует во вспышках ярости. И тогда аддикция «помогает» справиться с гневом: у одного члена семьи возникает зависимость от игр-«стрелялок», у другого – от экстремального поведения.
Нарушение саморегуляции, развитие нездоровых форм регуляции своего состояния характерны и для зависимой, и для созависимой личности. В случае зависимости для саморегуляции используются неживые объекты, в случае созависимости – живые субъекты.
Здесь же можно упомянуть низкую толерантность к стрессу: низкий уровень стрессоустойчивости. Стрессовые факторы быстро приводят к дисбалансу, именно из-за изначально низкого уровня саморегуляции. И для восстановления баланса используется объект зависимости/созависимости.
Мы можем вспомнить детскую игрушку «Ваньку-встаньку» («неваляшку»). Так же и жизнь полна стрессов, которые в любой момент могут нас «опрокинуть», и тогда внутренняя здоровая саморегуляция помогает «подняться», восстановиться.
Увы, аддиктивная личность использует нездоровую саморегуляцию – зависимость/созависимость для того, чтобы «восстанавливать баланс».
Убегающий тип поведения. Характерен и для зависимой, и для созависимой личности, но раскрывается по-разному. Убегают от реальности оба, только зависимый тип при помощи объекта зависимости, а созависимый – в свои чувства к субъекту созависимости, мыслями о котором он поглощен.
Убегающий тип поведения – ранняя защита, формирующаяся в детстве. Мир представляется недостаточно безопасным и комфортным, нет ощущения достаточности своих сил и возможности поддержки. Поэтому в сложных ситуациях сложно оставаться в реальности, хочется убежать.
Иногда побег может быть вполне осознанным, например, при запойном просмотре сериалов или ТВ-программ. А иногда он даже не осознаваем, человеку кажется, что он в реальности, но на самом деле он сбежал от нее в иллюзии; например, созависимая мать поглощена мыслями о ребенке, при этом она не живет своей жизнью и искаженно воспринимает ребенка, видит его не таким, какой он есть, а таким, каким хочет видеть.
Такой мы видим главную героиню романа Ги де Мопассана «Жизнь». Будучи несчастливой в замужестве, а потом и вовсе овдовев, Жанна всю свою жизнь посвящает сыну. Но из него вырастает не очень-то хороший человек: переехав в Париж, он бездумно тратит материнские деньги, прогуливает учебу, ведет разгульную жизнь…
Но мать продолжает видеть в нем своего маленького сына и называть детским прозвищем «Пуле» – цыпленок:
«Хотя Поль был на целую голову выше матери, она продолжала обращаться с ним как с ребенком, допрашивая его: "Пуле, не озябли ли у тебя ноги?" (Ги де Мопассан «Жизнь»).
При этом, у созависимого типа личности сочетаются убегающее поведение и контролирующее. Это побег от себя, от своих глубоких чувств и переживаний, проблем. И попытка контролировать другого человека: его чувства, поведение, выборы, Судьбу.
Упомянем здесь же отрицание как механизм, часто используемый людьми зависимого и созависимого типа. Отрицание – побег от реальности.
Зависимый человек отрицает свою проблему, ее масштабы и последствия. Например, появившуюся абстиненцию, похмелье, списывает на «магнитные бури»…
Инфантилизм. Можно назвать одной из основных черт зависимой личности, многие другие являются уже следствием инфантилизма (отказ от ответственности, убегающее поведение и т.д.).
С одной стороны, к инфантилизму приводят сильные ранние травмы развития, фиксации в раннем возрасте. Представьте семечко, которое попало в сухую скудную землю, и ему просто не хватает питания для того, чтобы вырасти в росток.
С другой стороны, мы можем наблюдать глубинный бессознательный выбор не взрослеть как отказ от ответственности, желание оставаться в удобной детской позиции. Чем более удобные условия создает «заботливое» созависимое окружение, тем меньше шансов на то, что выбор будет в пользу взросления.
Например, важная часть психологической и социальной зрелости – финансовое самообеспечение. А в семьях зависимого типа нередко можно наблюдать картину, когда окружение материально содержат зависимого родственника, который при этом является взрослым работоспособным человеком и не имеет уважительной причины для такого образа жизни. Конечно, он рационализирует такой выбор и имеет самооправдание, например: «Нет подходящей работы для человека с моим образованием», «У меня творческий кризис» и т.д.
Такие ситуации порой доходят до абсурда, и Вы можете увидеть семьи, в которых родители-пенсионеры содержат 50-летнего сына-алкоголика. Или жена с детьми дошкольного возраста хватается за любые подработки, а муж-игроман сидит в онлайн игре.
Вспомним модель Эрика Берна, транзактный анализ: внутри каждого человека можно выделить такие части как Взрослый, Родитель, Ребенок. В случае зависимости и созависимости не хватает проявлений внутреннего Взрослого, зрелого поведения. Аддикт чаще всего следует за своим внутренним Ребенком, созависимая личность – за внутренним Родителем (что является компенсаторным механизмом заботы о собственном внутреннем Ребенке, который инвестируется в других). Между собой они являют комплементарный союз: Родитель-Ребенок, иногда меняясь ролями. Этой паре недостает взаимодействия Взрослый-Взрослый.
Эгоцентризм. Это как раз инфантильная черта: ребенок уверен, что мир вращается вокруг него, так же в старину люди были уверены, что Солнце вращается вокруг Земли. Первичный эгоцентризм свойственен началу жизненного пути, далее, по мере нарастания зрелости личности, он уходит. Зрелая личность понимает всю сложность устройства мира, ощущает ответственность за свои поступки, понимает, что мир не обязан заботиться о ней, как родитель о ребенке.
Аддиктивная личность остается в детском эгоцентризме, бессознательно ощущает себя центром мира, имеет требовательные ожидания относительно окружающих.
У аддиктов эгоистичное поведение проявлено довольно очевидно: они стремятся к удовольствию и избегают ответственности, не придают значения тому, как окружающие могут от этого страдать. А удовольствие связано, в первую очередь, с объектом зависимости. Поэтому они стараются устроить свою жизнь так, чтобы могли свободно «употреблять»: пить, сидеть в интернете и т.д. При этом не учитывая интересы окружающих и последствия аддиктивного поведения ни для окружающих, ни для себя самого.
Так, нередко аддикт отказывается работать, приносить деньги в семью, при этом он может даже иметь маленьких детей, и, конечно, он пользуется общими ресурсами семьи: ест из общего холодильника и т.д. Или если начальник увольняет его за зависимое поведение (прогулы, запои, кражи), он считает увольнение предательством, несправедливостью и испытывает «праведное негодование».
Эгоцентризм созависимой личности не столь очевиден. Ведь внешне кажется, что созависимый человек заботится о своем ближнем, думает только о нем и живет отношениями с ним. В действительности это не истинная любовь и забота. В отличие от истинной любви, эмоциональная зависимость эгоцентрична и эгоистична, созависимый делает то, что нужно ему самому, исходит из собственных интересов.
Пример: женщина слегка за 30, назовем ее Алиной. Она находится в эмоционально зависимых отношениях с женатым мужчиной, сильно старше, состоятельным и статусным.
Она несколько лет ждет, что он разведется, считает, что с женой он несчастлив, а вот она будет по-настоящему о нем заботиться, и с ней он будет счастлив. Алина сделала татуировку с его именем, следит за его активностью в соцсетях, отслеживает, кто ставит лайки под его постами и фотографиями, ревнует к другим потенциальным любовницам.
Я попросила Алину описать, какой она видит их потенциальную совместную жизнь – ту картинку, к которой она стремится. Из описания стало очевидно, что она проецирует на него образ идеального отца. В этой картинке она оказывается символической дочкой, которую любит, о которой заботится и защищает символический папа.
«Заботясь» об объекте эмоциональной зависимости, созависимая личность бессознательно удовлетворяет свои собственные дефициты.
Еще один пример, кинематографический: фильм «Принцесса льда» (США, 2005). Мать мечтает любой ценой сделать из дочки чемпионку по фигурному катанию. Подросшая дочь-подросток находит в себе силы отказать матери, после чего между ними происходит диалог:
– Ты отказалась от своей мечты!
– Нет, мама, я отказалась от ТВОЕЙ мечты!
Проблемы с ответственностью. Зависимая личность не хочет брать на себя ответственность, а если не удается этого избежать, старается с себя ее снять и переложить на других. Это гипоответственность. А вот созависимая личность, напротив, берет на себя чужую ответственность, это тип гиперответственности.
Гипоответственность – отказ брать на себя ответственность. Это, конечно, одно из проявлений уже упомянутого инфантилизма. Зависимая личность или вовсе отказывается от ответственности, или старается ее минимизировать.
В моей практике был случай: многодетный отец-алкоголик (возраст чуть за 40), отказывался содержать своих несовершеннолетних детей, потому что все 4 беременности были незапланированными. Он не сомневался в своем отцовстве, оставался в браке, проживал на одной территории с женой и детьми. При этом говорил, что не обязан их содержать, потому что «Жена беременела, не спросив меня», полностью снимая с себя ответственность за беременность и деторождение.
Гипоотетственность формируется в семьях 2 типов. В первом случае ребенка не научили ответственности, гиперопекали: у него не было домашних обязанностей, да и за себя ему не приходилось отвечать. Например, ребенок получал плохую отметку и жаловался дома, что виновата «вредная училка», а домашние с ним соглашались, не проясняя ситуацию.
Во втором случае на ребенке было слишком много ответственности, и выработалось протестное поведение: не хочу ничего делать и ни за что отвечать!
При гипоответственности преобладает экстернальный локус контроля: «Ответственность на внешних обстоятельствах и на других людях, но не на мне». Нередко после увольнения или развода, причиной которого послужила зависимость, аддикт начинает перекладывать ответственность вовне: «Начальник придрался», «Конкуренты подсидели», «Муж оказался ненадежным» и т.д.
Гиперответственность – чрезмерная ответственность невротического уровня. В случае гиперответственности человек берет на себя чужую ответственность и чувство вины. Например, жена алкоголика считает себя ответственной и виноватой за то, что муж ее ударил, ведь она «приставала к нему с вопросами, когда он занят», «Не надо было его злить».
Или относится к своей собственной ответственности с чрезмерным напряжением и страхом не справиться: например, созависимый сын алкоголиков боится принести из школы плохую оценки, потому что это может стать поводом для скандала и физического наказания.
Гиперответственность формируется в детстве, когда ребенку делегируют чужую ответственность, когда не дают право на слабость и ошибку.
Например, отец-алкоголик находится в отстраненной позиции по отношению к семье, мать занята зарабатыванием денег и домашними хлопотами; отец не хочет уделять внимание детям, а мать не успевает. И тогда старший сиблинг становится ответственным за младшего, выполняя родительские функции: накормить, забрать из школы, проверить уроки. На старшем слишком много ответственность, а с младшего она снимается. Старшего ребенка могут обвинять в том, что младший болеет или плохо учится. В такой семье обычно старший ребенок начинает развиваться по созависимому типу, а младший по зависимому.
При гиперответственности преобладает интернальный локус контроля, причины ищутся в себе, но невротически нездорово. Например, после алкогольного срыва близкие алкоголика начинают искать причину в себе: «Он сорвался, потому что мы были слишком строги с ним…»
Неадеватная самооценка. Самооценка зависимой и созависимой личности может быть:
– завышенной,
– заниженной
– или компенсаторно завышенной, тогда как в действительности она занижена (как в анекдоте: «Ничего, что у меня грудь впалая, зато спина колесом»).
В любом случае, представление о себе не соответствует действительности. Нередко бывают так называемые «качели», когда происходит скачок между заниженной и завышенной самооценкой, они чередуются: «Раб и царь», «Бог и червь»…
Кому-то зависимость позволяет поднять самооценку на время: после употребления ПАВ аддикт ощущает уверенность в себе, смелость общаться и заявлять о себе, или в компьютерной игре отождествляется с героем и его сверхспособностями… Но это ложный путь: он не решает проблему низкой самооценки и лишь отдаляет от реальности.
Иногда дисфункциональные семьи с зависимостью называют семьями, в которых нарушена любовь. Очень верные слова, на мой взгляд: в таких семьях может быть много любви, но она принимает неправильные формы и выражение («Бьет, значит, любит» и др.). Не получая истинную здоровую любовь и принятие, дети не могут научиться любви к себе. Поэтому и во взрослости в отношении к себе не хватает здоровой безусловной любви. В детстве формируется бессознательное убеждение: «Меня никто не любит, сам буду себя любить», «Я не достоин любви, никто меня никогда не полюбит, и я сам себя не люблю», «Любовь надо заслужить» и т.д.
В любом случае, не хватает реалистичного самовосприятия и здорового любящего отношения к себе. Давайте рассмотрим для примера человека, который замечательно играет в шахматы, но плохо поет.
Здоровая самооценка: «Я хорошо играю в шахматы и плохо пою».
Завышенная самооценка: «Я замечательно играю в шахматы, лучше всех, знайте про это все!»
Заниженная самооценка: «Я ужасно пою, я пою хуже всех, как ужасно, что я не умею петь…»
Сложности в эмоциональной сфере, в том числе с эмоциональной саморегуляцией. Возможны следующие:
– аддикт даже не понимает, что захвачен неким чувством, чувства подавлены;
– не может дифференцировать – определить, что это за эмоция, назвать ее (алекситимия);
– испытывает сложности с выражением чувств – с тем, чтобы сдержать и/или с тем, чтобы выразить.
Зависимость иногда очень верно называют «болезнью замороженных чувств». В дисфункциональной семье с зависимостью нарушена эмоциональная регуляция: обмен чувствами, выражение чувств… И зависимость/созависимость становятся нездоровой их формой регуляции.
Например, сын-подросток злится на свою мать-алкоголичку, но не может предъявить ей это чувство из страха, жалости, из-за материальной зависимости или по иной причине. Тогда он может начать размещать свою злость в виртуальном пространстве, в компьютерных «стрелялках», развивая игровую компьютерную зависимость. Или найти некий идеализированный образ девушки, контрастный по отношению к демонизированному образу матери, и в созависимой любви найти утешение; эта идеализация будет уравновешивать и сдерживать заряд гнева на мать. В любом случае зависимость/созависимость становятся «помощниками», «помогающими» справиться с собственными чувствами.
Есть семьи, в которых распространен негласный запрет на любые чувства. Чувства воспринимаются как нечто негативное: неприличное, демонстрирующее слабость и т.д. Но есть и семьи, в которых запрещены конкретные чувства, то есть отношение к эмоциям очень избирательное.
Например, в династиях военных страх воспринимается как нечто недозволительное, особенно для мужчин.
Детей в дисфункциональных семьях не учат осознавать, проживать, выражать свои чувства.
Зависимый или созависимый человек может казаться эмоциональным, но важно понимать, что манифестируемые эмоции могут быть прикрытием для более глубоких чувств, маскировкой. Например, за гневной вспышкой наркомана может скрываться страх будущего. А за теплыми сердечными чувствами созависимой девушки может прятаться гнев на отсутствие взаимности.
Люди зависимого типа больше склонны к отреагированию чувств – бесконтрольному выплеску. А вот созависимые чаще подавляют, удерживают в себе и в итоге страдают от психосоматических заболеваний, депрессивных состояний.
Проблема вины и стыда. Выделим их в эмоциональной сфере отдельно как токсичные процессы. Стыд – ощущение своей «плохости», вина – «плохости» своих поступков. Сами по себе, это необходимые чувства, регулирующие поведение в социуме в соответствии с правилами, считающимися нормальными в том или ином обществе. Эти чувства не природного, а социального происхождения, возникающие в процессе воспитания.
Но в дисфункциональной семье, имеющей зависимость, эти чувства в дисбалансе, их регуляция нарушена. Поступки и личность, вина и стыд путаются между собой: «Если я поступил плохо, значит, я плохой». Поэтому в такой семье очень сложно и унизительно признавать свои ошибки, это равносильно признанию в своей личной несостоятельности и недостойности. Стыд и вина перебрасываются друг другу, как мячик: «Нет, это ты виноват!»
Зависимая личность больше склонна перекладывать стыд и вину на других: «Я напился, потому что из-за тебя у меня был сильный стресс!» А созависимая личность берет себе чужие вину и стыд: например, детям алкоголиков стыдно за болезнь и за поведение родителей, хотя в этом нет их собственной вины и «плохости».
Поэтому зависимый и созависимый тип комплементарны, они дополняют друг друга, образуя устойчивые союзы – родственные, дружеские, рабочие.
Сложности с целеполаганием. Еще одно последствие инфантилизма, недостаточной зрелости – проблема с постановкой цели и со следованием к ней.
Во-первых, зависимая и созависимая личность плохо ощущает и осознает свои истинные потребности, замещая их псевдозначимыми желаниями. Объект зависимости или стремление к субъекту созависимости – замещение более глубоких, истинных, малоосознаваемых потребностей. Например, истинная потребность – расслабление, и она достигается путем приема алкоголя. Или истинная потребность в принятии, безусловной любви замещается влюбленностью, эмоциональной зависимостью.
Во-вторых, потребности сложно выражать. Зависимый тип начинает требовать, считает, что ему «должны», и плохо переносит фрустрацию, связанную с отказом, неудачей. Созависимый тип отказывается от своих потребностей и компенсаторно инвестирует их в других. Например, нуждаясь в объятиях, проецирует и начинает навязчиво обнимать близких: «Это ТЫ нуждаешься в объятиях, я знаю…»
В-третьих, объект зависимости/созависимости приобретает сверхзначимость, возникает канализированное, туннельное стремление к нему: достижение любой ценой, захваченность мыслями о нем. Все остальные сферы жизни и процессы кажутся фоном, чем-то вторичным, нередко они приносятся в жертву основной цели, связанной с объектом зависимости/созависимости. Это можно назвать «охваченностью сознания предметом пристрастия», будь то объект зависимости или субъект эмоциональной привязанности.
Таким образом, мы видим, что зависимая и созависимая личность часто ставят перед собой ложные цели, которые не соответствуют их истинным потребностям. Или испытывают сложность с самой постановкой цели: «Не знаю, что хочу». А поставив цель, нередко теряют ее по дороге, переключаются на что-то другое – их отвлекает зависимость/созависимость. А вот к объекту своей нездоровой привязанности они движутся целеустремленно и канализировано, игнорируя все остальное и принося в жертву другие свои интересы, включая здоровье.
Так называемое «магическое мышление» и высокая внушаемость. Это еще одно проявление незрелости личности. Эгоцентричная вера во всемогущество своих мыслей и чувств, в возможность влиять на свою болезнь или болезнь близкого. Надежда на «чудо», на волшебное исцеление. Этим часто пользуются аферисты и мошенники, предлагающие самые разные «магические» и «научные» средства, «избавляющие от зависимости раз и навсегда».