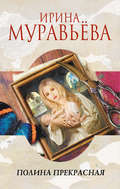Ирина Муравьева
Любовь фрау Клейст
У меня нет сил каждый день извиваться в кольцах этой жуткой ревности, этих подозрений! Я больше так не могу! Вчера решила: пойду и спрошу напрямую.
Пошла. Он сидел за компьютером. Поднял на меня глаза, и я вместо этого спросила, сколько он собирается пробыть в Москве. Сказал, что вернется в начале декабря. Почти месяц. Уезжает он через неделю.
– Не забудь, – говорю, – шапку.
– Какую? Тепло же!
– Это здесь тепло.
У нас действительно тепло, почти лето. Даже листва не слетела. Вчера из окна увидела, как по плющу стекают ручейки крови: так он покраснел за ночь.
В последнее время я почему-то часто думаю о смерти. Не о своей, а о смерти вообще. Свою я настолько же не могу представить, как не могу представить себе Бога. Он есть, и она тоже будет. Но как бы я ни старела, сколько бы опыта у меня ни прибавлялось, я ничего не знаю об этом, точно так же, как не знала раньше.
Помню, как мы с Лидкой ездили на Красноярское море. Нам было лет восемнадцать. Познакомились в пансионате с тремя парнями, студентами-медиками. Все трое были Сашами: Саша-белый, Саша-черный и просто Саша. Парни предложили сбежать из пансионата в лес и переночевать в охотничьей избушке на берегу заповедного озера. Пошли. Избушка была – чудо. Два закутка с печкой, темная, вся в золотой паутине. Стол на улице.
Пошли с белым Сашей за водой. Тучи комаров, стволы скрипят, трава поет, а вода в озере такая чистая, что всех головастиков видно. Вернулись, разожгли печку. У Саши-белого и у Саши-черного заблестели глаза.
И вдруг завалилась семья: муж, жена, семилетний мальчик и мать мужа, алкоголичка. Почему они оказались в этой избушке, куда двигались, не знаю, не помню. Муж, мрачный мужик с жесткой бородкой, которую он все время поскребывал согнутым, как крючок, указательным пальцем, сказал нашим медикам:
– Мамаше – ни капли! Она на лечении.
Мать – робкая, опухшая, ноги и руки в струпьях, глаза измученные. На сына смотрела затравленно.
Мы улеглись на полу в своем закутке. В осколке окошка, как сейчас помню, висел желтый месяц. Посреди ночи мать начала плакать и просить водки. Сын заорал на нее, она затихла.
Потом, когда все заснули, она все-таки выпила, вернее, долизала остаток спирта, который был в телогрейке у черного Саши. К утру у нее наступила горячка. Тут уж никто не мог спать. Она ползала по полу и выла. Не плакала, не кричала, а выла, как волк, и все пытались целовать нам ноги. Сын ударил ее половником по голове. Один из ребят сказал, чтобы ей все-таки дали выпить, потому что иначе она умрет.
– Пошел бы ты... знаешь? – заорал сын.
У старухи началась рвота, судороги, и к утру она умерла. Мы с Лидкой спустились к озеру. Оно пенилось перед нами в тумане, белое и теплое, как надоенное молоко. Восход только начался, птицы свистели вовсю.
Через час мы вернулись. Сын ушел за подводой в деревню, тело лежало под деревом, прикрытое одеялом. Саши сидели на крылечке растерянные и курили. Еще через полчаса сын приехал с подводой. Лошадью правил старик, не сказавший ни слова. Они подошли к умершей и приподняли одеяло.
Старуху нельзя было узнать. Если бы мне не сказали, что это она, которая только что выла и ползала в собственной рвоте, я бы не поверила, что смерть может так изменить человека. Она была очень спокойной. Спала, отдыхала. Пальцы, сплетенные и сложенные на груди, немного топорщились своими верхними заостренными фалангами, как это бывает у святых на византийских иконах, лицо было тихое, тонкое, чистое и молодое.
* * *
Профессор Трубецкой поссорился с профессором Янкелевичем, но графиня, любящая Айтматова, тоже поссорилась с профессором Янкелевичем еще два года назад (хотя с профессором Трубецким она поссорилась раньше), и кафедра оказалась под угрозой.
Профессор Янкелевич, чье детство и отрочество прошли в Японии, гордый тем, что последние тридцать четыре года он смотрел свои сны исключительно по-японски, а думал при этом по-русски, наглухо закрыл дверь кабинета, сел за стол, загородился портретом жены (в большой белой шляпе, с букетом ромашек!), затих и надулся.
Трубецкой, закусив нижнюю губу, ходил по коридору второго этажа и так громко наступал на пятки, что у графини на первом этаже начался нервный тик.
В это же время обнаружилось и другое обстоятельство: на кафедру поступило письмо, хотя и по-русски, но гадкое, полное диких намеков. Поскольку заведующая кафедрой, маленькая, застенчивая женщина, влюбленная в Рыльские Глаголические Листки, не знала, что делать с таким документом, она позвала Трубецкого, над чьей головой и сгустились все тучи.
– Here. You just take a look[2].
– What is it, Patrice?[3]
Заведующая испуганно отвернулась к окну, и Трубецкой, шумно, с достоинством высморкавшись, принялся за чтение:
« ... бессовестно проедая деньги, доверенные ему университетским начальством и доверчивым американским правительством, хапая направо и налево так называемые гранты на совершенно не нужные американской науке псевдопроекты, профессор Адриан Александрович Трубецкой бессовестно крутится в России, вступает в отношения с нечистоплотными замаравшимися людьми, пользуется их средствами для своего проживания и тем же содержит вторую семью, состоящую из незаконной жены и ребенка. Причем эта жена, целиком и полностью висящая на шее Трубецкого, может позволить себе нигде не работать в России и в частности в Санкт-Петербурге.
Но этого недостаточно. Два года прожив в Провиденсе и проработав за гроши на кафедре славистики, я воочию убедилась, в каких отношениях профессор Трубецкой состоит с зависящими от него в их научной и литературной работе малоимущими американскими аспирантами. Особенно женского пола. Пользуясь своим влиянием, профессор Трубецкой заставляет аспирантов дни и ночи проводить в библиотеках, разыскивая нужные ему материалы.
А что касается женщин-аспиранток, то могу привести примеры того, как ведет себя профессор Трубецкой на работе. Дверь своего кабинета, за которой он неизвестно чем занимается и которую по регламенту, установленному в Соединенных Штатах Америки, нужно держать широко открытой, он запирает частенько на ключ изнутри...»
Дальше Трубецкой читать не стал и подлый документ смял с такой яростью, что заведующая всплеснула своими нежными руками:
– They all got the copies![4]
Оказалось, что вся кафедра, включая секретаршу, получила копии.
– Так, – громко и смачно сказал Трубецкой. – И что же мне делать?
– You have to finish reading[5], – слабея, попросила заведующая.
Остаток письма был совсем омерзительным. Если верить «фактической достоверности» изложенного, профессор Адриан Александрович не только пристает к студенткам за закрытой дверью своего кабинета, но и склоняет многих из них к незаконному сожительству, обещая помощь в будущем устройстве на работу, а этим, как известно, легко расположить к себе всякого человека, получившего не самое популярное в Соединенных Штатах Америки образование в области славистики.
– А! – проревел Трубецкой, возвращая письмо. – Она отомстила. Я знал это. Господи! Мы не продлили контракт. Все понятно.
Дело обстояло так: кафедра славистики, на которой профессор Трубецкой трудился вместе со своими коллегами, имела возможность приглашать из Москвы и Петербурга преподавателей русского языка, селить их в своем общежитии, платить очень скромные деньги с тем, чтобы они создавали внутри университета глубоко народную славянскую атмосферу. Включались: блины, кинофильмы «Вокзал для двоих» и «Летят журавли», сибирская баня, гадание при свечах плюс песни, плюс пляски.
Контракты заключались на год, и по истечении срока носители чисто славянского духа с неохотой покидали чужую, но мирную, тихую пристань для бурного моря далекой отчизны.
Такого, как это письмо, между тем никогда не случалось.
– Я не могу не отреагировать, – покрывшись бурыми пятнами, прошептала заведующая. – Тогда она оклевещет всю кафедру, нам сразу закроют программу.
– Логично, – сказал Трубецкой и звонко, как груда камней, рухнул в кресло. – Но мне-то что делать? А Петра? Прасковья с Сашоной?
– Нам нужно ответить, – еще тише сказала заведующая. – Иначе вся ваша карьера...
– Карьера? – презрительно переспросил Трубецкой. – Какая такая карьера?
Патрис наклонила кудрявую голову.
– Ну, что ж? Нищета, срам и старость! – И Трубецкой с размаху закрыл лицо мясистыми ладонями. – Страна дураков и совсем безнадежна. Ирак! Безобразие! Там, – он резко махнул на окно, в котором, чернея, притихли вороны, – там тоже хватает. Там Путин и кровь. Миллиарды. Старик Карамазов и все его дети. Ах, господи боже, да что говорить!
– Но надо ответить...
– Все катится градом! Везде. Так и надо. Рожают детей из пробирок, и что они думают? А? Вы скажите?
– Я хотела вас попросить, Адриан. Если это дойдет до начальства...
– Что – это? – опять заревел Трубецкой.
– Никто не будет копаться в вашей личной жизни, – торопливо забормотала она. – Но если хоть одна из ваших аспиранток на вопрос, пытались ли вы...
– Пытался я – что? И кому я пытался?
– Пытались ли вы добиться ее... расположения... когда... при закрытых дверях кабинета... Ведь я вам сто раз говорила: «Откройте!» Регламент!
– А я не открою! – побагровел Трубецкой и всей тяжестью привстал на огромных ногах, но сдался и рухнул обратно. – Поскольку желаю мечтать! В кабинете! В своем кабинете! Желаю мечтать и раздумывать! Я им не робот!
Дело пахло большими неприятностями. То, что любое обвинение в сексуальном домогательстве по отношению к подчиненным не оставляется без внимания и может закончиться увольнением, знали все, и все боялись этого. К тому же профессор Янкелевич, лично ненавидящий Трубецкого за его популярность, не погнушался бы и клеветой на своего врага, будучи, однако, чистосердечно уверенным, что, потопив Трубецкого, он служит высоким и нравственным целям.
– Мы сделаем все очень просто, – прошелестела заведующая. – Я поговорю, приватно, разумееется, со всеми нашими аспирантками, и каждая подпишет опровержение. Так что, если дойдет до самого верха, мы будем уже подстрахованы...
– Ах, делайте что хотите!
И, схватившись за виски, Трубецкой вскочил и, отпихнув кресло, вышел из комнаты.
Любовь фрау Клейст
Остров Бальтрум рано просыпался и рано засыпал. Он был, как положено раю, спокоен, и солнце так горячо и тщательно прогревало каждую песчинку, что утром, уставшие от любви, ослабевшие от этой огромной, смеющейся силы, которая с ними творила что хочет, они шли на берег, пустынный, залитый как будто густым молоком, разувались и по кромке лопающейся воды, взявшись за руки, уходили далеко.
Камни звякали под ногами, песок мелодично похрустывал. Тонкие скелеты больших длинных рыб и скелетики малых, раздавленные панцири умерших морских существ, сизые куски раковин, разваренные водоросли, суетливые крабы, тонконогие чайки – все, и живое и мертвое, покорно сияло под солнцем, не думая вовсе о смерти и жизни. Все было похожим одно на другое: и чайка на чайку, и панцирь на панцирь, но не было ни одной одинаковой птицы и ни одного – такого же точно, как тот или этот, – прогретого камня.
Разговаривали они немного. Любой разговор, даже самый ничтожный, привел бы их сразу к тому, чем вдруг стала их жизнь. Их жизнь стала тайной. И если бы кто-нибудь из посторонних людей вдруг догадался о ней, они бы погибли.
Когда по ночам фрау Клейст смотрела на белеющее в темноте лицо своего возлюбленного, ей приходило в голову, что она никогда и никого не любила так сильно, с такой беззастенчивой, радостной жадностью. Едва только он засыпал и все детское, пушистое и робкое проступало на этом лице, ей тут же хотелось обнять его, спрятать, закрыть своим телом, и если придут убивать их обоих, то сначала пускай расправляются с нею.
На исходе счастливой недели фрау Клейст почувствовала себя плохо. Когда они с райского острова плыли обратно на пароме, она простояла почти целый час, свесившись за борт, извергая из себя пенистую желтую жидкость и корчась от того, что в горле ее как будто раздавливают лимоны.
Доктор Штайн, зрачки у которого мутнели всякий раз, когда он тощими руками в резиновых перчатках безжалостно выворачивал подернутые перламутром внутренности своих пациенток, тотчас объяснил ей, в чем дело.
– И я полагаю, что двойня, – своим неприятно высоким, отрывистым голосом сказал доктор Штайн. – Поскольку прощупал у вас две головки.
Фрау Клейст спросила, когда можно сделать аборт. Доктор Штайн приподнял брови и попросил ее еще раз взвесить свое решение. Он напомнил, что фрау Клейст забеременела первый раз в жизни, а ей уже сорок, и, прервав эту беременность, она обрекает себя на бездетность. В ужасе от того, что он найдет причину отказать ей, фрау Клейст прижала ко рту обе ладони:
– Нет, доктор, прошу вас!
Процедуру назначили на десятое июня.
Как он благоухал, этот жасминовый куст под окном палаты, в которой она лежала после того, как все было кончено! Скашивая глаза на заснеженную цветами тяжелую ветку, фрау Клейст ощущала внутри такую пустоту, как будто ее не просто освободили от беременности, а вырезали из нее все, что было живого. Она пыталась не смотреть на этот жасмин, который был весь полон светом и радостью жизни, она отворачивалась, но он, обратившись к ней всеми цветами, насильно притягивал взгляд.
Внутри пустота, чернота, ни кровинки. А он так сияет назло ей, так дышит! Под вечер она задремала.
...фрау Клейст плохо запоминала свои сны, но этот запомнила. Она плыла под водой, не двигая ни ногами, ни руками, навстречу ей плыли другие. Во сне она поняла, что это уже не она, что она умерла, и знала, что было легко и не страшно. Какая-то лодка выскользнула навстречу, и в лодке был свет, много света. Фрау Клейст хотелось рассмотреть тех, кто сидел в ней, но лодка, слепя своим светом, исчезла.
«Наверное, беженцы», – подумала фрау Клейст.
И тут вдруг вся кровь прилила к ее сердцу: там были «головки»! Он их не убил, он их выпустил в реку! Чудной доктор Штайн: разве трудно признаться?
* * *
Профессор Янкелевич стал похож на тень, профессор Трубецкой располнел еще больше, а граф, муж графини Скарлетти, подрался с соседом, который задумал отнять у него виноградник. Графине пришлось удалиться в Тоскану.
Все понимали, что на кафедре должно произойти что-то на редкость неприятное, унизительное для всех и, может быть, даже опасное. И, как это часто происходит с людьми, которые и хотели бы отвести несчастье, но не могут, все стали покашливать, сморкаться, пожимать плечами, и то веселое оживление, которое отличало кафедру славистики с ее чисто русским и подлинным духом, исчезло бесследно. Несколько раз Трубецкой делал осторожные движения в сторону Даши, как будто хотел посекретничать. Даше было не до него, и она не реагировала.
Наконец он не выдержал и после семинара попросил ее заглянуть к нему на «очень – увы! – непростой разговор».
– Садитесь, – сказал Трубецкой и, презрительно улыбнувшись тому, кто, может, сейчас наблюдает его поведение, закрыл за Дашей дверь своего кабинета. – Вас видели месяц назад.
– Меня? Где?
Он отвел глаза:
– Подумайте. Мне и сказать вам неловко.
Платье прилипло к Дашиной спине.
– Ну, все равно! Вас видели, когда вы выходили из мотеля на 134-й дороге. Там бензоколонка. Анжела Сазонофф вас видела. Вы были с любовником. Не нужно сейчас отвечать! Вы молчите. Об этом все знали еще до отьезда. До этого, вашего... До Мичигана.
– О чем они знали?
– О вашем любовнике. Все русские в городе знали об этом, и все говорили. Я это тогда пресекал. И здесь тоже знали. Но я и Патрис – мы за вас как гора.
Трубецкой закурил, но, вспомнив, что и это запрещено, погасил сигарету в пепельнице и сморщился.
– И что они знали? – пробормотала Даша.
Он замахал руками:
– Ах, боже мой! Маленький город! Тут муха летит – и все слышат! И все обсуждают. А вы на виду. Вы красивы.
Даша хотелось одного: вскочить и уйти. Трубецкой виновато перевел дыхание и искоса посмотрел на нее:
– Моя дорогая! Позвольте мне начистоту. Мы с вами старинные друзья, не первый день... Вы пришли поступать в аспирантуру, и я сразу понял, что никакого толка не будет. Вы не академик! Нисколько! Ни на йоту. Мы приняли вас, потому что... кого же еще принимать? Вокруг одна серость! Она так и липнет! Да. Серость. Мы приняли. Как вы учились? Смеясь и виляя хвостом. Несерьезно. Хотя вы талантливы. Очень, на редкость. Но вам наплевать на науку. Мне тоже. Но я-то хоть делаю вид! Подождите! – Он свирепо оглянулся на дверь, за которой что-то прошуршало. – Из вашего выпуска все защитились. Давно защитились, хотя и бездарно. Потом разговоры. Да, да, разговоры! Ведь маленький город! Вас видели там, сям... Без мужа. Позвольте, я прямо, как есть! Да, без мужа. И толки! Ведь это Мордасов, чистейший Мордасов! Но я и Патрис... Мы всегда пресекали. Во-первых: кто знает? Кто свечку держал, а? Никто! И прекрасно! Но тут вдруг Сазонофф... Когда мне сказали, я весь обосрался!
Даша широко открыла глаза и вспыхнула, но Трубецкой и не думал шутить. Она вспомнила, что он все-таки родился не в России, а в Чехии. Ей стало смешно, и она покраснела.
– Да, я обосрался в штаны! – смакуя, повторил Трубецкой, не замечая ее покрасневшего лица. – От страха за вас. За этой Сазонофф стоит Янкелевич. Сазонофф – его аспирантка.
– И что тут такого, что я была рядом с мотелем?
– Не рядом, а вы выходили, – с нажимом объяснил он. – Они ведь хотят нас подставить. И вас, и меня. Сазонофф сказала, что в этом мотеле... что вы... Ну, вы были со мной.
Даша вскочила.
– Садитесь! А вы чего ждали? В Кентукки вон новое правило: профессор при поступлении на работу подписывает бумагу, что не собирается делать женщине любовь на территории университета. Бумагу! Не шутки! У нас ведь раздолье одним педерастам! Есенин, старик, сын поэта, Сергея, он знаете что мне сказал? Он мне рассказал, что он со своей женщиной, с возлюбленной, уезжал не просто в другой штат, а в другую страну, чтобы сделать любовь! Да! Вот вам! Мотался в Канаду! И это когда еще было... А тут вот Портнова... Мы ей не продлили контракт, вот в чем дело. А я идиот. Я ведь всем доверяю. Тогда, когда в Питере Аля был болен, мы с Татой искали врача. И я ей позвонил. – Он бурно задышал. Так было во все времена. Мы всем им мешаем. Они обожают разврат. Отсюда их страсть к голливудским скандалам.
– Они – это кто? – спросила Даша.
– Они – это люди. Разврат обожают, любви не прощают. Толстой это очень прекрасно заметил. Любовь смертью пахнет, и в этом все дело.
Он вдруг ухватил себя за косо выстриженные виски.
– Мы все как в капкане! Да где мы живем? Великая, бедная дура Америка! Саму себя высекла! Что можно требовать от людей? Нечего от них требовать! Им скажут: «Беги!» И бегут. А скажут: «Иди доноси!» – донесут! А скажут «Молчи!» – замолчат. Вы не знали? Мозги-то промыть разве трудно? Вот мне говорят: «коммунизм», «фашизм», а я говорю: «человек»! Не с коммунизмом имеешь дело, и не с фашизмом, и не с рабством, а с че-ло-ве-ком! И все проблемы от че-ло-ве-ка! Вот так вот, моя дорогая! Ведь вот они говорят: «Глобальное потепление»! Что такое глобальное потепление? Засухи, ураганы, бедствия природы и стало быть – голод! Как следствие. Так ведь? Всегда были войны, не спорю. Но войны-то были какие? Грабеж был в основе всех войн, вот какие. Рабов получить и заставить работать. А что нам теперь угрожает? Кому теперь нужно рабов, когда их кормить будет нечем?! Следите за мной?
Он свирепо перевел дыхание. Даша испуганно кивнула. На столе у Трубецкого зазвонил телефон, и Трубецкой, приподняв трубку, с размаху шмякнул ее обратно.
– Я что говорю? Что теперь будут войны за то, чтоб убить эти лишние рты! Убить, кого можно, и долю их съесть! Вот вам «потепление»! А умники эти все знают! У них «инженерия»! Да! «Социальная»! Они думают, что человеческое общество... – Трубецкой широко раскинул руки, как будто пытаясь обнять все вокруг. – Что общество наше – такая машина. Ее запустить поумнее и – баста! И ведь объяснят что хотите! Ведь, с их точки зрения, мерзавцев-то этих, всего только нужно: прикрыться идейкой! А там и валяй! Начнут убивать, если есть будет нечего, и все объяснят: почему, мол, так надо. Вы ходите в церковь?
– Нет, я не хожу, – испуганно сказала Даша. – Вернее, нечасто.
– И я не хожу. Не желаю. Вы слышали, что они тут сочинили?
– Они?
– Ну, господи! Епископальная церковь! Вот я прочитал, что они теперь учат, что нужно не так говорить, как мы раньше: Отец, Сын, Святый Дух, а иначе! Вы знаете как?
Трубецкой с наслаждением высморкался.
– Сын и... Не падайте! Матка!
– Что? – переспросила Даша.
– Вот именно! Я по-английски скажу вам Son, Mother and Womb![6]
– Зачем это?
Трубецкой расхохотался:
– Что значит – зачем? А «корректность», забыли? Чего ж все мужчины, мужчины? Пущай, значит, женщине тоже потрафим. И вспомним про матку. Потом про пузырь. Мочевой. Про печенку. – Он замолчал и красными воспаленными глазами уставился на Дашу. – Сказал ведь Господь: «Когда вы приходите являться пред Лицо Мое, кто требует от вас, чтоб вы топтали дворы Мои? Не носите больше даров тщетных: куренья отвратительны для меня, новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззакония и празднования, новомесячьи ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня, Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои, и когда вы умножаете моленья ваши, Я не слышу. Ваши руки полны крови».
– Откуда это?
– А, это? Их Книги Исаии. Мы все хороши. – Он быстро взъерошил остатки поседевших волос. – Они меня выгонят, денег не будет. Прасковья уедет, а Петра пойдет мыть полы. Я с горя подохну.
– Но вы говорите, что Сазонофф видела меня. При чем же здесь вы...
– Да, – с веселой готовностью закивал Трубецкой. – Я здесь ни при чем. Но ей показалось. Они психопаты. Они с Янкелевичем. Им безразлично. У них везде черти, чертихи, чертенки...
– Зачем я вернулась! – с сердцем прошептала Даша.
Трубецкой быстро и недоверчиво посмотрел на нее:
– А вы что, могли бы так жить?
– Как жить?
– Жить так, как живут остальные.
– Зато без обмана.
Он вдруг улыбнулся ей хитрой улыбкой.
– Ужасный обман! – громко и восторженно сказал Трубецкой. – Боюсь за детей. Страх мой вечный. Боюсь заслужить наказание детями. – Он громко, с особенным удовольствием произнес: «Детями». – А Петра моя абсолютно безгрешна.
Легкая брезгливость появилась в нижней части его большого лица.
– Но я не желаю такой чистоты! Вот так вот и так! Не желаю! – Крест– накрест Трубецкой обхватил себя за плечи, и шея в больших, влажных складках раздулась. – Да! Так! Не желаю! С нее... как сказать? Гладки взятки! А я? Прасковья вон давеча не ночевала. Домой не пришла! Обыскались. В полицию, в школу... Явилась под утро. Мне что, ее бить? Так меня арестуют! Кричу: «Где была? Ты где была, сука?» Она, слава богу, не знает, что «сука»... Что это ругательство, в общем. Была у бой-френда. Четыре утра. Ну, принял снотворное. Лег и лежу. А лучше сказать – помираю. И здесь вот, – он ткнул себе в грудь толстым пальцем, – как будто иголкой, острейшей иголкой...
3 ноября
Вера Ольшанская – Даше Симоновой
Гриша улетает в четверг. Я начала складывать чемодан, положила много рубашек: не побежит же он там в прачечную! Смотрю: он все вынул, оставил четыре рубашки и две пары брюк.
– Зачем мне так много?
Прошлый раз, когда он вернулся из Москвы, все вещи были чистыми и выглаженными. Значит, у него кто-то есть.
Чувствую себя как собака, про которую вчера прочитала в Интернете. На железнодорожных путях где-то на севере заметили собаку. Сидит и сидит, не уходит. Полчаса сидит, сорок минут. Наконец удивились, посмотрели: собака, оказывается, примерзла. Она потому и не двигалась. А через семь минут должен был пройти поезд. Вот так же и я.
Любовь фрау Клейст
Вернувшись домой из больницы, фрау Клейст передала Альберту коротенькую записочку, в которой просила не приходить к ней «на уроки» еще три недели. У Альберта брызнули слезы от ярости. Стыд, который он испытал, прочитав записку, был таким сильным, что он опустился на корточки и, втянув голову в плечи, обхватил себя обеими руками. И тут же возникло решение.
В два часа ночи сосед фрау Клейст, выехавший на инвалидной коляске в свой маленький, душный от роз палисадник, заметил мужскую высокую тень, припавшую к двери соседки с желанием взломать ее с помощью силы. Страдающий бессонницей любознательный инвалид, радуясь приключению и чувствуя себя настоящим мужчиной, немедленно вызвал полицию. Альберта увезли в наручниках.
Фрау Клейст спала и ни о чем не подозревала. Две детские головы, свежие, как только что сорванные яблоки, сияли внутри быстрой лодки. Река стала лесом. И дальше пошла чепуха и нелепость. Какая-то женщина, вроде слепая. Которая ела детей. Ловила в реке их, как рыб, и съедала.
По утрам слепая входила в сарай и говорила детям, которые сидели в клетке:
– А ну-ка давайте сюда ваши ручки!
И щупала их тонкокостные руки. Сердилась, что руки такие несочные.
– Еще бы немножко! – мечтала слепая. – Вы ешьте побольше! Вам разве не вкусно?
Бросала им кур с вертела, сыр, конфеты.
– Да ешьте вы, ешьте!
Но Ганс – умный мальчик! Обгладывал кости от курицы, просовывал их через прутья, как пальцы.
– Да что ж вы такие худющие! – скрежетала ведьма. – Еще потерплю, а в субботу изжарю!
Фрау Клейст привстала на подушках. Она была дома, одна, в своей спальне. Луна смотрела на нее не так, как сияющее небесное создание смотрит на бледное земное существо, а так одна злая баба глядит на другую. С тоской, с омерзением, без всякой пощады. Пушистая верхняя губа на отечном лице ее была по-кроличьи приподнята.
Утром позвонили из полиции. Альберт Арата, ученик той школы, в которой фрау Клейст преподавала рисование, пытался проникнуть к ней в дом с целью ограбления.
Фрау Клейст сразу же поняла, что произошло. Его нужно было спасать. Слегка запинаясь, но голосом бархатным, нежным, спокойным, она объяснила, что мальчик был ею – подумайте только! – слегка увлечен. По-детски, конечно. Она и решила прервать их занятия. А он рассердился. Чего не бывает?
Альберта отпустили на третий день. Родителям пришлось изрядно понервничать. Фрау Клейст, белая, как марля, потерявшая много крови во время аборта, сидела на диване в гостиной своего маленького любовника, а мать и отец стояли перед ней и смотрели на нее брезгливо – точь-в-точь как недавно смотрела луна, с ее этой кроличьей верхней губою.
Историю замяли, но фрау Клейст пришлось немедленно покинуть Мюнхен. С Альбертом она так и не увиделась. Перед самым отъездом он выскользнул из-под родительского присмотра и позвонил ей.
– Скажи, где ты будешь? – хриплым детским басом спросил он. – И я найду тебя через два года. Мы сразу поженимся. Совсем не могу без тебя.
Прошло много лет. Городок Гютерслоу, в котором она поселилась безвыездно, был чем-то похож на Бальтрум, такой же тенистый. На деньги, вырученные от продажи материнского имения в Швейцарии, дома покойного Франца в Мюнхене, а также всего, что осталось от деда, дяди Томаса и кузена Фридриха, фрау Клейст, всегда очень разумно обращавшаяся со своими средствами, жила совершенно безбедно. Забот было мало, друзей почти не было.
Ей больше совсем ничего не хотелось. Ни ласк, ни любви, ни тем более страсти. Как дерево, опутанное плющом, постепенно уступает этому навязчивому, подкравшемуся к нему существу сначала струящиеся по земле корни, потом золотое начало ствола, потом середину, и так, уступая, сдаваясь, становится просто опорой чужой жадной силе и жертвует ей, и сдается, и бредит среди ее листьев, в огне ее соков, так память о прошлом впилась внутрь жизни, и жизнь, подчинившись ей, оцепенела.
Иахим вложил в ее перчатку бумажный катышек. Она развернула его за воротами кладбища. «Я жду, чтоб ты позвонила». Она позвонила.
Синематограф, приютивший их, был похож на мерцающую раковину. В нем было темно и все время шумело. Не то это дождь шел на улице, не то им крутили кино с таким звуком. Их губы болели, а ноги дрожали. Так было нельзя продолжать бесконечно.
Иахим погиб, и пришел Гнейзенау. Магазин, в котором Грета выбирала пряжу, был полон сияния в тот день. Встало сильное солнце, хотя только-только закончился снег. Много выпало снега.
Но жарче всего, драгоценней, запретней был мальчик. Насколько запретней! Ни близость с Иахимом, пойманным мамой, ни связь с Гнейзенау, женатым на бедной чахоточной крошке, почти не грозили ничем, кроме сплетен. Но здесь! Здесь была бы скамья подсудимых, потеря всего и позор и несчастье.
Поверить в то, что фрау Клейст, услышав голос незнакомого человека в телефонной трубке, опять запылает, как уголь в жаровне, когда ей без месяца семьдесят восемь, – поверить в такое почти невозможно.
9 ноября
Даша Симонова – Вере Ольшанской
У нас беда. Нина попала в больницу с наркотическим отравлением. Я была на лекции, позвонили на мобильный и сказали, что она в реанимации. Как доехала – не помню. Дождь шел такой, что машины ползли.
Она лежала под капельницей. Юра стоял у кровати. У нее губы были совсем синими. Сестра, которая меряла ей давление, когда я вошла, стала меня успокаивать, что это часто бывает у подростков, если они пробуют наркотик первый раз. Мы с Юрой ждали, когда она проснется. Она минут через пять проснулась. Увидела нас и вся сморщилась.
– Доигралась? – спросил Юра.
На него было страшно смотреть, я боялась, как бы ему самому не стало плохо. Вошел доктор и стал объяснять нам, что произошло. Нина отказывается говорить, кто принес эту гадость в школу. Если верить ей, то попробовали все девочки в классе, кроме, может быть, двух или трех. Она сразу же отключилась и ничего не помнит. Доктор сказал, что, если она попробует еще раз, он ни за что не ручается. Кажется, она испугалась. Мы с Юрой вышли в коридор, и он набросился на меня чуть ли не с кулаками.
– Ну, что? Получила?
– При чем же здесь я?
– А кто здесь при чем? Ты ведь мать!
Обычная реакция. Когда его что-то так сильно пугает, наступает эта бессмысленная агрессивная ярость. В эту минуту он ничего и никого не слышит.
Я ночевала с Ниной в больнице. Спала на раскладном кресле. Вернее, дремала. Что-то мне приснилось, очень скверное: птица, большая, с длинным клювом, вся в растопыренных окровавленных перьях. Я пытаюсь догнать, а она удирает от меня, припадая на левую лапу.
Утром нас отпустили домой. Теперь ты понимаешь, почему никто не подходил к телефону.
Любовь фрау Клейст
Ровно в половине двенадцатого раздался звонок. Это они. Пришли смотреть квартиру. Припадая на левую ногу, фрау Клейст заторопилась к двери. Шея покрылась мелкими красными точками, как будто ее искусали муравьи.
За дверью стояла женщина лет тридцати восьми – сорока, стройная и высокая, с наивным удивлением внутри своих темно-фиалковых глаз. Верхнюю губу ее оттенял чуть заметный синеватый пушок, сгущающийся над уголками рта. На мужчину, который показался значительно старше – наверное, от седины, – фрау Клейст взглянула только однажды, но этого было достаточно. Она протянула руку сначала высокой женщине, потом ему. На сухом, коричневом от старости запястье фрау Клейст были видны красные зубчатые швы, оставшиеся от перчаток.
Через час квартира была сдана, через неделю они переехали. Дети все время кричали и ссорились. Младший, семилетний мальчик, свалился со своим велосипедом прямо на любимую клумбу фрау Клейст. Клумба принялась умирать и умирала медленно, ее покалеченные цветы и расплющенные стебли еще очень долго бессмысленно мучились. На них было больно смотреть.
Дни фрау Клейст стали плотными, усеянными впечатлениями. Ночами же тело ее лежало под одеялом, как теплый картофель, окутанный паром. Оно выталкивало из себя слегка окровавленные, уже поврежденные воспоминания. Постепенно они начали отплывать в темноту, как перегруженные суда, тяжело скрипя, отплывают от пристани.
Теперь всякий раз, выходя из душа, фрау Клейст подолгу стояла перед зеркалом, брезгливо усмехаясь в лицо своему отражению. Картина была весьма грустной. Особенно если податься вперед и слегка наклониться. Тогда ее груди начинали напоминать тяжелые сморщившиеся плоды – гигантские груши, гигантские сливы, раздолье для гусениц, птиц, мелких мошек. Она надевала халат. Потом подходила к окну и смотрела.
Полина рано просыпалась, чтобы до работы успеть сделать зарядку на улице. Она приседала, скакала и гнулась. И в ней была сила, была красота, но все это ломкое, резкое, рваное. Фрау Клейст не только не симпатизировала новой квартирантке, но, разглядывая ее со своего второго этажа, искала одни недостатки. Она, разумеется, их находила.
В Алексее же не было никаких недостатков. Фрау Клейст любовалась его лицом, простым, очень ясным, с выпуклыми голубыми глазами, немного курносым, высоколобым, которое ничего не сообщало о возрасте, поскольку, несмотря на седые, коротко остриженные волосы, могло быть и старческим, и моложавым. В лице этом не было времени. Иногда она заставала его в минуты гнева. Один раз кричал на ребенка, другой – на механика, который чинил им машину, и несколько раз на Полину. Тогда подбородок и губы дрожали.
Фрау Клейст догадывалась, что в нем за спокойною мягкостью много тревоги, что он одинок и несчастлив. Однако не знала причины.
Отец Алексея, полковник Церковный, был пьющим. Всю жизнь на колесах: Урал, Украина, Литва, Подмосковье. Семья кочевала за пьяницей. В третьем классе Алексей потерял мать, умершую в странной болезни: сначала был грипп, потом мать как будто сковало, и вскоре ее руки, ноги, безвольные, слабые, будто растаяли. Однажды наутро она не проснулась.
Через два месяца напуганный смертью полковник Церковный, дыша перегаром, привел в дом другую. Жена была рыжей, мясистой, ладони летали над скатертью, будто две птицы. Алексей не успел привыкнуть к новой жизни, поскольку отца его, молодожена, разрезало поездом. Шел ночью, был пьян, не заметил. Десятилетний Алексей оставил мачехе записку, чтоб зря не искала, а сам убежал к своей тетке, Татьяне Иванне Церковной.
Татьяна Иванна жила на покое, детей не имела, имела домишко, шесть яблонь и грядки в Мытищах. Любила гадать и гадала на картах. Пила чай с вареньем. Алешу не то что любила, скорее, терпела, однако кормила, поила, справляла одежду.
Когда Алексей, закрывая глаза, опять уплывал в свое детство, он видел одно: неповоротливый, обвязанный серым шерстяным платком теткин зад, повернутый к моросящему небу, и теткины щеки, большие, от холода сизые, мелко дрожащие от тех торопливых движений, которые ей, раскорячившей тело вприсядку, приходилось совершать во время пропола петрушки и лука.
Он окончил школу, и тут его сразу призвали. Вздохнуть не успел. Тетка сладко всплакнула. Но он уже был сам женат: девушка, с которой они подружились в самом конце десятого класса, Марина Смирнова, блондинка, толстушка, с зелеными, как у русалки, глазами, хотела, чтоб свадьбу сыграли до армии.
Свадьбу сыграли. Алексей попал на подводную лодку и в ней прослужил все три года под темной холодной балтийской водою. В конце третьего года у него развилась клаустрофобия, были обмороки. Потом ничего. Дотерпел и вернулся.
Ни в Москве на вокзале, ни в Мытищах его никто не встретил. Он схватил попутку, взлетел на пятый этаж ядовито окрашенной «хрущобы». Нажал на звонок. Отворила русалка. Живот выступал под халатом, как купол.
Сначала он застыл на месте, потом, не соображая, что делает, схватил ее за руки. Она тихо ойкнула. Рядом тут же оказались Маринина мать, две сестры, дед и бабка. Его, видно, ждали. Он взял свои вещи, ушел. Вернулся к Татьяне Иванне. Татьяна Иванна всплеснула руками: он весь поседел под водою без света.
* * *
В среду Нина наконец пошла в школу, и Даша, всю неделю просидевшая с ней дома, заглянула к Трубецкому. Он знал про больницу. Засуетился, начал перекладывать с места на место свои книжки, в глаза не смотрел. Потом пробурчал: