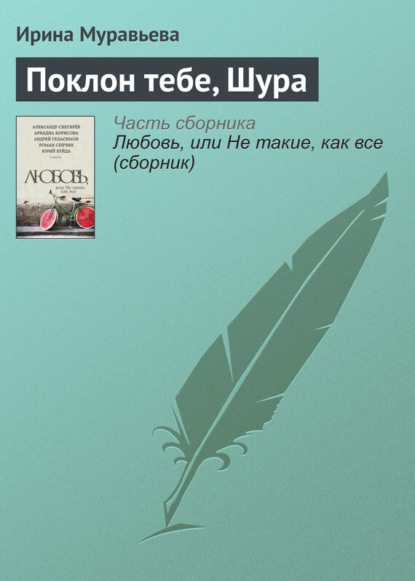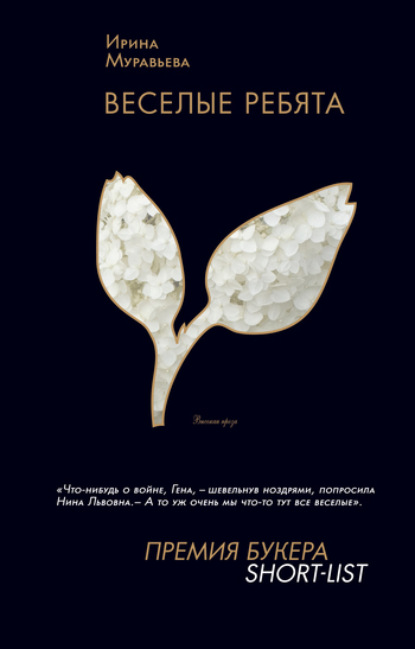- Рейтинг Литрес:4.3
- Рейтинг Livelib:3.5
Полная версия:
Ирина Лазаревна Муравьева Любовь фрау Клейст
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Ирина Муравьева
Любовь фрау Клейст
Вечером, двадцать третьего, у дома появились койоты. Сначала решили, что это лисята. Прошло пять минут – затрезвонила старуха с первого этажа:
– А вот заявить, и пускай их отловят.
– Зачем?
– Как это: зачем? Опасные, жуткие, дикие звери! А в доме три кошки!
– И что? Они же ведь не нападают.
Пауза и голос с негромким наждачным шуршанием:
– Ну, если вам нравится, чтобы вокруг… – Еще одна пауза. – Чтобы гиены… Тогда что ж… конечно.
– Они ведь ушли.
– Ушли, так вернутся! – вскипела старуха. – Но вам безразлично, ведь вы уезжаете! А, кстати, когда?
– Тридцатого августа.
– А, ну, до свиданья! – И бросила трубку.
Скорее всего, это те самые щенки, которых Даша подкармливала летом. Койотиха с острыми черными сосками попала под грузовик недалеко от океана. Она лежала раздавленная и визжала так громко, что вызвали полицию. Полицейский приехал не один, а пригнал специальную, глухо замурованную со всех сторон машину, на которой было написано: «Животный контроль». Из «Животного контроля» вылез парень с узкой, задранной вверх красной бородой.
Они с полицейским постояли над раздавленной, у которой из черных сосков еще сочилось молоко, потом краснобородый достал ружье и, светясь в лучах испуганного солнца жесткими волосками своей красной бороды, выстрелил ей в голову. Койотиха тут же притихла. Молоко, брызнувшее из ее сосков, засохло не сразу, а только после того, как убитую увезли на замурованной машине, и кровь, сгустившуюся на асфальте, посыпали песком из ведра.
Итак, мать померла, а щенята остались. Они жили в овраге неподалеку от клуба. Из оврага сильно пахло большими белыми цветами, которые любят болотную почву.
Вечерами в клубе собирались. Из подъехавших машин выходили широкоплечие, очень похожие друг на друга своими счастливыми чистыми лицами молодые мужчины, поддерживая под острые локотки молодых женщин, у которых тоже было нечто общее – худоба, из-за которой колени их казались слишком большими и развернутыми навстречу друг другу, отчего и походка у молодых женщин была одинаковой – ласковой и простодушной.
Они вылезали из машин и шли в старинное здание клуба обедать, а вечером, после их ухода, тучный немолодой человек с руками, заросшими темно-желтым пухом, выносил из кухни остатки мяса, рыбьи головы и куски хлеба. Стоял на краю оврага, вдыхал в себя запах болотных цветов и посвистывал. Щенят было пятеро, и они выжили после материнской смерти благодаря тучному человеку с невозмутимым ирландским лицом, который, вглядываясь в темноту узкими глазами, не торопился домой после работы, а помнил о том, что им нечего есть.
Даша заехала туда случайно – искала дорогу – и увидела всех пятерых, лежащих в траве прямо рядом с парковкой. Они не испугались подъехавшей машины, не бросились прятаться, а, напротив, встали на свои неуверенные тонкие лапы и вытянули некрасивые морды с глубоко запавшими белесыми глазами. То ли у повара закончился контракт в этом клубе, то ли произошло еще какое-то человеческое событие, но только младенцы-койоты, осиротевшие на третьей неделе своего проживания на земле, не научившись ни охотиться, ни убегать, ни даже бояться, остались на верную смерть.
С этого вечера Даша начала заботиться о них сама. Она подъезжала после одиннадцати, когда в клубе гасли золотистые лампы, и пятеро на длинных неуверенных лапах выходили из темноты, слабо виляя хвостами, как будто они были не дикими хищниками, а просто щенками овчарки. Выхватывали друг у друга то, что она бросала им, торопливо заглатывали и с поднятыми, полными ожидания, тоскливыми мордами застывали на месте. И ей было стыдно от них уезжать.
Теперь соседка заявит в «Животный контроль», нагрянет краснобородый, не знающий, что у него, у «контроля», такие же бусины глаз и так же тусклы они, так же белесы, и сам он из волчьей породы, – приедет с ружьем и застрелит их всех, а может, расставит капканы.
Ребятки, простите!
Решение принято, они улетают через неделю. Обратно, домой.
Перед родами, тринадцать лет назад, она ходила к гадалке, большой важной ведьме с малиновой шеей. Ведьма посмотрела на ее живот и улыбнулась маслянисто и ласково. Она была из Армении, говорила по-русски.
– Фирменная вы женщина, – сказала ведьма, особенно мягко и тягуче отлепляя согласные от гласных. – И все в ваших руках, кроме одного.
Колыхаясь большим, обернутым шелковым халатом телом, блестя золотыми, разрезанными до полных и смуглых локтей рукавами, она нелегко поднялась. На кресле остался ее отпечаток. Потом долго пахло поджаренным кофе. Гадалка выплыла из кухни, осторожно, как птенца, держа в сложенных ковшиком ладонях фарфоровую пеструю чашечку, и, вся зашуршав, наклонилась над Дашей.
– Ну, пейте, а я погляжу, что там вышло.
Даша выпила горечь одним глотком. Ведьма столкнула шелковые брови на переносице.
– Твоя правда – здесь, – кивнула на Дашин живот. – Ты не бойся.
– Я замужем, – пробормотала Даша.
– Ребенок не мужа, – сладко усмехнулась гадалка.
– И что теперь будет?
– Что будет? – гадалка понизила голос, как будто выдавая тайну. – У вашего друга весь к вам интерес под трусами. Вот это и будет.
– А как же ребенок?
– Ребенок имеет отца, – со значением напирая на слово «отец», сказала уставшая ведьма.
В середине мая, когда небо было зеленоватым и мелкие листья сквозили на нем с той доверчивой нерешительностью, которая отличает все только-только начавшее жить и дышать, она родила девочку, которую назвали Ниной в честь Юриной матери. Юра был при родах и обеими руками поддерживал запрокинутую голову жены с мокрыми от пота волосами. Она тогда радостно, жадно кричала.
Девочке исполнилось четыре дня. Даша села в машину, поставила на заднее сиденье качалку с младенцем и подъехала к парку, где по дождливому хмурому времени никого не было. Андрей ее ждал. Они вместе вынули девочку из качалки, и он подержал ее в руках, потом осторожно положил обратно. По одному только испуганному взгляду, который он бросил на это очень маленькое красное лицо новорожденной, можно было угадать то, чего он не произнес. И никогда бы не посмел произнести. Не только тогда. Боялся спугнуть, оскорбить. И не верил.
Она знала, что он не верил. Знала, что у него есть основания не верить. И знала, что Нина – его ребенок. Но если бы он вдруг поверил, если бы не вспыхнул в его глазах испуг при виде этого маленького, красного четырехдневного личика, то это был бы не он. Да, это был бы совсем другой человек, и жизнь с этим человеком была бы другой, и не Юра поддерживал бы ее запрокинутую голову с мокрыми от пота волосами.
И нечего было бы к ведьме бежать, глотать эту горечь.
С тех пор утекло очень много всего: обид, недомолвок, взаимных упреков. Даша оставляла в холодильнике бутылочки со сцеженным молоком, ускользала на свидания, теперь раздраженные и торопливые, потом возвращалась домой, где Нина ползала по манежу, а нянька, седая бакинка Джульетта с небольшими колкими усиками, встречала ее своим басом:
«А, ма-мач-ка наша явилась!»
И всматривалась в нее наивными воловьими глазами.
Чем больше времени проходило с того дня, когда они вместе, в четыре руки, вынули из качалки новорожденную девочку, тем старательнее становились их взаимные усилия сделать вид, что эта вот жизнь есть нормальная жизнь и важно одно: чтобы все было тихо.
И было не то чтобы тихо, но сносно. Нина вскоре начала бегать по всему дому, и неповоротливая Джульетта, слизывая капельки пота со своих усиков, ловила ее растопыренными руками. Ребенок рос русым, кудрявым и толстым. Она не была похожа ни на кого, может быть, только отдаленно, изредка на Дашину тетку, хотя Юра и уверял, что если сравнить его детские изображения с тем, какая она теперь, то сходство буквально пугает.
Но Юра, ослепший от нежности,так это видел. Она с ним не спорила.
То, что происходило у Андрея, в его хоромах, где дочки-близняшки давно уже играли на фортепиано и ходили в частную школу, поскольку в простую ходить не престижно, – в его неуютных хоромах, где было много искусственных деревьев и, развешанные по стенам, пестрели чужие старинные шляпы, – в его этих пышных хоромах тогда началось что-то вроде удушья. Как будто ночами входил неизвестный с лицом осповатым, безглазым, унылым, высасывал весь кислород из жилища.
А утром все было нормально. Вставали с постелей, бежали под душ. Отец целовал сонных дочек, жена заворачивала мужу завтрак. Звонил телефон. Птицы пели на ветках. Шла жизнь, трепетала от собственной ловкости.
Нине исполнилось десять лет, когда Юра получил приглашение на работу в Миннеаполисе. Даша ощущала разлуку с Андреем внутри себя так, как будто под сердцем все время стояла морская волна. Ночами она обрушивалась на жизнь и сметала ее. Потом поднималась, опять застывала.
В четверг, тридцатого августа, убийственно жарким, пылающим днем, когда по океанской синеве мелькали красные плавники рыб и все ярко-белое в мире казалось намного белее, от чаек и до парусов, в этот день самолет из Миннеаполиса, совершивший посадку с опозданием на четыре минуты, распахнул свою полукруглую дверцу, и стюардесса с вежливой улыбкой усталости стала по одному прощаться с покидавшими салон пассажирами.
2 сентябряДаша Симонова – Вере Ольшанской– Начала новую повесть. Как тебе название: «Любовь фрау Клейст»?
2 сентябряВера Ольшанская – Даше Симоновой
– Звучит, как перевод с немецкого. Почему фрау, а не миссис? Я, кстати, звонила тебе вчера, разговаривала с Ниной. Она передала?
3 сентябряДаша Симонова – Вере Ольшанской
– Нина никогда не передает. Я язык облупила. Но если действие происходит в Германии, какая же «миссис»?
Любовь фрау Клейст
Выйдя из дому, фрау Клейст почувствовала, как что-то сдавило вдруг слева и тут же подпрыгнуло, глухо и быстро, как будто резиновый шарик. Она свернула в сквер и остановилась внутри его прохлады, пахнущей цветами после недавнего дождя. В сквере никого не было, кроме молодого человека, заснувшего на скамейке у самого входа. Он мог быть и пьян. Фрау Клейст равнодушно проглотила голубыми глазами его свернувшуюся улиткой фигурку. Слева, в груди, продолжалось глуховатое подпрыгивание, и, вынув из перчатки свою очень худую руку, она изо всех сил надавила на него. Деревья и трава от этого немного порозовели, словно в стакан с водой стряхнули каплю красной акварели.
Последние тридцать шесть лет были очень спокойными. Вставала не рано, гуляла, читала. Потом занималась делами: работа по дому, работа по саду. Потом начинались фантазии памяти. Садилась к окну, вспоминала, смеялась. Сжимала виски сухими, словно бы припудренными, пальцами. Изредка встречалась с подругами. Подруг было мало до крайности.
В четверг, первого августа, ей подвернулась воскресная, уже устаревшая газета, которую полагалось выбросить. Она развернула ее машинально. Пробежала глазами несколько строчек. Наткнулась на это объявление:
Семейная пара Алексей и Полина со своими детьми: Андреем (9 лет) и Александром (6 лет) снимет (можно этаж небольшого дома) неподалеку от трамвайной линии. Звонить по телефонам: 577-11-42 ( Полина) и 577-77-77 (Алексей).
Фрау Клейст удивленно посчитала семерки.
И тут, будто бы к паутине в чулане кто-то вдруг поднес разгоревшийся факел, чулан засверкал, стало весело, страшно.
Фрау Клейст, не откладывая, позвонила по указанному телефону, услышала негромкий мужской голос, который она ожидала услышать, сказала, что квартира неподалеку от трамвайной линии сдается недорого, и договорилась на встречу в субботу. А в ночь на субботу шел дождь, так что стало прохладно.
Да, стало очень прохладно, и можно надеть бледно-персиковую шелковую блузку с длинными рукавами. А к ней материнский лоснящийся жемчуг. Лицо фрау Клейст отразилось в зеркале и побагровело от натуги, пока она, вся изогнувшись, застегивала бусы.
После этого она спокойно села у окна, и, если бы кто-нибудь увидел ее сейчас, неподвижную, словно нарисованную вместе с полосатой спинкой кресла, никто бы не заподозрил, что в душе фрау Клейст постепенно разгорается та полузатоптанная буря, которая все эти тридцать шесть лет просуществовала внутри ее, как океан, замерзший с поднятыми и вздувшимися волнами.
Но, как океан, замерзший с поднятыми волнами, рождается только человеческим воображением, так и буря внутри фрау Клейст была рождена страстным голосом памяти, ничуть не мешая налаженной жизни.
Тусклое обьявление в газете вызвало взрыв, электрический шок, от которого фрау Клейст, старуха с голубыми глазами и очень сухими, подвижными пальцами, вдруг стала похожа на девочку.
Не внешне, конечно. Внешне она продолжала быть старухой с сухими пальцами. И девочка, запечатленная на фоне голубоватого вестфальского пейзажа, нарядно одетая, смирная, с черной бархоткой на шее, должна бы была удивиться при виде чужой светлоглазой старухи.
Шепелявый фотограф, который шестьдесят пять лет назад и так и эдак усаживал нарядную девочку, откидывал назад ее локоны, поправлял черную бархотку на нежной ее, детской шее, возился особенно долго. Готовил сюрприз дяде Томасу в день его сорокалетия.
Грета Вебер, ставшая впоследствии фрау Клейст, запомнила этот день так отчетливо, как дети запоминают свои страшные сны, и тень их ложится потом на всю жизнь.
Сначала она в узеньких, светло-красных башмаках, счастливая, бежала по лестнице, делая вид, что стремится удрать от настигавших ее кузена Фридриха и его друга Антуана, молчаливого, с сильно оттопыренными, горящими от волнения ушами.
Приблизившись к зеркалу в конце коридора и опрокинув на него свои растрепанные волосы, Грета наконец громко, на весь дядин дом, засмеялась, но тут же притихла. Она посмотрела на Фридриха и Антуана, ответивших ей влюбленными, бессмысленными взглядами, закусила губу и, покачав головой, медленно, как во сне, вернулась в столовую. Гостей уже не было, мать и дядя пили чай.
– Не дай бог, скучаешь?
И мать, с розоватым румянцем, чуть-чуть розовее, чем жемчуг на шее, светло улыбнулась:
– Никто не обидел?
– Никто не обидел, – пытаясь проглотить страх, который, как рыхлый, разваренный гриб, застрял в горле, ответила Грета.
– Тогда в чем же дело?
– Какое? Ни в чем.
Но оттого, что мать оставалась спокойной и продолжала закругленным серебряным ножиком чистить скользящую грушу, Грета сказала ей, немного повысив голос:
– А я ведь умру.
Мать опустила грушу на тарелку и вскинула на Грету вопрошающие глаза:
– Ты что? Что ты мелешь?
– Но мы все умрем.
– Не смей! – негромко вскрикнула мать, и тонкая шея ее стала пестрой, как счищенная кожура. – Что значит – умру? Ты ребенок!
Ночью Грета не могла заснуть, но желание перебежать в материнскую спальню и нырнуть в большую родительскую кровать, где мать спала одна, потому что отец уже второй месяц был в туберкулезном санатории, наталкивалось на то, что мама умрет, как и все остальные.
Она вылезла из-под одеяла, подошла к окну. По саду скользили бесшумные тени, без лиц и без тел, просто тени. Она никого не боялась. До одури пахла ночная фиалка. Качели, на которых они с Антуаном еще только утром взлетали под небо, легонько скрипели от ветра. Все было знакомым, все было счастливым. Когда бы не смерть! Когда бы не то, что умрет даже мама! Грета с размаху бросалась на подушку, закапывалась под нее. Тогда соловей замолкал почти сразу.
«Зачем я думаю об этом?»
Она отбрасывала подушку и следила, как серый, похожий на лошадиную голову, к окну подплывает туман.
– Никто ведь об этом не помнит! Никто. Только я. Что же делать?
Под утро она задремала и проснулась оттого, что нежная и суховатая материнская рука погладила ее по плечу.
– Горела всю ночь, – сказала мать, дотрагиваясь до ее лба рассеянными губами. – Простыла, наверное.
И оттого, что губы ее были спокойны, а глаза, наполненные серым блеском, смотрели прямо, Грета догадалась, что мать и не помнит, и помнить не хочет, и в голову ей не пришло испугаться.
Со дня рождения дяди Томаса прошло много лет.
Грета Вебер успела привыкнуть к тому, что в самый неподходящий момент, например, у портнихи во время примерки, когда в трехстворчатом зеркале отражалось ее полуголое тело, с которого свисала ткань, и портниха ползала вокруг него по полу, быстро говоря что-то сквозь булавки, которые ловко сжимала во рту, в этот уютный момент вдруг меркло блестящее зеркало, ее полуголое тело в античных наплывах грядущего платья казалось обугленным деревом, и голос портнихи, смеющейся нежно сквозь искры булавок, совсем пропадал.
Она постепенно успела привыкнуть к тому, как темнеет, как меркнет, и кровь бросается в голову, и начинает шуметь в ушах, и страх этот, который она впервые испытала на дне рождения дяди Томаса, – он вот он, он здесь, он вернулся.
Она научилась управлять своим лицом и если вдруг огненно краснела, то делала вид, как будто кольнуло в боку, или внезапно заболел зуб, или подвернулся каблук, она научилась не прерывать беседы, и только иногда, когда страх становился слишком сильным и ноги ее отнимались, а руки слипались от пота, – тогда она с неловкой полуулыбкой шептала, что ей пора принять таблетку, поскольку сосуды… да, спазмы сосудов. Наследство от мамы.
Внимательный психоаналитик с обесцвеченными до ангельской белизны, проволочно-густыми, кудрявыми волосами, в которые он без усилия вставлял маленький карандашик на случай важнейшей пометки в блокноте, определил тяжелый невроз и провел с Гретой Вебер десять долгих и наскучивших ей часов, пытаясь освободить ее от этого невроза. Но он, в конце концов, опустил руки, потому что Грета не поддавалась никакой форме внушения, не плакала, вспоминая о детстве, но чаще всего отводила глаза и даже, подчас, улыбалась спокойно.
К тому времени, как появился психоаналитик, она и сама знала средство, которое ей помогало.
* * *В Провиденсе оказалось еще жарче, чем в Миннеаполисе, поэтому, несмотря на то что наступил вечер, во всех университетских кабинетах шумно гудели вентиляторы.
В жилах профессора Адриана Трубецкого текла голубая кровь, и он позволял себе множество странностей. Вентилятора в его кабинете не было, поскольку он сам, человек очень шумный, шумов не любил. Зато было настежь открыто окно, и мелкие птички орали нещадно. Но птички ему не мешали.
Весь влажный от пота, малиново-красный Трубецкой с мокрыми, прилипшими к толстому лбу прядками был рад видеть Дашу. Она дополняла коллекцию кафедры. В коллекции были одни аспирантки. Единственный юноша, хрупкий японец, сын очень большой русской мамы Людмилы, однажды поехал в Москву и женился. Тоже на Людмиле и внучке Титова. А может, Гагарина. Или не внучке. Короче: пока из Москвы не вернулся.
На кафедре правили женщины. Графиня Скарлетти, ведущая свое русское происхождение так же, как и Трубецкой, с времен незапамятных, темных, боярских и ставшая графиней всего лишь лет двадцать назад, когда судьба столкнула ее на выставке кактусов с графом Скарлетти, любила Айтматова больше Толстого. Ее диссертация, посвященная повести Айтматова «Тополек мой в красной косынке» («Topolek my in red kosynkа») сочилась любовью, как яблоко соком.
Не менее преданно относилась к своему предмету и заведующая кафедрой Патрис Гамильтон, кудрявая, легко и мучительно вспыхивающая от застенчивости, отдавшая целую жизнь на то, чтобы прочесть Рыльские Глаголические Листки, три нежных обрывка пергамента, оставшихся от старославянской книги церковно-литургического назначения одиннадцатого века.
– А я волновался, что вы не придете, – торопливо сказал Трубецкой, тяжело поднимаясь навстречу Даше. – Быстрее бежим, а то не успеем.
Глаза его расширились восторгом. Спустились со второго этажа, вышли на ступеньки. На улице парило. Трубецкой расстегнул верхние пуговицы белой рубашки, слегка обнажив богатырскую грудь, задрал к небу голову. Луна была в небе, сияла, горела.
– Сейчас вот затмится, – сказал Трубецкой и шумно, ноздрями, вдохнул в себя лунного блеска. – «Река времен в своем стремленье уносит все дела людей…» Уносит, моя дорогая! А мы забываем об этом! А мы суетимся! Плевать мне, кто будет у нас президентом! Какой президент, когда пропасть забвения!
Даша засмеялась.
– Не думайте вы о своих неприятностях. – Он вдруг покосился на нее промасленным взглядом. – Забудьте, наплюйте.
Она не нашлась, что ответить.
– Уносит все дела людей… А если что и остается… Каков был поэт? «А если что и остается под звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется! И общей не уйдет судьбы»! Вот именно! Общей! – Он перевел дыхание. – Хотите писать – и пишите. А муж ваш, любовник… Эх-ма! Надорветесь!
– Какой там любовник? – ужаснулась Даша
– Откуда я знаю? Пожрется, учтите!
– Да что вы, ей-богу!
Трубецкой обреченно развел толстыми руками:
– Рыбак рыбака… Я показывал снимок?
Он расстегнул стоящий на ступеньке потрепанный до бархатистой белизны кожаный портфель, долго пыхтел, шуршал бумажками и наконец поднес к самым глазам ее небольшую фотографию.
Мальчик идет по аллее. Худой, рыжеволосый мальчик в шапке. По виду – лет восемь. Вокруг везде снег, снег. Зима. Мраморная богиня с острым снежным горбом на спине. Косые глаза, отбитый локоть. Женщина протягивает ладонь к колену богини. Платок ее темен, и видно, какой он тяжелый от снега. Придет домой, повесит платок на батарею, в комнате запахнет свалявшейся шерстью. Вязали в Рязани, купила на рынке. Ребенок – птенец. Его нужно укутать. Пожрется, как все!
Трубецкой тяжело дышал над Дашиным затылком.
– Алеша. Мой сын. Алексей Адрианыч.
В низком голосе Трубецкого задрожали слезы.
– Здесь Петра. – Он достал носовой платок и с яростью высморкался. – Она вся в заботах. Прасковье – шестнадцать, Сашоне – тринадцать. А знаете, как начинается жизнь?
– Какая?
– Моя, например, вот какая. Иду я по Невскому. Первый раз в Питере. Я вам говорил, что мои из Тамбова? Дед с бабкой уехали в двадцать четвертом. А мать родилась в двадцать пятом в Париже. И Питер в моем эмигрантском сознании всегда был… Ну, что? Ну, венец мироздания. Иду. Здесь как в печке. – Трубецкой отрывисто шлепнул ладонью по груди. – Волнуюсь. Смотрю: кафетерий. На улице. Сел. Сижу, наблюдаю, ем бублик с изюмом.
– Булочку, – поправила Даша.
– Неважно. Ем булку. Вокруг Петербург. Я волнуюсь. Ужасно. Я часто волнуюсь. Встаю, ухожу. Вдруг кто-то меня догоняет: «Мужчина! Вы сумку забыли!» И я весь проснулся. И так началась моя жизнь. Vita nova.
– А Петра?
– Что – Петра? Супруга. Детей родила мне. Вернулся от Таты. Там Алечка плачет. Он любит поплакать, похож на меня, я ведь страстно люблю. Ложусь рядом с Петрой, мы все обсуждаем: Прасковью, Сашону. Заботы, расходы. Прасковья влюбилась, а парень с Гаити. И ладно бы: негр! Сам Пушкин был негром! Но остров, Гаити! Что делать? Лежим, обсуждаем. И вдруг – как иглой мне: «Там Алечка плачет!»
Трубецкой опять шумно высморкался. Лицо его стало темнее и шире.
– Смотрите! – Он показал на небо.
От яркой одутловатой луны осталась одна прозрачная, белая долька, которую торопливо затягивало черным.
– Пожрется! Пожрется! – с восторгом ужаса забормотал Трубецкой, беря Дашу под руку, как будто желая сбежать вместе с нею. – Пожрется жерлом! И никто не избегнет!
9 сентябряВера Ольшанская – Даше Симоновой
Трудно с мамой. Стараюсь вести себя так, чтобы ей не к чему было придраться. И все-таки часто срываюсь. Вчера безобразно поссорились. Я хотела уйти, спешила, а мама хотела, чтобы я ее дослушала. Встала в дверях и пилит, и пилит, и пилит… И все одно и то же! Если бы хоть что-нибудь новенькое! Я ее слегка отодвинула, но как-то так вышло, что она неловко оступилась и упала. Прямо на журнальный столик рядом с зеркалом. Зеркало разбилось, весь пол в осколках. Хватаю ее, поднимаю, плачу, кричу, а она мне:
– А, ты меня бьешь? Я повешусь!
Господи! Провалиться сквозь землю, и то будет мало! Она оттолкнула меня, поднялась. Глаза сумасшедшие, руки трясутся.
Приходит Гриша. Увидел нас с мамой и сделал такое лицо, будто ему выдрали все зубы.
– Ну, что тут на сей раз?
– Григорий! Она меня бьет! Я повешусь.
– Да кто тебя бьет?
Видела бы ты этот взгляд , которым он меня смерил! Сказать «презрительный» – это все равно что ничего не сказать.
– А ты последи за собой, дорогая. А то ведь опять будешь каяться.
Это он напоминает мне бабушкину смерть. Жестоко. Он знает, как я этим мучаюсь.
Ее смерть целиком на моей совести, Даша. Я знаю, отчего умирают старики. Они умирают оттого, что близкие устают от них и тайно желают им смерти. И я через это прошла.
Бабушка окончательно слегла осенью восемьдесят пятого. У меня был плеврит, я все время болела. В выезде нам отказали. Гриша носился по урокам, деньги кончились. Оставить ее одну в запущенной квартире было невозможно, мы перевезли ее к себе. У нее были такие распухшие ноги, что, для того чтобы доволочь ее от подъезда до машины, пришлось разрезать Гришины огромные дутые сапоги.