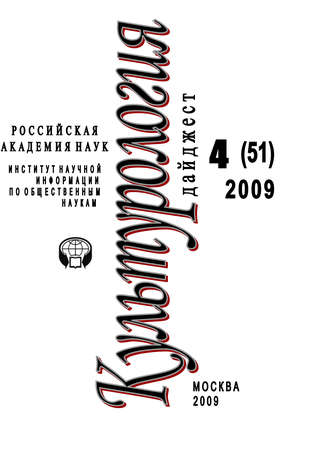
Ирина Галинская
Культурология: Дайджест №4 / 2009
Теория культуры
Дадаизм и постмодернизм 1
Исходя из того что дадаизм является одним из проявлений европейского (и отчасти американского) авангардизма, который, в свою очередь, есть субпарадигма более широкого понятия, получившего в разных областях знания обозначения «модерн», «модернизм», «модерность», теория дадаизма должна по необходимости вписываться в теорию авангардизма и модернизма, а постмодернизм – если не вытекать из того, что ему предшествовало, то, по крайней мере, напрямую соотноситься с ним.
Пытаясь выяснить менее спорные признаки, отделяющие постмодернизм и дадаизм от других авангардистских течений и движений, важно не упустить из виду связь этих течений с общим движением европейской и мировой культуры. В последнее время множатся попытки соотнести перманентный процесс модернизации, берущий свое начало в эпохе Просвещения, с понятием иконоборчества, которое до последнего времени воспринимали и исследовали только в связи с религиозными войнами XVI–XVII вв. Но на рубеже XX–XXI вв., когда связь модерна и авангарда с процессом секуляризации стала очевидной, появилась тенденция вписывать разновидности модернизации в материальной и духовной сферах в более широкий иконоборческий контекст. Фундаментализм и модерн, понимаемые в широком культурологическом плане как сохранение устоев (канонов, кумиров), с одной стороны, и их разрушение во имя обновления, непрекращающейся модернизации – с другой, всегда шли и будут идти рука об руку.
Любая культура – конструкт истории, и как таковая она носит институциональный характер. Авангардизм, начиная с рубежа XIX–XX вв., сознательно и целеустремленно разрушает эту институциональность, причем дадаизм яростнее и безогляднее других авангардистских течений взрывает рамки традиционной европейской культуры, пытаясь выйти за ее пределы, к горизонтам универсального мирового искусства, и тем самым вплотную соприкасается с традицией иконоборчества. Дадаизм, как самое радикальное движение внутри европейского авангардизма, подвергает критике уже не предыдущие художественные направления, а сам институт искусства, сложившийся в буржуазном обществе. Дадаистская критика своим острием нацелена как на тогдашнюю художественно-эстетическую практику, так и на ее традиционное социокультурное обоснование. Дадаизм подвел искусство к нулевой точке, чтобы обновить его и в то же время поставить под сомнение само его существование, лишить эстетической определенности и онтологической устойчивости. В глазах дадаистов то, что традиционно воспринималось как искусство, лишалось права на существование. Креативными моментами дадаизм объявлял фрагментарность, пародийность, установку на ироническое и саркастическое, «снятие» признаков и принципов миметического искусства. Взамен разрушаемой миметической иконографии возникла иконография нефигуративная, абстрактная. Именно она составила ядро авангардизма в живописи – авангардизма, доходившего до прямого запрета на образность.
Иконоборчество напрямую связано с эстетической категорией чужести. Постоянное столкновение с незнакомым, чужим – примета искусства ХХ в., и в особенности эстетики авангардизма, модернизма и постмодернизма. Выставки и манифестации импрессионистов, кубистов, футуристов поражали публику небывалой для того времени новизной. Столкновение с чужим в искусстве приобрело характер шока, который стали вызывать формальные эксперименты радикальных авангардистов, в том числе и отказ дадаистов придавать своим произведениям смысл. Шок вызывался сознательно – в надежде, что потребитель нового искусства усомнится не в таланте авторов, а в собственной способности воспринимать современное искусство. Шок задумывался как стимул «иного» отношения реципиента к искусству, как средство разрушения эстетической имманентности и подведения реципиента к мысли об изменении жизненной практики. Авангардистское искусство, включая его экстремальные проявления, способствовало формированию нового типа восприятия, когда основное внимание уделяется не «смыслу» или «содержанию», а принципу конструктивности, сделанности. Способность поразить воображение, заставить задуматься над увиденным, прочитанным или услышанным, соотнести с собственным жизненным опытом есть качество, имманентно присущее искусству вообще. Но только с деформацией и деструкцией миметической образности эстетическая категория чужести начинает вытеснять из искусства категорию прекрасного. Модерн делает ставку на категорию возвышенного, т.е. непостижимого, утонченного, сублимированного. Собственно этим непостижимым («вещью в себе») и питаются философия модерна и искусство модернизма вкупе с авангардизмом, а затем и постмодернизмом.
Одной из центральных системообразующих концепций авангардистской культуры в целом, и в особенности дадаизма, является эстетический анархизм, подразумевающий ничем не ограниченную свободу творца, желание художника заново творить мир в искусстве. Дадаизм насквозь пропитан эстетической анархией, его основополагающие принципы – эклектизм, дилетантизм, детскость, примитивизм, принцип случайного, фрагментарность, разрушение формы и застывших понятий и т.д. Принцип «все сгодится» – центральная тема анархистской теории познания и один из важнейших теоретических постулатов дадаизма. Отсутствие единого смыслового центра, многообразие и плюрализм вплоть до «всеядности» выражали собой нежелание подчиняться какой бы то ни было объединительной концепции.
Фрагментарность, децентрированность, плюралистичность, эклектичность – все это прослеживается и в постмодернизме. Разница лишь в том, что в дадаизме это была экспрессивная реакция на классическое искусство, а в постмодернизме – на исчерпанность эстетических новаций модернизма. Пародия, ирония, соединение кричаще несоединимого, перенос акцента с произведения на процесс творчества и др. в 1980-х годах перестали удивлять, производить впечатление чужести, инаковости. И тогда сторонники перманентной модернизации перешли к откровенному продуцированию искусства из искусства, литературы из литературы. Ничего – от жизни, все – от искусства прежних эпох, но с использованием все более утонченных приемов изменения формы и повторения заимствованного. Поздний постмодернизм (включая концептуализм) не чурается прибегать к приемам классицизма, натурализма, реализма, соцарта, гальванизирует такие жанры, как трагедия, бульварная комедия и т.п. Обращение к отслужившим свое жанрам понадобилось, видимо, для облегчения восприятия экспериментального искусства на новом этапе, когда стало ясно, что для усвоения пасти-шей (от фр. «pastiche» – пародия; в постмодернизме отличается от пародии отсутствием серьезного объекта осмеяния. – Реф.) поздних постмодернистов нужна еще большая подготовленность публики, чем в случае с произведениями модернизма. В погоне классического модернизма и авангардизма за новыми, непривычными и необычными формами выражения постмодернизм усматривает некий фетиш ложно понимаемой идеи прогресса. Как в свое время дадаисты исходили из понятия хаоса, анархического беспорядка, случая, так и постмодернисты отдают предпочтение всему, что не тяготеет к несуществующим, по их мнению, средоточию, симметрии и каузальности. И дадаисты, и постмодернисты, в отличие от приверженцев классического модернизма, не жалуются на утраченное единство, не мечтают о возвращении к гармонической целокупности бытия. Для их позиции существен момент открытости навстречу неведомому и неизбежному будущему.
Все эти точки соприкосновения дают основание говорить о том, что дадаизм как наиболее радикальная форма авангардизма входит составной частью в «проект постмодернизма», сохраняя, однако, более тесную, чем постмодернизм, связь с эстетикой модернизма.
Т.А. Фетисова
Экспрессионизм как феномен новейшего времени2
Под термином «экспрессионизм» в историю культуры вошло одно из наиболее значительных художественных явлений, обозначивших перелом в развитии мирового искусства на рубеже XIX–XX вв. История экспрессионизма во многом не похожа на историю других направлений в искусстве начала ХХ в. В отличие от многих художественных школ, которые обычно объединяются под понятием «авангард», он начинался не с манифестов и деклараций, не из одного центра, а спонтанно и в разных местах. Манифесты и декларации появились позднее, причем они значительно отличались друг от друга и далеко не всегда совпадали по своим устремлениям ни между собой, ни с реальным художественным творчеством. В экспрессионизме не было программной заданности, теоретическая мысль и организационные лозунги скорее догоняли движение, чем направляли его.
Что же касается термина «expression», восходящего к латинскому «expressio» и означающего – выражение, высказывание, сообщение и т.д., то он был взят на вооружение как критиками, так и самими художниками, чтобы обратить внимание на подчеркнуто заявленную в произведении личную позицию создателя, особую субъективность взгляда и трактовки, что свидетельствовало о возрастании роли субъективного фактора в художественном творчестве как определенной тенденции, давшей о себе знать в европейской культуре на рубеже XIX–XX вв.
Главной направляющей и объединяющей силой движения было острое неприятие ценностей буржуазной жизни и позитивистского «буржуазного» мышления, а в искусстве – неудовлетворенность пассивным поверхностным изображением видимого мира и человека в нем, желанием «дойти до корня вещей». Экспрессионизм принес с собой резко выраженные приемы и средства воплощения этого умонастроения. Ему удалось развить свою собственную художественную систему, исходящую из идеи прямого «ударного» воздействия на реципиента: подчеркнутую субъективность творческого акта, абстрагированную, плакатную обобщенность внешних и внутренних характеристик, лишенных индивидуальной детализации, упрощенность интонации, мелодии, контура и жеста. Он разработал изобразительные средства, рассчитанные на «эпатирование буржуа», повсеместно разрушавшие сложившиеся к началу века каноны. При этом на протяжении всего ХХ в. в экспрессионизме прослеживается преобладание выразительности над изобразительностью. Это проявляется и в неуклонно прокладывающей себе путь смене приоритетов разного вида искусств (повышение роли музыки и относительное снижение роли литературы при возрастающем внимании к живописи и театральным зрелищам), и в динамике жанровой структуры (растущее предпочтение мобильных художественных форм – лирического стихотворения и песни за счет поэмы, рассказа за счет романа), и в возникновении и широчайшем распространении новых художественных форм, вызванных к жизни исторически новыми массовыми средствами видео- и аудиокоммуникации (радио, кино и телевидения), и прежде всего в практически повсеместном возрастании значения субъективного фактора в художественном творчестве. Экспрессионизм был самой ранней манифестацией резкого усиления выразительности искусства как одной из основных характеристик художественного процесса ХХ в.
Однако как целое явление экспрессионизм можно понять, если исходить не из его формальных признаков, а из присущей ему внутренней устремленности к прорыву в новые сферы жизни, к изменению мира, к абсолютным нравственным ценностям. Прослеживается тесная причинная связь между экспрессионизмом и масштабами жизненных трагедий, переживаемых человечеством. Среди всех художественных направлений начала ХХ в. экспрессионизм по своей внутренней сущности наиболее трагичен, ибо, сохраняя связь с реальной жизнью, в том числе и с ее общественными проявлениями, публичной политикой, и в то же время оставаясь верным жизненным ценностям и нравственным законам, он всегда направлен на утверждение идеала, на недостижимый абсолют. Компромиссов он не знает. Мироощущение экспрессионизма в этом смысле отличается от эйфорического пафоса итальянского футуризма и его антигуманной брутальности, от всеотрицающего смеха дадаизма, интеллектуальной игры в свободолюбие сюрреализма, тупиковой безысходности экзистенциализма. Экспрессионизм в основе своей – та же социальная критика, редко доходящая до критики человеческой натуры как таковой, но взятая не в лобовом разрезе и бытовом правдоподобии, что приводило к созданию системы образных средств, полной человеческого горя, безысходности и реального трагизма, а «сдвинутая» со своей реальной оси в сторону условности восприятия и художественных средств выражения.
Т.А. Фетисова
Ирония и эрос. Поэтика образного поля3
Инна Осиновская
Одной из важнейших проблем философии была и остается проблема метода. Выбор подхода к изучению предмета, в первую очередь, обусловлен для исследователя самим представлением о том, что есть этот предмет: исторический ли «персонаж», метафизическая ли сущность или что-либо другое. Например, ирония и эрос, представляющие основной интерес данной работы, могут рассматриваться как с точки зрения истории, так и с точки зрения метафизики, культурологии, психологии, риторики, философии языка. Автор данной работы, пытаясь обнаружить еще один способ функционирования предмета, рассматривает его в свете поэтики – как систему образов.
Этот подход коренится, в частности, в представлении Р. Барта и Ю. Кристевой об интертекстуальности и в бахтинском понимании диалогичности текстов. Истоки такого подхода также можно найти в бодрийяровском представлении о «симулякрах» как о знаках, за которыми стоит референт, как об означающих, за которыми нельзя закрепить определенные денотаты. Кроме того, важным свойством симулякра является отсутствие историчности. Феномен (ирония, эрос) берется в работе как «симулякр», как имя без значения и истории.
Автор книги исходит из того, что наряду со специфической теоретической моделью мира, существующей в каждую эпоху, имеется некое образное поле, инвариантное любой теоретической модели и являющееся жизнемировой основой, описываемой в своих априорных структурах через поэтику. Исследование посвящено анализу этого поля через его феномены – иронию и эрос. Под образным полем понимается не смысловое, не концептуальное, а специфическое пространство, открывающееся через поэтику, что позволяет называть его поэтическим пространством. Через посредство методологии образного поля автор дает новую интерпретацию иронии и эроса.
С позиций концепции образного поля определяется отношение автора к сложившейся методологии исторической поэтики, с одной стороны, и к методу аисторизма, характерному для структурализма, с другой. В решении этой проблемы автор выбирает «средний путь», позволяющий избежать методологических крайностей.
К выявлению образного поля и к рассмотрению феноменов в качестве поэтических систем близко подошел Г. Башляр. Для него поэтика представляла именно систему образов, живущих в человеческом воображении. Используя тексты как хранилища этих образов, он применил метод поэтики к исследованию инертного мира. Ссылаясь на исследования Ю.М. Лотмана, автор отмечает тот факт, что в рамках человеческого бытия существуют определенные изначально-базисные отношения, которые можно исследовать в качестве инвариантов. Речь идет о таких реалиях бытия, как «дом», «дорога», «огонь», реалиях, пронизывающих «всю толщу человеческой культуры» и приобретающих «целые комплексы связей в каждом эпохальном пласте». Их можно исследовать в качестве инвариантов, отмечает Лотман, но сразу же оговаривается, что ему важна и интересна индивидуальность темы, ее укорененность в «ясно очерченной исторической эпохе», культурной парадигме, национальной специфике.
Другой важный момент – это общность алгоритмов поведения в совершенно различных сферах человеческого бытия. Достаточно вспомнить Э. Финка, известного своими изысканиями в области игры в западной культуре. Он обнаруживает схожесть образного пространства игры с образным и смысловым пространством «основных феноменов человеческого бытия», среди которых смерть, труд, власть и любовь.
Аналогичные моменты проявляются в содержании иронии и эроса. Автор считает особо значимой формой современного отношения к действительности именно иронию в силу разорванности и маскарадности постмодернистского восприятия мира. Проблема иронии, вызывающая к себе неизменный интерес на протяжении последних двух столетий, приобрела в наше время новое звучание благодаря тому особому месту, которое она занимает в философии, литературе и искусстве постмодерна. Метод, с помощью которого автору удается открыть и описать этот инвариант, можно было бы – с некоторой долей условности – назвать феноменологическим: исследователь не подходит к изучаемым текстам с заранее заготовленным ключом, а открывает этот ключ при изучении текста, позволяя поэтике иронии свободно явить себя, не придавая при этом существенного значения вопросу о том, какому автору принадлежит этот текст и какая эпоха – и почему – выражает себя в нем.
Опираясь на восходящее к М. Бахтину и Р. Барту понятие «интертекстуальности», близкое по своему смыслу идее Ж. Деррида об «универсуме» текстов, каждый из которых отсылает к множеству других, автор книги стремится систематизировать, свести к некоторой целостности смысла пестрое многообразие значений понятия «ироническоие». Предпринимая поиск текстуального и контекстуального единства понятия иронии, автор стремится как бы заново увидеть этот феномен, тем самым – насколько возможно – освободившись от тех заранее тяготеющих над исследователем схем и представлений, которые подчас закрывают от нас подлинную реальность.
Выявленные в текстах и детально описанные автором характеристики иронии составляют действительно некую постепенно все явственнее прорисовывающуюся единую картину: ироническое умолчание и связь иронии с тайной; ироническое бездействие, загипнотизированность множеством возможностей и нежеланием поступиться этим мнимым богатством и «выбрать себя»; ироническая свобода и имморализм, имеющие характер игры с присущей ей амбивалентностью, игры, перерастающей в маскарад, в опьянение и карнавал, где все кажется не таким, как есть на самом деле, и где ирония предстает как «всегда другой» – «другой» по определению. От одной характеристики к другой напряжение мысли нарастает, феномен иронии становится все более богатым и объемным. В разделах, посвященных теме иронического странничества и демонизма иронии, вскрываются наиболее глубинные, метафизические пласты «иронического», которые позволяют проникнуть в самое ядро этого культурного феномена и полнее осмыслить жизнь человеческого сознания.
В свете сказанного ирония оказывается структурой, сложенной из таких смысловых реалий, как маскарадность, умолчание, игра, имморализм, таинственность, болезнь, опьянение, смерть, божественность, демоничность, амбивалентность, странничество и т.д.
«Самое важное открытие, которое мы здесь находим, – пишет в послесловии к книге Л.В. Скворцов, – это выявление того парадоксального факта, что образы и характеристики, которые сопутствовали иронии, сопутствуют также и эросу» (с. 118). Это подтверждает совпадение поэтик иронии и эроса, т.е. единство их образного поля как поэтического пространства, реализующегося через тексты. Автор подводит нас к выводу о наличии и смысловой связи между этими феноменами или «концептами».
Собрав и проанализировав тексты, посвященные иронии и эросу от Античности до наших дней, автор делает акцент на внеисторической и интертекстуальной схожести образов, описывающих эти феномены. Тем самым был заявлен принципиально новый взгляд на исследуемый предмет, оказавшийся не субъектом истории или мировоззренческого пространства того или иного автора, а «субъектом поля поэтических образов, проходящих сквозь различные эпохи и разнообразные тексты» (с. 154).
И.Л. Галинская







