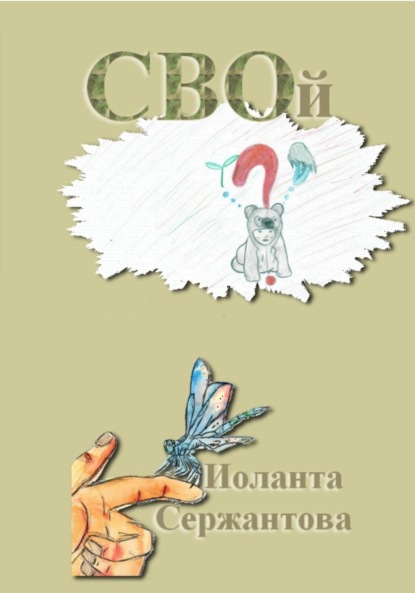Полная версия
Полная версия- Рейтинг Литрес:5
Полная версия:
Иоланта Ариковна Сержантова По воле ветра
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Бабочки и жуки
Яркий бесцветный день. На пруду не успевают менять простыни. Стопка тонкого постельного убывает на глазах, дно всё ближе. Рыбам жарко, а кувшинкам, – тем тесно. Не удерживая в тонких руках стеблей тяжёлых подносов листьев, роняют их. Разбивая о берег, бросают тут же, небрежны, небережливы. Хорошо хоть литые на вид шары бутонов нетяжелы и надёжны. Стоят ровно, по пояс или по грудь мокры. Покуда пясть цветка сжата в кулак почки, легка их ноша, по силам, стеблям подстать.
Бабочки, распустив лепестки крыл, с разбега мокаются1 в воду. Им так много надо успеть испытать, и, если не завершить что, то начать хотя бы, узнать в том себя. Сделать по глотку из каждой чашечки цветка со скатерти ближайшей поляны, иль пригубить. Потрепать за усы всех жуков, а шмелей – шаловливо, по брюшку. И кокетом, кокеткой со всякою птицей, да так, чтобы живу остаться. А зачем, коль недолго? Так – дарёное всё ж, нечужое…
Рядом, усугубляя лихостью свой полёт, – шершни, более чем бесцеремонны, норовят сбить. Да не со зла, вроде, но по-другому не сумеют никак. Выгрызают с наскока горсти воды, и, роняя капли с перкали туго натянутых крыл, кидаются прочь стремглав. Случается, не рассчитав сил, переворачиваются навзничь и, в тщетных попытках взлететь, волнуют равнодушную липкую гладь, что не слишком сговорчива, и так часто жестока. Подчас, иногда, временами, – всё одно, нам ли то изменить.
Сманив посулом скорой безраздельной неги и прохлады, вода не пускает от себя и после. В крайней мере – смахнёт небрежно тыльной стороной волны, внимая мольбам или страху, но даст ли выбраться, позволит успеть? То неясно.
Признайтесь, коли вынесет прибоем к ногам бабочку или жука, – кого будет жальче? Так отчего ж мы так милы с первыми и жестоки ко вторым? По нашей ли прихоти они таковы? А вдруг для кого-то жуки и мы …
Цирк…
Ласточки в своих иссиня-чёрных трико, как цирковые гимнасты. Под куполом неба на арене пруда выполняют кульбиты, которыми никого не удивишь. Ремесло и умение в нём, тут – единая возможность выжить, не сорваться, разменявшись на пятаки манежа.
Раскачав себя на струнах подвесной, выпускают её из виду и… «Четыре сальто-мортале…», аплодисменты, да после, – больная усталость, но с улыбкой куража в пол-лица и кусочком солнца в груди, – за барьер манежа. Даже он – препятствие, над ним тоже надо-таки взять верх. Но как это, чтобы без радости?! Так не бывает. Преодоление – счастье, даже если для кого-то это и не так.
Ласточки состригают локоны воздуха над водой, а дрозды – силовые жонглёры, расступаясь неуклюже и грузно, мнут крылья, гнут шеи в повороте, ожидая своего выхода. Чуть поодаль, под букетом шиповника, в грим-уборной, щеглы и синицы, в пёстрых нарядах ковёрных. Кто бы знал, хохоча им вослед, как тяжело даётся последняя улыбка.
– Парад – алле! – и сквозь свёрнутую воронкой ладонь, из-под купола вьётся полупрозрачным дымком паутинка лонжи, что не толще паутины лжи. Никогда не знаешь, – подведёт или нет, ведь даже то, что зависит от тебя, от тебя не зависит.
Не соблюдая очереди, снуют воробьи-униформисты, выхватывают из-под крыльев препятствия и опору. И ничего не остаётся, как ловить кураж, без которого не пройти не то, что по проволоке, но по жизни даже. А так хочется слышать упругий, гибкий голос шпреха, что снова и снова призывает тебя в манеж.
Шмель бурчит подле поддельного цветного ворса цветка. Его старания тщетны, напрасны. Так может оказаться напрасной жизнь, если пропустить свой выход, зайти не туда.
Ласточки, дрозды, шмели… как бы не так. Сложнее всё, проще. Безутешнее последнего «Прости…»
На живца
В детстве я был весьма любознателен, и умудрялся задавать бабушке по сто вопросов на дню. Чем бы они не была занята, – стиркой в широком голубом тазу или чтением, она каждый раз прерывалась, и, глядя мне в глаза, отвечала понятно и подробно. Деду же удавалось избегать и моих «почему?», и своих ответов на них.
Как-то раз он принёс во двор дикую утку-крякву. Она была меньше наших домашних, и не такая белоснежная и статная, как они, а неприглядная, блёклая, как бы кто нарисовал её, а потом начал стирать, да не доделал того. К утиным дед прикасался лишь по осени, когда их надо было рубить, а с этой замарашкой возился по целым дням. Дед посадил утку отдельно от прочих, и каждый день гулял с нею на пруд. Со мной он никуда не ходил, и потому я так обиделся, что не выдержал и спросил однажды:
– Дед! Зачем нам дикая утка, своих мало?
Он прищурился на меня, как бы решая, стоит отвечать или нет, и произнёс:
– Она не дикая, это редкая птица, есть такая порода, называется – подсадная утка. Семёновские да Тульские, говорят, самые лучшие, но я взял нашу, Воронежскую.
Не слишком рассчитывая получить ответ, я всё-таки задал ещё один вопрос:
– А куда её сажают, на яйца?
Дед было усмехнулся, но решил не баловать внука чрезмерным расположением, а торопясь, явно желая отвязаться от меня, растолковал, что к чему. Оказалось, что такая утка не только приучается не бояться выстрелов и убитых селезней, но также умеет приманивать особым криком пролетающих уток и осаживать их на воду.
– Урону от такой охоты немного, на подсадную чаще селезни идут. – Добавил дед и замолчал.
Неизвестно, что поразило меня больше, – то, что дед так вот, запросто, говорил со мной или то, что я узнал о птице. Я никак не мог ожидать, что утка, которую любил только томлёной в печи, начинённую яблоками из сада, может что-то, кроме как пытаться ущипнуть меня за ногу, когда я иду мимо. С недоверием поглядывая на босые, как бы озябшие лапы подсадной утки, я вдруг вспомнил, что собирался охолонуться, и пошёл купаться.
Ласточки и трясогузки, заприметив, что я направляюсь к пруду, принялись дружно потирать крыльями, и, в предвкушении лёгкой поживы, дразнили друг друга острыми язычками. Потомки динозавров не собирались меня съесть. Всё было намного проще, они намеревались использовать бледное усталое человеческое тело в качестве приманки.
Едва я подошёл к берегу, шершни принялись не в очередь пикировать со всех сторон на спину, а слепни воровато подбирались ближе к глазам. Они не дали мне полюбоваться цаплей, что неподалёку привередливо выбирала себе жертву среди замерших от ужаса, распластанных на листьях лилий лягушек. Не успел я погладить короткую шерсть камыша, и порадоваться сияющей на мелководье стайке мальков. Из-за назойливого приставания насекомых, мне пришлось почти что на бегу скинуть с себя одежду.
Пытаясь избежать укусов, я не просто бросился в пруд, но нырнул, против обыкновения, с головой. Когда, несмело приоткрыв под водой глаза, так, чтобы под ресницами осталось немного воздуха, я огляделся, то ничего не смог разобрать. Со всех сторон меня окружал зелёный травяной цвет, будто смытая с грязной кисточки акварель. Но опустив голову по направлению ко дну, мне привиделось, как снизу, тёмно-серой тенью, приближаясь всё ближе и ближе, надвигается нечто. В панике выпрыгнув из воды аж по грудь, вместе с немалым количеством воздуха, который выходил из меня, как из прохудившегося мяча, я поспешил к берегу, где меня уже ждали, – разномастный рой насекомых и выкупавшиеся, мокрые до самых подмышек птицы.
Я не рискнул выйти сразу, и, пока не замёрз, стоял на мелком месте, поджав ноги, удерживаясь по шею в воде. Птицы, следуя известному только им порядку, бросались наперерез каждому, кто покушался попробовать меня на вкус. Временами, войдя в раж, одна из них небольно задевала меня крылом по макушке, что было в определённой мере приятно, если бы вода оказалась хотя чуточку теплее.
Когда я, не попадая зубом на зуб, втискивал, наконец, мокрое тело в рубашку и штаны, птицы, несмотря на то, что уже были сыты, всё так же кружили подле, мешаясь шершням. Я был благодарен им, но крепко запомнил, что на живца ловят не только люди.
Хорошо это или плохо? Наверное – ни то и не другое, это жизнь.
– А по-другому, никак?.. – хотелось спросить мне.
Я был любопытным ребёнком.
Бывает ли…
Поверхность пруда вся в заплатах листьев кувшинки. Они ещё новые, нестираные, плохо гнутся на коленках. И где ж успела разодрать-то? Кажется, только-только сбросила с плеч плотную накидку льда и щеголяла в новеньком шёлковом шифоне чайного цвета, а вот уже – карманы набиты какой-то чепухой.
Из одного видны мокрые птичьи перья, вишнёвые косточки с жёсткими хвостиками черенков, из другого выглядывает по пояс кареглазая лягушка в веснушках по всю спину, там же – чайная пара и молочный кувшинчик водяной лилии на мясистом стебле. В нагрудном кармане сыто плещется совершенно белая, как подтаявший снег, рыба. Она и вправду делает это, – рукоплещет! То размеренно, а то встанет на месте, призадумается, да как взмахнёт вдруг хвостом, будто ладошкой, – ладно, мол, ну его, пустяки всё это! А что то за безделица была, того нам и не узнать.
Там же, в нагрудном кармане, – фонарик заката и вата облаков, на всякий случай. Зачем она-то нужна, странно тоже, ибо – во всякую пору мокра.
И вот, кажется, совсем уж всего довольно, но, не в состоянии побороть соблазна, в кармане оказывается и улитка с мармеладной ступнёй, и брошка паука – финифть брюшка со сканью ажурных ног.
Поверхность пруда, как бы не казалось она поверхностной, прячет подо всей этой мишурой глубину, которую не познать так просто, стоя на берегу, не замочив ног.
– А бывает ли мелок пруд?
– А бывает ли мелок человек?
Когда спадает жара
Когда спадает жара и бледное утомлённое небо со свежей царапиной летящего самолёта на щеке глядит в мерцающую точку вечерней звезды, мы сидим на веранде, спрятав босые ноги под круглый двухэтажный бабушкин стол, достаём календарь, что лежит там, страшно сказать, почти с середины прошлого века, листаем его и чудачимся, поздравляя друг друга с причитающимися дню праздниками. Лягушки, что живут в пруду неподалёку, замолкают на это время. Создаётся впечатление, что мы, сами того не подозревая, устраиваем представления, которые скрашивают их будни.
– Ага! Переворачиваем страничку, что тут у нас?.. 12 апреля!
– Да здравствует День космонавтики!
– Сегодня ещё и День рождения Александра Островского! Величайшего драматурга! И он мне, между прочим, очень нравится! Ура!
– Каждому своё. Драматургов много, а полёт в космос был первый!
– Ты уверен, что первый?! Почему лавры достаются только одному человеко-дню? Никто не утирает слёзы по погибшим собакам, крысам и обезьянкам… Никто не славит испытателей, которые калечились здесь, на земле…
– Мы о полёте в космос человека или крысы? Полёт крысы и обезьяны – это другой праздник.
– А… Ну, так, когда голова заболит, вспомни, что, если б не они, пришлось бы тебе прикладывать к голове коровий помёт или холодный капустный лист.
Мы замолкаем, и лягушки, чтобы разрядить неловкость, вновь принимаются квакать. У них антракт. Они негромко и недолго судачат, обмениваясь мнением о нас. И, едва они успокаиваются, мы продолжаем:
– Знаешь, меня иногда занимает вопрос, вот если бы люди делали, что хотели, не опасаясь порицания ни в этой жизни, ни в другой, как бы они себя вели?
– О… Я подозреваю, ты б удивилась.
– Нет, ну, смотри, когда человек свободен, у него пропадают опасения быть смешным, неинтересным, он живёт, не стараясь никому угодить. Прекращая создавать впечатление о себе, на которое тратятся годы, принимает себя таким, каков он есть, истинным, без прикрас и пыли лицемерия. Он честен с собой и окружающими…
– Я вижу ты испортила не один день, чтобы думать про это.
– А что не так? Ведь сколько людей живут навязанной им жизнью!
– Надеюсь, ты не о себе?
Когда он задал этот вопрос, то, в надежде расслышать ответ, лягушки замерли и даже потянулись в нашу сторону со своих плоских широких откидных мест, а он посмотрел на меня внимательно и даже слегка испуганно, так по-детски.
– Надеюсь, что нет. – Честно ответила я.
Он выдохнул, и под одобрительное журчание лягушек проговорил:
– Я расскажу тебе одну крошечную историю, если ты не против.
– Давай! – охотно согласилась я, и принялась слушать.
– В некой деревушке на берегу тёплого моря есть церковь. Я давно там не был, но, думаю, что она стоит там и теперь. Так вот, эта церковь никогда не запирается. Любой может зайти и уединиться там с Богом. У входа справа – ящичек из сандалового дерева, с несколькими отделениями для свечей и одно для монет. Они лежат там горстью. Люди приходят, меняют деньги на свечи и в жертвенном их пламени возносят молитвы, чтобы быть понятыми, услышанными, прощёнными.
Довольно долго, при каждом удобном случае я заезжал туда, примерно в одно и то же время, и приметил женщину. У неё было довольно неприятное, очень недовольное и потому запоминающееся лицо. Если бы не это выражение, то её можно было бы назвать красавицей. Со стороны казалось, она брезгует самой жизни, но нечто принуждает её к ней. Я стыдился того, что заметил. В тех обстоятельствах, где я видел её, это было более, чем неуместно. И каждый раз каялся в своём неприятии, пока не заметил, что, выбирая из ящичка самую большую, дорогую свечу, она кладёт взамен неразменную, мелкую монетку.
Женщину привозили к церкви на машине, так что я не думаю, будто она делала это из невозможности расплатиться. К тому же, размер свечи не имеет значения…
Свечи стоят денег, искренность не имеет цены.
Потрясённая услышанным, я молчала. Лягушки, не понимая, окончен ли вечер, ожидали ясности, и не спешили ставить густой воздух сумерек на огонь, по-крайней мере, бульканья слышно не было. И, даже дождавшись финала, не решились сразу возобновить банальную, простительную для честной жизни, возню.
– Нас воодушевляют чужие горести. И мы спешим скорее делать то, что откладывали на извечное, не имеющее сроков, «потом». Мы завидуем соседским радостям, ибо у нас – только свои, привычные и незаметные от того давно. Но, случайно замеченная ложь, заставляет нас говорить правду, даже если нет в том нужды.
Порыв ветра сдунул чёлку леса с помрачневшего чела неба.
Комары, стараясь наверстать вынужденное в жару безделье, принялись ставить пропущенные днём уколы. Нам пора было идти в дом.
Загадка
Тихо ступая, рассвет возжёг холодную лампаду кубышки, а затем подсветил изнутри вишнёвые косточки поспевших уже ягод, по одной. Рубиновая мякоть так трогательно теплится наивными огоньками, что птицы, между желанием насладиться лакомством и приятным видом, выбирают последнее. Полуденный жар непременно сморщит нежную кожу пухлых вишнёвых щёк, и тогда уж не так обидно будет… съесть их.
– Подлей воды в бочку – просит вдруг дед.
Я тут же подхватываю ведро и вприпрыжку бегу к колодцу. Я даже напеваю из-за того, что он обратился ко мне сам, а не через бабушку, которая, передавая поручения деда, всегда глядит поверх моей головы. То ли от жалости или смущения, то ли ещё от чего.
Над колодцем совсем недавно поставили навес, приладили ворот, и я теперь тоже могу носить воду. А вот с прежним, с журавлём, длиннющей палкой, на конец которой цепляли ведро, справиться не удавалось никак. Дед говорил, что у меня «руки коротки». Эти слова очень обижали меня, и я уходил на огород, где пытался отмерить величину рук веткой крапивы, сравнивая по-отдельности: запястья, ладони, плечи. От того кожа покрывалась мелкими пузырьками, которые я расчёсывал во сне, а озабоченная моей вознёй бабушка, перетряхивала постель поутру, выбивая её с особенным тщанием, отыскивая причину, которая заставляла её любимого внука ворочаться.
Подбежав к колодцу, я ухватился за горячую ручку, отполированную вращением десятков натруженных ладоней, и стал медленно крутить. Конечно, я знал, что, легонько толкнув барабан на себя, можно лихо стукнуть ведром о воду, но делать этого не стал. Мне было приятно ощущать невесомую тяжесть ведра, чувствовать его волнение перед встречей с густым ледяным дном воды, которая кашляла от собственной сырости где-то там, внизу.
Ведро, вежливо склонившись, наполнилось, и, ухватившись за ворот обеими руками, я принялся выкручивать его наверх. Слепни и оводы, пользуясь удобным случаем, нещадно грызли лицо и пробирались под воротник, но отнять рук, чтобы отогнать их, я никак не мог. Едва край ведра сравнялся с верхним бревном сруба, я потянулся, чтобы перехватить ручку и вскрикнул, ибо разглядел, что на самом верху, раскинув в стороны все четыре лапы, тряпочкой лежит лягушка.
От неожиданности я выпустил ведро, и оно рухнуло, сильно ударившись боком о бетон воды. Рукоять барабана, просвистев в миллиметре от моего виска, содрала со щеки приличную полоску кожи, да завертелась неотвратимо, стараясь догнать и наподдать всему, что полезло «поперёк батьки в пекло».
Мне некогда было разглядеть, жива ли лягушка или нет, и теперь, сокрушаясь о своём малодушии, понимал, что, если даже не убил её падением, то, всё равно… Вода недостаточно холодна для лягушки, чтобы заснуть, комарам же и мошкам, – напротив, поэтому она непременно погибнет от голода, долго не протянет, и вода окажется испорченной надолго. Чтобы достать лягушку, я решил вычерпать колодец.
Наш родник, что питал его, был немолод и нетороплив, вода набиралась нескоро, степенно, особенно это было заметно, когда все соседи разом принимались поливать огороды. Так что, я надеялся успеть до темноты.
Сперва бегал от колодца к бочонку, а, когда наполнил его, натаскал и в баню, и в кадушку для полива. Бабушка, с жалостью глядела на моё обгоревшее, сильно искусанное лицо, в разводах испарившейся на солнце соли тонкого помола, но только сокрушённо всплескивала руками, а дед… Тот помалкивал, сидя на крылечке.
Когда я, наконец, услыхал из ведра тихое «ква», на дне колодца уже во всю плескалась луна. Зачерпнув лягушку изорванной мозолями ладонью, я крепко прижал её к себе и понёс домой. Пока мы шли, она не пыталась вырваться, но лишь старалась подобрать под себя ослабшие лапки, чтобы те не трепыхались безвольно на ходу.
Не знаю почему, но у бабушки с дедом никогда не было петуха, поэтому обыкновенно мы были избавлены от надрывных криков по утрам. С появлением лягушки, нас будило лакомое, на все лады, бульканье.
– Надо же, удивлялась бабуля, – кто бы мог подумать, что лягушка так интересно поёт. А я-то думала, что она, кроме как квакать, не умеет больше ничего.
Я разместил бедняжку на широком краю деревянной бочки, так ей было сподручнее ловить насекомых, что слетались на водопой. Каждый раз, когда я подходил, чтобы зачерпнуть воды, лягушка сидела смирно, свесив одну ногу с края и не сводя с меня глаз, а если подходил с полным ведром, она тут же подбирала лапку под себя, стараясь не холодить её раньше срока, и нежно, одобрительно, чуть ли не по-кошачьи, урчала.
Однажды вечером, засыпая под вечернюю песню лягушки, я услыхал, как дед тихо сказал бабуле:
– Ишь, голосистая какая. – Помолчав немного, он добавил, – Хороший парень растёт.
Впрочем, быть может, мне это только показалось? Я не был уверен.
Кто-то красив из-за того, что его любят. Иной делается таковым, лишь когда любит сам. Конечно, я обожал бабушку, но дед… Его я, несомненно, любил, как самую главную загадку в своей жизни, которую никак не мог разгадать.
Сердце
Кот поймал бабочку… и отпустил.
Перед тем он долго наблюдал за нею, нервно и бесшумно отбивая ритм кончиком хвоста. Отмечая лёгким кивком места, которые выбирала та для недолгого отдыха, запоминал их, чтобы знать, – где искать, в том небывалом случае, если вырвется она из его объятий ненароком.
Бабочка была некрупной, в аккуратной коричневой юбочке и кружевном фартучке подходящей кремовой расцветки. Пушистые её, смущённые щёчки отдалённо напоминали шкурку пыльного зрелого персика. А усики… Ну, что ж! Когда это они портили юных барышень? В зрелые лета, и то, пушок над верхней губой порождает, подчас, томление в груди у умудрённых жизнью повес.
Залетев в дом случайной гостьей, бабочка старалась быть как можно менее заметной, и перелетала с одной стены на другую, лишь только когда все ложились спать. Вместо того, чтобы требовать для себя особого угощения, довольствовалась сладкими каплями на столе, не замеченными хозяйкой или кошачьей едой, которая всегда лежала в миске. Конечно, это мало походило на густой цветочный нектар, но бабочке казалось неприличным требовать к столу то, чем могла утолить голод она одна.
Кот был непривередлив, но предпочитал сам лакомиться из чужой посуды, оставляя свою только для себя. В один из дней, приметив исчезновение части своего обеда, он решил не ложиться спать, чтобы застать похитителя и воздать тому по заслугам. Несмотря на то, что родители кота признавали лучшей порой для охоты ночь, он давно отвык от этого порядка и, в засаде неподалёку от миски, едва сдерживался, чтобы не уснуть. Но сон-таки его сморил.
Ближе к полуночи луна, из любопытства, заглянула в окошко, и что же увидала она?! Вздыхая коротко и кротко, неподалёку от спящего кота кушала бабочка. Рассерженная, неведомо по какой причине, луна призвала на помощь ветер, тот, из одолжения, постучал в окошко, и кот открыл глаза…
Бабочка в ужасе перелетала с места на место. Она была лишней здесь, взаперти, и знала про это. Запахи трав и цветов манили её через затянутые марлей окна, но где взять столько сил, чтобы вырваться?.. Недолго думая, от отчаяния, бабочка вспорхнула из-под потолка и опустилась на пол, как можно ближе к коту. Ей было страшно, очень. Она попыталась зажмуриться, но не смогла.
Когда кот, сделав строгие глаза, одним прыжком преодолел малое расстояние меж собой и бабочкой, да занёс над нею лапу, то, неожиданно для самого себя, мягко, почти что нежно накрыл её мохнатой ладошкой, а, ощутив биение отчаявшейся души, убрал осторожно, чтобы ненароком не зацепить. Не раздумывая долго, кот запрыгнул на подоконник и одним движением вспорол марлю, что, пропуская лишь немного цвета, отделяла жизнь от звуков.
Ночь запахнула плотнее свой халат и бабочка услышала густой запах мокрой от росы травы, исходивший от неё. Страшась разувериться, она подлетела к окну, где ветер уже во всю играл лоскутами марли и с довольным видом умывался кот. Проход был открыт.
– А вы…вы не пойдёте со мной, – спросила бабочка у кота.
Тот усмехнулся и ответил:
– Я везде свободен, а ты – лети. – Этот кот был фамильярен со всеми.
Бабочка оправила юбку, и присела к нему поближе. Кот смущённо муркнул, накрыл её ладонью на мгновение, и тут же отпустил.
Говорят, у бабочек нет сердца, только тонкая, с головы до пят трубочка. Ну, что же, у многих нет и того.
Красивая пара
Я встретил его поутру, когда шёл купаться.
– Ты куда? – спросил я его. Он что-то пробурчал себе под нос и посторонился, давая мне пройти.
Пожав плечами я пошёл дальше, рассудив, что не должен допытываться о причинах столь странного поведения, ибо у каждого бывает повод не делиться своими мыслями ни с кем. Впрочем, я немного кривил душой, и был, всё же, слегка обижен. Обыкновенно, при встрече он был весьма дружелюбен со мной. Часто шутил, необидно подтрунивал над соседями и не выказывал недовольства, если оказывался объектом шалостей сам. А нынче… Хмурый, исподлобья взгляд, очевидное нежелание поддержать беседу…
Купание в прохладной воде отчасти развеяло моё недоумение. И, хотя не было слышно приятного уху гудения шмелей, которые закатывались мохнатыми шариками в лунки цветов, шершни, чей полёт принуждал нервно озираться, запаздывали, и от того не было необходимости прятать голову в воду.
Когда я возвращался домой, увидел его опять. Мой знакомец стоял недалеко от того места, где мы повстречались поутру. Он брёл неуверенной походкой, как бы запинаясь, наполовину прикрыв веки, а, завидев меня, загодя отошёл в кусты, выказывая полное нежелание отвечать на любые вопросы. Пожав плечами, и почти рассердившись, я ушёл. Но на следующий день…
Он шумно шутил, заигрывая с соседкой, та краснела невпопад, а при моём появлении и вовсе скрылась, нырнув под самый большой лист кувшинки.
Я не мог не спросить лягушонка, что, собственно, это было, вчера. И он, виновато переминаясь, рассказал о том, что в тот день родня выгнала его прочь из пруда, настаивая на том, что ему пора жениться, хотя прекрасно знала, что он влюблён в ту особу, что стреляла теперь в него глазками из-под листа.
– Ты ж сам видишь, она ещё слишком молода, придётся ждать ещё целый год. Да и родители просят внуков поскорее…