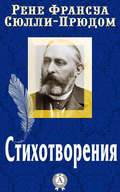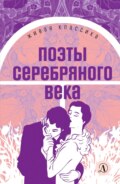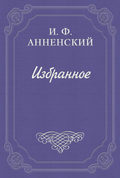Иннокентий Анненский
О современном лиризме
Не то Сологуб -
Ты поди некошною дорогою,
Ты нарви мне ересного зелия
. .
Ты приди ко мне с шальной пошавою
Страшен навий след…
Горек омег твой…[95]
(с. 133)
Я перерыл бы все энциклопедии, гоняясь за Вячеславом Ивановым, если бы этот голубоглазый мистик вздумал когда-нибудь прокатиться на Брокен. Но мне решительно неинтересно знать, что там такое бормочет этот шаман – Сологуб, молясь своей ведьме. Да знает ли еще он это и сам, старый елкич![96]
«Елисавета – Елисавета»…
Целая поэма из этого звукосочетания, и какая поэма! Она захлебывается от слез, может быть, сусальных, но не все ли равно? – когда, читая ее, нам тоже хочется плакаты
Елисавета, Елисавета
Приди ко мне!
Я умираю. Елисавета,
Я весь в огне.
Но нет ответа, мне нет ответа
На страстный зов.
В стране далекой Елисавета.
В стране отцов.
(с. 191 сл.)
– и т. д.
В заключение о Сологубе – хорошо бы было сказать мне и о том, как он переводит. Но лучше, пожалуй, не надо. Пусть себе переводит стихи Верлена;[97] это делает не Сологуб-поэт, а другой – внимательный и искусный переводчик. А того, лирика-Сологуба, – и самого нельзя перевести. Разве передашь на каком-нибудь языке хотя бы прелесть этих ритмических вздыманий и падений сологубовски-безрадостного утреннего сна
Я спал от печали
Тягостным сном.
Чайки кричали
Над моим окном.
Заря возопила:
– Встречай со мной царя.
Я небеса разбудила,
Разбудила, горя. —
И ветер, пылая
Вечной тоской,
Звал меня, пролетая
Над моею рекой.
Но в тяжелой печали
Я безрадостно спал.
О, веселые дали,
Я вас не видал!
(с. 89)
Я, впрочем, рад, что Сологуб прилежно читал Верлена. Если я не ошибаюсь, одна из лучших его пьес, «Чертовы Качели» (с. 73 cл.), навеяна как раз строфою из «Romances sans paroles»[98] (Т. I, p. 155)
О mourir de cette mort seulette
Que s'en vont, cher amour qui t'epeures
Balancant jeunes et veielles heuresi
O mourir de cette escarpolette![99]
Сологуб перевел его плохо, а я сам позорно.[100] Не буду я пытаться переводить еще раз это четверостишие. Лучше постараюсь объяснить вам верленовские стихи в их, так сказать, динамике. Представьте себе фарфоровые севрские часы, и на них выжжено красками, как Горы[101] качают Амура. Горы – молодые, но самые часы старинные. И вот поэт под ритм этого одинокого ухождения часов задумался на одну из своих любимых тем о смерти, т. е., конечно, своей смерти. Мягко-монотонное чередование женских рифм никогда бы, кажется, не кончилось, но эту манию разрешает формула рисунка: «Вот от таких бы качелей умереть».
Чтобы скрыть от нас картину, породившую его стихи, Верлен заинтриговал нас, вместо мифологических Гор поставив слово часы с маленькой буквы, и вместо Амура – написав любовь, как чувство.
Не то у Сологуба. Его качели – самые настоящие качели. Это – скрип, это – дерзкое перетирание конопли, это – ситцевая юбка шаром, и ух-ты! Но здесь уже дело не в самом Сологубе, а в свойстве того языка, на котором была когда-то написана и гениальная пушкинская «Телега».[102]
Вот качели Сологуба в выдержке:
Над верхом темной ели
Хохочет голубой:
– Попался на качели,
Качайся, черт с тобой.
В тени косматой ели
Визжат, кружась гурьбой:
– Попался на качели,
Качайся, черт с тобой. – [103]
Заметьте, ни малейшей грубости, никакой фамильярности даже в этом черт с тобой – оно лукаво, вот и все.
Ведь качает-то действительно черт. А эти повторяющиеся, эти качальные, эти стонущие рифмы! Нет, Сологуб – не переводчик. Он слишком сам в своих, им же самим и созданных превращениях. А главное – его даже и нельзя отравить чужим, потому что он мудро иммунировался.
Проделала эту прививку на свой лад, конечно, ведьма. И проделала жестоко.
– Будут боли, вопли, корчи,
Но не бойся, не умрешь,
Не оставит даже порчи
Изнурительная дрожь.
– Встанешь с пола, худ и зелен,
Под конец другого дня.
В путь пойдешь, который велен
Духом скрытого огня.
– Кое-что умрет, конечно,
У тебя внутри – так что ж?
Что имеешь, ты навечно,
Все равно, не сбережешь.[104]
(с. 139)
Вот каково, может быть, было посвящение Сологуба в пророки. Исайя, как видите, уж ровно не при чем![105]
Рядом с литературными портретами Брюсова и Сологуба я опускаю портрет Вячеслава Иванова (выступил в 1897 г. – «Кормчие звезды», потом «Прозрачность», 1904 г.), т. к. тот сборник, на основании которого портрет мог бы, кажется, быть сделан, «Cor ardens») еще не вышел. Но, говоря далее об искусстве, я многое еще скажу о поэзии Вячеслава Иванова.[106]
2[107]
Символизм в поэзии – дитя города. Он культивируется, и он растет, заполняя творчество по мере того, как сама жизнь становится все искусственнее и даже фиктивнее. Символы родятся там, где еще нет мифов, но где уже нет веры. Символам просторно играть среди прямых каменных линий, в шуме улиц, в волшебстве газовых фонарей и лунных декораций. Они скоро осваиваются не только с тревогой биржи и зеленого сукна, но и со страшной казенщиной какого-нибудь парижского морга и даже среди отвратительных по своей сверхживости восков музея.
Там, где на просторе, извечно и спокойно чередуясь, во всю ширь, то темнеет день, то тает ночь, где рощи полны дриад и сатиров, а ручьи – нимф, где Жизнь и Смерть, Молния или Ураган давно уже обросли метафорами радости и гнева, ужаса и борьбы, – там нечего делать вечно творимым символам… Зато там свободно плодит своих богов и демонов Миф. Называйте себе их как хотите. Вам непременно будет казаться, что поэзия просторов, отражая этот, когда-то навек завершенный мир, не может, да и не должна прибавлять к нему ничего нового.
Конечно, город не со вчерашнего дня вдохновляет поэтов:
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный.
Пушкин написал не только «Медного всадника», но и «Пиковую даму». Но теперь в Петербурге, наверное, около двух миллионов жителей. И пушкинский Петербург требует уже восполнения, в виде картины Александра Бенуа.[108] «Петра творение» стало уже легендой, прекрасной легендой, и этот дивный «град» уже где-то над нами, с колоритом нежного и прекрасного воспоминания. Теперь нам грезятся новые символы, нас осаждают еще не оформленные, но уже другие волнения, потому что мы прошли сквозь Гоголя и нас пытали Достоевским.
Иную, по-новому загадочную, белую ночь дает нам, например, Александр Блок.
Первый поэт современного города, города – отца символов, был Бодлер, за ним шли Верлен, Артюр Рембо, Тристан Корбьер,[109] Роллина,[110] Верхарн,[111] чтобы назвать только главнейших.
Впрочем, Париж, бог весть когда уже, был Лютецией.[112] А в его ироническом соблазне мелькает иногда силуэт поэта, во вкусе Марциала.
Где нам до французов? – В нас еще слишком много степи, скифской любви к простору. Только на скифскую душу наслоилась тоже. давняя византийская буколика с ее вертоградами, пастырями, богородицыными слезками и золочеными заставками.
И это, вероятно, самый глубокий культурный слой нашей души.
Король нашей поэзии – Бальмонт, пока еще он, не успел утомиться, в Мексике[113] все под тем же солнцем, и даже птицей – все – в том же: воздухе,[114] – сделал набег на каменные дома, вольные тюрьмы людей.
Это было гордо… Пластроны любят и теперь декламировать этого Бальмонта, но как они далеки от нашего милого кочевника тех годов.
Брюсов уже интимнее и волшебнее проник в тоску города, и он первый новый Орфей – заставил плакать булыжники.
Будет лампы свет в окошке…
Различу ее сережки…
Вдруг погаснет тихий свет,
Я вздохну ему в ответ.
Буду ждать я утра в сквере,
Она выйдет из той двери.
На груди ее цветок,
Темно-синий василек.[115]
или это:
И каждую ночь регулярно
Я здесь под окошком стою.
И сердце мое благодарно,
Что видит лампадку твою.[116]
Здесь не краски особые волнуют, а здесь город волнует, другая душа, по-иному язвимая, по-иному скорбная и уступившая, потому что она твердо знает свою рыночную стоимость.
Пусть в нее, эту еще скудную, эту новую душу, глядится другая – старая, мудрая, жадная, насторожившаяся душа поэта. Но разве они не обе были туго забиты в камень, а может быть даже, и рождены этим самым камнем? Бальмонт боролся с городом. Он его ненавидел. Но есть экзотические души, над которыми даже в таком смысле не властны родившие их камни. В стихах Вячеслава Иванова города нет. Я знаю шесть его строчек, посвященных Парижу,[117] да сонет о когтистых камнях, что свалены были когда-то против нашей Академии.[118] Чтобы любить город, Вячеславу Иванову нужна высота птичьего полета, а чтобы слиться с его белой ночью – гиератический символ.
Вот эти два великолепные стихотворения.
Париж с высоты
Тот не любит человека,
Сердце-город, кто тебя
Озирает не любя,
О, горящее от века!
Неопально пылкий терн!
Страстных руд плавильный горн!
Сфинксы над Невой
Волшба ли ночи белой приманила
Вас маревом в полон полярных див,
Два зверя-дива из стовратных Фив?
Вас бледная ль Изида полонила?
(отчего не медная Минерва?)
Какая тайна вам окаменила
Жестоких уст смеющийся извив?
Полночных волн немеркнущий разлив
Вам радостней ли звезд святого Нила?
Так в час, когда томят нас две зари
И шепчутся лучами, дея чары,
И в небесах меняют янтари,
Как два серпа, подъемля две тиары,
Друг другу в очи – девы иль цари
Глядите вы, улыбчивы и яры.
Этот сонет написан два года тому назад. Не тогда ли и Валерий Брюсов, надменный коллекционер впечатлений, экспонировал нам на диво сработанный им, настоящий миф города?
Начало я приводил, вот конец:
. .
Но сам скликаешь, непокорный,
На штурм своих дворцов, – орду
И шлешь вождей на митинг черный:
Безумье, Гордость и Нужду!
И в ночь, когда в хрустальных залах
Хохочет огненный разврат,
И нежно пенится в бокалах
Мгновений сладострастных яд,
Ты гнешь рабов угрюмых спины,
Чтоб, исступленны и легки,
Ротационные машины
Ковали острые клинки.
Коварный змей с волшебным взглядом!
В порыве ярости слепой
Ты нож, с своим смертельным ядом,
Сам подымаешь над собой.[119]