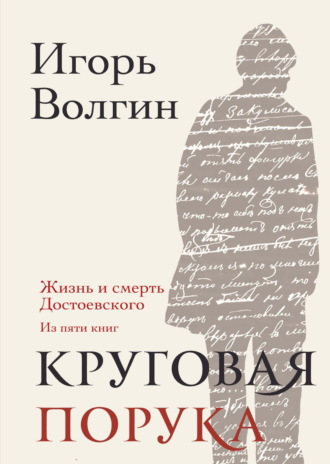
Игорь Волгин
Круговая порука. Жизнь и смерть Достоевского (из пяти книг)
Сын живописца
В «Введении по делу Петрашевского…» Липранди решает признаться в том, о чем умалчивал раньше: «Наконец, мне передана была высочайшая воля употребить все средства ввести агента на эти вечера».
Итак, тайного вторжения требует сам государь. Он продолжает зорко следить за ходом событий, не брезгуя никакими подробностями и лично определяя характер игры. Он понимает, что необходим шпион. Антонелли вызван к исторической жизни именно им.
«Сын живописца» (читай: действительного академика живописи), 23-летний не докончивший курса студент, обладал двумя важными преимуществами: обширной памятью и нескучным слогом. Первое позволяло ему не растерять информацию; второе – прилично изложить её на бумаге. Что он и делает регулярно – с января по апрель 1849 года.
Некоторые воспоминатели называют Антонелли родственником Липранди: очевидно, из-за экзотического звучания их средиземноморских имен. Это несправедливо: они не состояли в родстве (хотя испанские предки Липранди переселились в Россию именно из Италии, откуда явились и предки Антонелли). Что мешает, однако, заподозрить и Дубельта, чей отец, согласно семейным преданиям, похитил мать его, происходившую из испанского королевского рода?
Донесения Антонелли – Липранди (в их дуэте неожиданно прорывается высокий оперный звук!) читаются с истинным интересом.
Спешно устроенный в тот департамент, где служил Петрашевский, Антонелли без особого труда знакомится с «известным лицом» (так будет именоваться в его отчётах объект наблюдения). Вскоре они сходятся короче.
«Хотя Петрашевский и Агент 1-й часто посещают друг друга, – сообщает Липранди Перовскому, – но первый ещё не приглашал его на собрания свои, на чем этот, впрочем, и не настаивал (как ему сделано наставление), чтобы не пробудить ни малейшей тени подозрения, тем более, что Петрашевский чрезвычайно умён и хитёр».
Липранди не оставляет Агента 1 неусыпным своим попечением. Когда хозяин дома в Коломне предлагает Антонелли переехать к нему (что последний считает немалой удачей), мудрый Иван Петрович велит отклонить подобный соблазн – «и последствия показали уже, – с удовлетворением констатирует он, – что этот отказ имел большое влияние на рассеяние подозрения, которое бы могло ещё гнездиться в голове Петрашевского».
«Известное лицо» было природным пропагатором: Антонелли сыграет именно на этой струне. Он принимает роль неофита, жаждущего приобщиться к откровениям новой веры. Он следует за Петрашевским по пятам: посещает его в утренние часы; жертвуя молодым здоровьем, коротает с ним ночи за домино; обедает с ним в ресторациях и т. д. Порою в пылу беседы Антонелли тайно любуется своим поднадзорным: в одном из отчётов он с чувством упомянет о его прекрасном лице.
Одновременно выясняется круг знакомств.
До и после полуночи
1 марта 1849 года впервые называется имя. Сообщается, что «известное лицо заходило к Достоевскому», и в скобках указывается род занятий: «сочинителю».
5 марта следует развитие темы. «Известное лицо» повествует внимательному слушателю о своём споре с братьями Достоевскими: оба последних упрекаются «в манере писания». (Позднее один из братьев попытается уверить следствие, что такого рода разговорами и ограничивалось их участие в деле.)
Между тем, время идет – и Липранди начинает беспокоиться: его агент приглашаем к Петрашевскому во все дни недели, помимо пятницы. Вернее, вхож он и по пятницам, но – исключительно в утренние часы, когда, терзаемый любопытством, вынужден молча наблюдать распоряжения, отдаваемые мальчишке-слуге относительно покупки на вечер свечей, лампового масла и возобновления запасов вина. Приказы эти воспринимаются томящимся Антонелли как серьёзные военные приготовления.
Позже, уже в Сибири, пытаясь восстановить в памяти все обстоятельства дела, Петрашевский и Львов придут к заключению, что шпион был введён на вечера учителем русской словесности Феликсом Толлем, «человеком доверчивым» [86]. Однако сам Антонелли придерживался иного взгляда.

Обложка дела о петрашевцах
(Архив III Отделения)
Он явился к Петрашевскому незваным – в пятницу, 11 марта, в десять часов вечера. Парадный подъезд был заперт; не растерявшись, агент идет с чёрной лестницы. Он застает общество врасплох – человек десять мирно беседуют за столом. Будучи высокого мнения о сокрытых в нём дарованиях, отважный визитёр не пожалеет красок, чтобы описать Липранди свой актёрский триумф. Он изображает сцену, чем-то напоминающую известную картину В. М. Максимова «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу»: смятение якобы поражённого его визитом хозяина; шёпоты в кабинете; косые взгляды гостей. Любящей кистью живописует он своё натуральное простодушие и светскую развязность, которые в конце концов вознаграждаются тем, что первоначальная настороженность сменяется всеобщей приязнью.
Роль самого Липранди в этой операции тоже не столь мала. Он спешит поведать Перовскому, что, получив в пятницу, 11 марта, в десять часов вечера «сведения от Агента 2-го (очевидно, наружное наблюдение. – И. В.), что к Петрашевскому собралось уже около 10-ти человек, я тотчас сообщил это Агенту 1-му, а он немедленно отправился к Петрашевскому».
Нельзя не признать, что, несмотря на медленность тогдашних сношений, система действует безотказно.
Итак, Антонелли, наконец, проникает внутрь. До финала остаётся немногим более месяца.
Достоевский на вечере отсутствует.
Он будет отсутствовать и на следующих «пятницах» – вплоть до 1 апреля. И лишь 15 апреля, когда будет прочитано вслух письмо Белинского к Гоголю, Антонелли обратит сугубое внимание на чтеца.
Помета против фамилии Достоевского в списке лиц, подлежащих арестованию, гласила: «один из важнейших». Это кажется странным. Очевидно, ввиду его литературной известности власть подозревала за ним более тяжкие вины.
Итак, 15 апреля Достоевский читает Письмо.
В том тексте приговора, который будет опубликован в печати, сделана одна малозаметная, но в высшей степени деликатная поправка. Из текста исчезает имя Белинского: речь идет лишь о письме «одного частного лица». (Это было первое публичное неупоминание: запрет сохранится до 1855 года – вплоть до кончины Незабвенного.) Не будет упомянут и жительствующий в Италии адресат письма. Во-первых, он ещё здравствует; во‑вторых, – не несёт ответственности за безумные речи своего покойного корреспондента. И, наконец, в‑третьих, – и это, пожалуй, самое главное – у начальства нет ни малейшей охоты впутывать в историю самое знаменитое в России литературное имя.

В. Тимм. Могила В.Г. Белинского на Волковом кладбище. 1862 г.
Чтение письма Белинского к Гоголю – единственное «официальное» выступление Достоевского на «пятницах» в Коломне. И фактически – единственная против него серьёзная улика. (О втором обвинении будет сказано ниже.)
Ему не повезло. Антонелли, присутствовавший на семи вечерах (с 11 марта по 22 апреля), только на двух из них (1 и 15 апреля) застаёт Достоевского. И именно в последнее своё посещение Достоевский становится главным действующим лицом.

Н.В. Гоголь
Имена Гоголя и Белинского вновь обозначат для него поворот судьбы.
«Вообще я человек неразговорчивый, – заметит он в своих показаниях, – и не люблю громко говорить там, где есть мне незнакомые»[87].
«Говорил он всегда мало и тихо…»[88] – подтверждает Ястржембский.
Действительно: по сравнению с другими участниками «пятниц» – такими, например, как тот же Ястржембский, Тимковский, Толль, Ахшарумов, которые произносят речи и оглашают заранее составленные рефераты, – Достоевский ведёт себя достаточно скромно. Трудно представить, чтобы он читал у Петрашевского отрывки из своих повестей, как об этом уверенно сообщает один из нечасто появлявшихся на «пятницах» мемуаристов.
Не уклоняясь от участия в общей беседе, он всё же предпочитает «говорить один на один». Молчаливостью и скрытностью, этими защитными своими чертами, он напоминает одному из свидетелей истого заговорщика.
(Образ, как обычно, двоится, ибо другой мемуарист, напротив, различает в нём черты умеренности и законопослушания.)
Он оживляется, если речь заходит о литературе. Горячо вступается за Крылова, когда Петрашевский отказывает баснописцу в праве зваться великим художником. Очевидно, он отстаивает в спорах с хозяином дома и свою «манеру писания». Он не скроет от следователей, что нелестно отзывался о цензуре: её бдительное невежество, по его скромному разумению, достигает размеров, невыгодных для видов правительства.
Друзья Петрашевского ратуют за свободу тиснения, власть – за свободу теснения: можно предположить, что посетителям дома в Коломне приходил в голову этот незатейливый каламбур.
«При мне говорил Достоевский об изящном»[89], – признается один из подследственных, полагая, что такое признание ничем не сможет повредить говорившему.
Рассказ Достоевского о том, как был прогнан сквозь строй фельдфебель Финляндского полка, к разряду «изящного» отнести трудно. Равно как и приводимые Пальмом слова – когда при обсуждении различных возможностей эмансипации крестьян автор «Бедных людей» «со своей обычною впечатлительностью» воскликнул: «Так хотя бы через восстание!»[90] Иные из позднейших интерпретаторов приняли этот душевный порыв за обдуманную политическую программу – с чем, заметим, не замедлили бы согласиться и члены Следственной комиссии, буде указанное восклицание им ведомо.
Без сомнения, заинтересовало бы членов Комиссии и лестное предположение дочери Достоевского, Любови Фёдоровны, что Петрашевский, «которому были известны ум, мужество и нравственная сила» её отца, предназначал для него «одну из первых ролей в будущей республике»[91]. Но следователям, слава Богу, подобные мысли не пришли в голову.
Да, он был молчалив, но когда одушевлялся, говорил замечательно. Недаром его одноделец свидетельствует, что «страстная натура» Достоевского производила на слушателей «ошеломляющее действие».
Именно такое действие произвело чтение письма Белинского Гоголю (что довольно живо изобразил Антонелли, упорно именующий оратора Петром: просвещённый Липранди собственноручно исправит ошибку). Достоевский мог уверять Комиссию, что оглашённый им документ занимал его исключительно как достойный внимания литературный памятник, который «никого не может привести в соблазн»; что при чтении письма сам чтец ни жестом, ни голосом не обнаружил своего одобрения. Все эти оправдания были излишни: текст говорил сам за себя [92].
Достоевский осмелится публично огласить абсолютно нецензурное завещание покойного критика – этот желчный приговор не пожелавшему узнать в нём себя николаевскому царствованию. И система отреагировала так, как того и следовало ожидать: она отомстила мёртвому автору, покарав живых.
В подлинном приговоре военно-судной комиссии (ещё не отредактированном для печати) сказано, что Достоевский подлежит смертной казни расстрелянием «за недонесение о распространении… письма литератора Белинского и злоумышленного сочинения поручика Григорьева»[93]. В формулировке этой содержится ряд несообразностей.
Строго говоря, «недонесение о распространении» приложимо лишь к «Солдатской беседе» Григорьева, которую Достоевский слышал в авторском исполнении (на следствии, впрочем, он будет утверждать, что не ведал имени сочинителя). Что же касается «письма литератора Белинского», то упрёк в недонесении нелеп, ибо автор послания давно в могиле, а распространителем письма являлся не кто иной, как сам обвиняемый. Ему-то, очевидно, и предлагалось донести на самого себя!
Кроме того, смертная казнь «за недонесение» – не вполне адекватная мера: даже с точки зрения военно-полевой юстиции. Не потому ли в окончательном виде формула виновности несколько изменена: тонкость, на которую до сих пор не обращали внимания.
Генерал-аудиториат постановил так: «за… участие в преступных замыслах, распространение письма литератора Белинского… и за покушение, вместе с прочими, к распространению сочинений против правительства посредством домашней литографии…»[94]
Это звучит уже гораздо солиднее. Хотя некоторые недоумения остаются.
Исчезает поручик Григорьев со своей «Солдатской беседой»: по сравнению с прочими провинностями грех недонесения почитается уже не столь важным. Появляется «участие в преступных замыслах». Не уточняется, правда, в каких именно, ибо (как явствует из дела) таковое участие следствием не доказано. Зато – во изменение прежнего мнения – уже сам обвиняемый признается распространителем письма.
И, наконец, – литография. На этом сюжете следует остановиться подробно.
Из главы 4
«Жар гибели свирепый…»
Раскол в нигилистах
Вопрос о заведении домашней литографии возник в кружке, который как бы откололся от общих сходбищ в Коломне и зажил самостоятельной жизнью. Это произошло в самом конце зимы 1849 года.
«…Мы выбирали преимущественно тех, которые не говорили речей у Петрашевского» – так определит критерий отбора один из посетителей новых – субботних – собраний у Дурова. Сам хозяин дома воспрепятствовал «официальному» приглашению Петрашевского: тот, по его мнению, «как бык уперся в философию и политику» и не понимает «изящных искусств»[95]. Впрочем, это ещё далеко не разрыв: отец-основатель посещает Дурова в «неприемные» дни, а дуровцы по-прежнему вхожи на его «пятницы».
Из попавших в руки властей бумаг Александра Пальма особое внимание привлекла та, где были означены пятнадцать человек – участники тех вечеров, о которых следствие пока оставалось в полном неведении:
Шестнадцатым был Момбелли: фамилия его с отметкою за первый месяц почему-то вычеркнута из списка. (Может быть, он замедлил с внесением помесячной платы, которая для каждого из участников составляла посильные три рубля. Кстати, за второй месяц не внес положенную лепту и Ф. Достоевский, что неудивительно, если принять во внимание его отчаянные письма к Краевскому, как раз приходящиеся на февраль, март и апрель, с просьбами о денежной помощи.)

С.Ф. Дуров
Кружок украшают своим присутствием литераторы: в том числе, один знаменитый (Достоевский) и один довольно известный (Плещеев). Сам Дуров также пописывает. (Возможно, это наследственная черта: в числе его родственников по восходящей линии – привеченная Пушкиным Надежда Дурова – героиня 1812 года, «кавалерист-девица».) Пописывают Михаил Достоевский, Милюков, Григорьев и Пальм. Да и едва ли не все остальные станут в будущем авторами: заявят себя в тех или иных отраслях письменного труда.
Конечно, круг этот по силе и изощренности дарований, его составлявших, явно уступает тому, какой обретался вокруг покойного Белинского и откуда автор «Бедных людей» вынужден был удалиться – с уязвленным сердцем и с горьким осадком в душе. Здесь нет Панаевых, Некрасовых, Тургеневых, Григоровичей, Анненковых и т. д. Нет здесь, разумеется, и «аристократов» – Соллогубов и Одоевских. Отсутствуют даже Майковы (в том числе Аполлон, хотя последний, как мы ещё убедимся, чуть было не появился). Дух журнальной борьбы, соперничества, тайных писательских склок начисто отсутствует в этом окололитературном кругу. Но и в обществе Петрашевского, вдохновенного демагога, возбудителя сухих головных страстей (к тому же – с подозрением относящегося к искусству), он не может ощущать себя вполне «своим». Он ищет более подходящую нишу.
«После первого вечера у Петрашевского, – показал Григорьев, – Дуров зазывал меня и Монбелли (это имя современники часто пишут через “н”. – И. В.) к себе и говорил, что ему противен Петрашевский, называл его быком и человеком без сердца»[96]. После чего Дуров и предложил «составить» свои вечера – «литературные»: для большего, как он выразился, сближения.
«…В нем, – скажет впоследствии о Дурове А. П. Милюков, – не было никаких чисто революционных замыслов, и сходки эти, не имевшие не только писаного устава, но и никакой определенной программы, ни в каком случае нельзя было назвать тайным обществом».

Михаил Михайлович Достоевский.
Рисунок (карандаш) К. Трутовского. 1847 г.
Законопослушный Милюков полагает, что у Дурова собиралась «кучка молодежи более умеренной»[97]. На первый взгляд, это выглядит действительно так. Недаром Достоевский рисует на следствии столь же благостную картину: «Приглашались в это собрание другие, открыто, прямо, безо всякого соблазна; никто не был завлечен приманкой посторонней цели…»[98]
Позднейший воспоминатель – граф П. П. Семёнов-Тян-Шанский тоже толкует о целях. Он говорит, что для Дурова революция (граф выражается именно так) «по-видимому, казалась средством не для достижения определенных целей, а для сокрушения существующего порядка и для личного достижения какого-нибудь выдающегося положения во вновь возникшем»[99].
Иначе говоря, одному из участников дела приписан некий личный мотив. Это в высшей степени любопытно. Выходит, что Дуров печется не столько об общем благе, сколько тщится изменить собственную судьбу, своё положение в мире…
Была ли такая цель у автора «Бедных людей»? Об этом стоит сказать чуть позже.
Знал ли Достоевский, чьи предки долгое время обретались на территории Великого княжества Литовского, что небогатый дворянский род Дуровых тоже происходит из Литвы? Дуровы выдвинулись при Иване Грозном, который о них говаривал: «И развлечь сумеют, и тайну сохранят». Вряд ли Сергей Фёдорович Дуров был причастен той тайне, которая исподволь вызрела в недрах его кружка, но развлечь почтенную публику он старался. Среди его родственников (уже по нисходящей) окажутся те, кого любит народ: знаменитые дрессировщики – укротители зверей. Стоит ли удивляться, что будущий «Уголок Дурова» затмит совокупную славу всех российских интеллигентских кружков?
Дуров на пять лет старше Достоевского. Он образован: закончил университетский пансион. Его карьера не удалась. Он служил в Государственном Коммерческом банке, затем – переводчиком в канцелярии Морского министерства. Недавно, в 1847-м, он, подобно братьям Достоевским, тоже вышел в отставку – дабы жить исключительно литературным трудом. Печатается он нерегулярно и мало. Рассчитывает ли он на то, что «революция» улучшит качество его стихотворных творений и откроет путь к славе?
«Для него это тем более было необходимо, – продолжает Семёнов-Тян-Шанский, – что он уже разорвал свои семейные и общественные связи рядом безнравственных поступков и мог ожидать реабилитации только от революционной деятельности, которую он начал образованием особого кружка…»[100]
Трудно сказать, на какие «безнравственные поступки» намекает осведомлённый мемуарист. Но интересен ход его рассуждений. Если Дуров ждёт от «революции» изменения своих частных обстоятельств, то чем, спрашивается, он лучше Липранди, который, если верить его недоброжелателям, инициировал политический процесс («контрреволюцию»!) – с тем, чтобы найти в нём спасение от якобы грозивших ему служебных невзгод?
Сокрытые от любопытных глаз интересы личные могут порой повести к событиям историческим.
Под музыку Россини
Достоевский и Дуров проведут бок о бок четыре года – на нарах омской каторжной тюрьмы. Они покинут её в один день. Что-то тяжёлое случится там между ними. Очевидец утверждает, что «они ненавидели друг друга всею силою души, никогда не сходились вместе и в течение всего времени нахождения в Омском остроге не обменялись между собою ни единым словом». Возможно, свидетель преувеличивает. Но, во всяком случае, каторга не сделает их братьями. «…Они оба пришли к заключению, – пишет знавший их обоих Семёнов-Тян-Шанский, – что в их убеждениях и идеалах нет ничего общего и что они могли попасть в одно место заточения по фатальному недоразумению».

М.М. Достоевский.
Фотография. 1850-е гг.
Дело, очевидно, не только во вдруг открывшейся разности идеалов. Вряд ли чёрная кошка могла пробежать между двумя арестантами из-за несовпадений в трактовке тех или иных тонкостей гармоничной системы Фурье. Причина размолвки, скорее всего, в человеческом (может быть, даже «слишком человеческом») – в том, что всегда выступает на авансцену в ситуациях крайних – когда человек, освобождаясь от внешних покровов, становится не только более смертен, но и – душевно – более наг.
Но пока, на свободе, Достоевский поспешает на дуровские вечера. И затем, оказавшись в крепости, всячески выгораживает подельника.

Ф.Н. Львов.
Фотография. 1860-е гг.
На первом же допросе ему была предъявлена вызвавшая особую тревогу Следственной комиссии фраза Дурова, «что нужно посредством литературы показывать чиновникам самый корень зла, или иначе – высшее начальство»[101]. Достоевский немедленно отвечает, что «зная его (т. е. Дурова. – И. В.) образ мыслей», он убеждён, что слова эти либо «не поняты передававшим их» (так, походя, ставится под сомнение профессиональная компетентность Антонелли), либо «сказаны в припадке, в досаде от противуречий, в горячке». Тонкий сердцевед и психолог, он спешит указать следователям на «смягчающие обстоятельства»: трудный характер своего товарища по несчастью. «Я знаю Дурова как за самого незлобивого человека; но вместе с тем он болезненно раздражителен, раздражителен до припадков, горяч, не удерживается на слова, забывается и даже из противуречия говорит иногда против себя, против своих задушевных убеждений, когда раздражён на кого-нибудь»[102]. Иначе говоря, «задушевные убеждения» Дурова вовсе не совпадают с их вербализацией в случайных и неосновательных спорах. Нельзя придираться к словам (ибо, как справедливо выразился поэт, чьим стихом Достоевский мог бы подкрепить свои тюремные заметы, «мысль изреченная есть ложь»). «Кто не будет виноват, если судить всякого за сокровеннейшие мысли его или даже за то, что сказано в кружке близком, тесном, приятельском, чуть ли не наедине[103]?» Автор показаний напоминает следователям, что на этот счёт существуют тонкие юридические дефиниции. Частные разговоры не должны становиться предметом полицейского внимания, ибо «семейный и публичный человек – лица разные». Элементарнейшие правовые истины втолковываются Достоевским общедоступно, благожелательно, терпеливо. Допрашиваемый словно бы заранее «подстраховывает» себя и своих подельников от возводимых на них напраслин. «Представляю эти наблюдения и замечания мои по долгу справедливости, по естественному чувству, убежденный, что я не вправе скрыть их теперь, при этом ответе моём»[104], – плавно заключает Достоевский.
Другие подследственные более откровенны.
На требование Комиссии открыть, по какому случаю проявилось у него либеральное или социальное направление, Н. Григорьев прямодушно ответствует: «Я прежде не ведал об этом, а узнал со времени моего знакомства с Достоевским, Дуровым и его кружком…»[105] Сын генерал-майора, поручик лейб-гвардии Конно-гвардейского полка, он склонен объяснить своё падение тлетворным влиянием искусивших его лиц. «Видя во мне практика (он хочет сказать – военного? – И. В.), социалисты заманили меня… Потом меня закрутили. Плачевный конец вы знаете»[106].
Достоевский никогда не будет объясняться с Комиссией в подобном тоне.
Между тем в арестованных бумагах Пальма следствие обнаруживает ещё один обличительный документ:
РАСХОД НА ВТОРОЙ ВЕЧЕР
Вещественная сторона духовных по преимуществу трапез (в коих принимает участие не менее пятнадцати человек) обходится крайне недорого: в каких-нибудь десять рублей.
Декабристы, если верить литературной традиции, предпочитали шампанское. Они толковали о политическом перевороте в России «между Лафитом и Клико». («…Вся будущность страны, – скажет Чаадаев, – в один прекрасный день была разыграна в кости несколькими молодыми людьми, между трубкой и стаканом вина».) Дуровцы ограничиваются «хересом и Медоком». Как свидетельствуют улики, их гастрономические потребности очень скромны.
Более состоятельный Петрашевский угощал гостей холодным ужином. Приемы у Дурова делались в складчину.
В новом кружке хотели толковать «об изящном». «Политики» пусть скучают в Коломне. В отличие от них членов новой ассоциации можно было бы именовать «эстетиками». «Поэзия, музыка, живопись были культом нашего небольшого кружка», – вздохнет элегически Пальм по прошествии жизни – в 1885 году.
«…Общество чисто литературно-музыкальное, и только литературно-музыкальное»[109], – усиленно втолковывает Комиссии Достоевский. «Переноска фортепьян – 1.20» – значится в приведенной выше и приобщенной к делу записи субботних расходов, что косвенно как бы подтверждает справедливость его слов. (Не за эти ли фортепьяны присядет однажды заглянувший на огонёк Глинка?)
Достоевский любил хорошую музыку.
Именно здесь, под звуки Россини, «бывший студент» Филиппов высказал мысль литографировать бесцензурно, а штабс-капитан и «репетитор химии» Львов – предложил свои технические услуги.
Интересно, что сам разговор возник не случайно. Об умножении текстов заговорили после прочтения всё того же письма Белинского Гоголю (оно читалось у Дурова дважды – ещё до оглашения на «пятнице» 15 апреля).
Эпизод с литографией изложен в показаниях Достоевского и подтвержден другими участниками собраний. Факт этот вызывает недоумение.
На всем протяжении следствия Достоевский придерживается железного правила: он никогда не говорит о том, о чём его не спрашивают. Он не называет ни одного имени, которое и без того не было бы известно следствию; он не касается ни одного сюжета, о котором господа члены Комиссии уже не были бы осведомлены.
Предложение Филиппова представлялось в высшей степени дерзким. И упоминание о нём (даже со всеми смягчающими оговорками) грозило виновным, и в первую голову самому Филиппову, серьёзными неприятностями.
Не будем говорить о нравственном облике Достоевского: тут автор «Бедных людей» сам постоит за себя. Но и тщательно продуманная им тактика поведения исключает предположение, будто он мог «расколоться». Откуда тогда Комиссия узнала про литографию?
Об этом поведал ей не кто иной, как сам Павел Филиппов.
Приведём доказательства.




