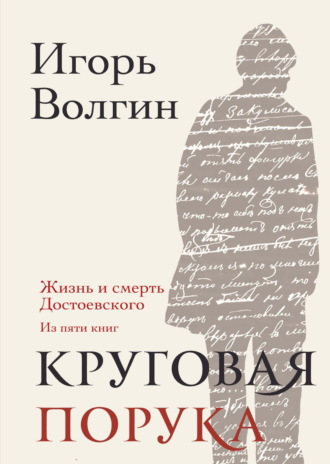
Игорь Волгин
Круговая порука. Жизнь и смерть Достоевского (из пяти книг)
Грустная повесть из жизни Филиппова
Дело Филиппова утрачено. Поэтому у нас нет возможности проанализировать его собственный текст. Но во всеподданнейшем докладе генерал-аудиториата, где обобщены все следственные и судебные материалы, говорится: «Сам Филиппов с первого допроса (курсив наш. – И. В.), сделав сознание во всём вышеизложенном…»[110] Среди «вышеизложенного» наличествует и сюжет с литографией.
Свои показания Достоевский давал постепенно – в течение нескольких дней (большинство его ответов не датировано). В предварительном письменном объяснении, которое предшествовало формальному (по пунктам) допросу, он вообще ни слова не говорит о кружке Дурова, очевидно, полагая, что эта информация укрылась от любопытства Комиссии. Наконец, его спрашивают напрямую – и на это краткое вопрошение он отвечает весьма пространно. Сам характер его ответов свидетельствует о том, что всё, о чём он счёл нужным осведомить Комиссию (включая и эпизод с литографией), так или иначе фигурировало при устных расспросах. Отвечая письменно, он тщательнейшим образом учитывает содержание этих прелиминарных бесед.
Он знает, что они знают. И стараясь не отрицать уже известные факты, он пытается дать этим фактам собственное истолкование.
Он уверяет Комиссию, что мысль Филиппова не имела никаких реальных последствий. Хотя ей и сопутствовали некоторые – праздные, в сущности, – разговоры.

В.Г. Белинский
Сначала Филиппов, как явствует из других показаний, всего лишь предложил переписывать разные статьи – для распространения в публике. «Впрочем, я не помню, чтобы Филиппов произнёс слов: в либеральном духе…» – как всегда, старается выгородить товарища Достоевский. Просто предлагалось заняться разработкой «статей о России», «делиться друг с другом нашими наблюдениями и познаниями». Это выглядит совершенно невинно. Остается, правда, неясным, почему «статьи о России» (этот своего рода совместный учёный проект) нельзя отдавать в печать, а следует непременно переписывать от руки.
Новая инициатива Филиппова в корне меняет дело. Достоевский называет его предложение «несчастным», разумея, конечно, угрозу печальных последствий. Ибо в России заниматься подобной деятельностью волен не каждый.
В законе сказано: «Право содержать типографию или литографию не иначе может быть приобретено, как по представлении просителем достаточных свидетельств о его благонадежности. Свидетельства сии рассматривает Министерство внутренних дел и, в случае удовлетворительности оных, об открытии означенных заведений сносится с Министерством народного просвещения».
Между тем сведущий в прикладной учёности Львов, исчислив цену литографического камня, заключил, что всё предприятие может обойтись около двадцати рублей серебром. Достоевский при этом справедливо заметил, что присутствующие «незаметно уклонились в опасный путь, и что он на это вовсе не согласен». Никто ему не перечил.
Не одобрил идею и брат Михаил Михайлович. Он признает на следствии, что примерно после пятого вечера «наши мирные сходки начали принимать характер политический».
Достоевский в свою очередь подтвердил: Михаил Михайлович объявил ему, что не будет больше посещать Дурова, «если Филиппов не возьмет назад своего предложения», и что то же самое было говорено Филиппову.
«Наш государь милостив, – скажет Григорьев на следствии. – Он очень понимает, что между Петрашевским и М. Достоевским большая разница»[111]. Должен ли государь понимать то же самое относительно Фёдора Достоевского? Григорьев об этом умалчивает, но, очевидно, имеет в виду. Ибо «всему вина Петрашевский и Белинский». Что же касается остальных, то они далеко не безнадёжны. «Мы все заблуждающиеся, но честные люди». Григорьев, как бы для облегчения следовательских трудов, даже набрасывает краткий списочек тех, у кого, по его мнению, есть перспектива: «Повторяю, если б не Петрашевский, эти молодые люди, в особенности такие практические головы, как Достоевские, Монбелли, Дуров и Милюков, помечтав, обратились бы на путь полезный и принесли б много пользы отечеству»[112].
Достоевский великодушно отнесен здесь к разряду «практических голов». «Помечтав», он вполне ещё может исправиться. Воззвав к милости государя, Григорьев уверяет монарха, что указанные лица показались ему, Григорьеву, «не злыми, не способными на очень дурное (курсив наш: на “просто дурное” способны, видимо, все. – И. В.), но любящими потолковать, поболтать, ругнуть подчас». И для искоренения подобных досад сын генерал-майора рекомендует простейшее средство: «Я полагаю, что если бы дать им ход, способы комфорта, из некоторых из них вышли бы деловые и верные тебе, государь, люди»[113].
Увы: государь не внемлет этому доброжелательному совету. Ни «хода», ни «способов комфорта» никому предоставлено не будет.
Что же касается лично его, Григорьева, он согласен на малое: «Да, мои почтенные судьи, не для того, чтобы сидеть в каземате я готовил себя. Теперь молю только о свежем воздухе да клочке земли, где бы я мог жить и умереть спокойно, благословляя своего государя»[114].
«Свежий воздух и клочок земли» – вовсе не поэтическая метафора. Это – подсказка. Наивный, он полагает, что дело может закончиться ссылкой.
Тяга к писанию не сойдет ему с рук.
Цена графоманства
7 апреля на обеде у Спешнева поручик Григорьев огласит творение своего пера под названием «Солдатская беседа». Предназначенное как бы для «народного чтения», сочинение это очень напоминает другой, ещё не написанный и сокрытый в грядущем текст. А именно – знаменитую прокламацию «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон»: за неё автора (впрочем, авторства своего не признававшего) на много лет упекут в Сибирь. Как и Чернышевский, Григорьев старается быть простым и доступным каждому мужику. События во Франции излагаются им в высшей степени популярно: «Король слышь больно деньги мотал, богачей любил, а бедных обижал. Да вот в прошлом году как поднялся народ да солдаты – из булыжнику в городе сделали завалы (слово «баррикады» ещё дико для девственного народного слуха. – И. В.), да и пошла потеха. Битва страшная. Да куда ты, король с господами едва удрал. Теперь они не хотят царей и управляются, как и мы же в деревне. Миром с обща и выборным». Так система Второй республики ненавязчиво сопрягается с милым солдатскому сердцу общинным порядком родного села. Сходство с прокламацией Чернышевского заметно ещё и в том, что оба сочинения, рассчитанные на читателей малограмотных, будут тщательно изучены говорящим по-французски начальством и дальше него не пойдут.
В «Солдатской беседе» употреблены выражения сильные: «Царь строит себе дворцы, да золотит б… да немцев». Великий князь Михаил Павлович поименован «рыжей собакой». Сам государь изображён в качестве держиморды, который гоняется «за солдатиками» по кабакам и собственноручно тузит подвыпивших служивых[115].
Император Николай Павлович был в этом отношении весьма щекотлив. Григорьева в числе первых трёх привяжут к столбам, прежде чем он (как и другой офицер – поручик Момбелли) получит свои пятнадцать лет.
Милюков через три десятилетия припомнит, что к григорьевской «статье», где излагался известный в городе анекдот, Достоевский «отнесся неодобрительно и порицал как содержание ее, так и слабость литературной формы»[116].
Достоевский верен себе: в сочинении абсолютно нецензурном он находит литературные изъяны. Видимо, он не слишком лукавит, заявив следователям, что впечатление от статьи «было ничтожное» и что если кто-нибудь и сказал несколько одобрительных слов, то исключительно из учтивости. Да и трудно ожидать, чтобы автором «Бедных людей» было одобрено сочинение, которое начинается фразой: «Жестокий мороз трещал на улице» (что легко заменимо ещё более емким «Мороз крепчал»). Вряд ли его привлекала возможность начать великое дело переустройства России с обнародования подобной прозы.
Объясняя дотошной Комиссии, почему он в первом своём показании ничего не сказал про «утро» у Спешнева, где читалась «Солдатская беседа», Достоевский приводит в своё оправдание неотразимые доводы. Зачем-де было распространяться об этом обеде, если там не происходило ничего интересного. А продолжался всё тот же, для всех неприятный спор о литографии. «Впрочем, утро было самое скучное и вялое, потому что между Спешневым и Дуровым, как мне показалось, были недоумения. Эти недоумения, сколько я знаю, возникли из-за предложения филипповского»[117].
Он не уточняет характер этих «недоумений». Но, как можно понять из других источников, Спешнев решительно отказался от предложения перенести дуровские вечера к нему. Да и это утро, как скажет один из подследственных, хозяину навязали. Спешнев дорожит своей независимостью и не желает связывать себя никакими кружковыми обязательствами. Во всяком случае, его не устраивает этот кружок. Кажется, он очень недоволен тем, что филипповская затея вообще обсуждается.
Вряд ли можно заподозрить Спешнева в робости. Значит, у него (как, впрочем, и у Достоевского) имеются свои резоны.
Все спрошенные в связи с литографией согласны в одном: братья Достоевские дружно выступили против. По возрасту они старше многих членов кружка. Неудивительно, что именно им надлежало проявить осторожность. Сделать это было тем легче, что предложение Филиппова не вызвало особенного энтузиазма. «Все чувствовали, что зашли слишком далеко, – говорит Достоевский, – и ждали, как каждый выскажется». Это затруднение носило, как ему представляется, скорее психологический характер: «Не знаю, может быть, я ошибся, но мне показалось, что половина присутствующих только оттого тут же не высказали противного Филиппову мнения, что боялись, что другая половина заподозрит их в трусости…»[118] Он хочет уверить Комиссию, что вся эта история не стоит выеденного яйца.
Итак, версия Достоевского такова: предложение Филиппова было необдуманно и случайно. Оно не имело никаких дурных результатов. Сам же он, Достоевский, действуя «легкой насмешкой», споспешествовал тому, чтобы это предложение было окончательно «откинуто».
И тут мы сталкиваемся с ещё одной – правда, уже позднейшего происхождения – загадкой. Относительно дуровского кружка до сего времени наблюдается известное разномыслие. Если одни исследователи считают посетителей дуровских вечеров умеренным крылом петрашевцев, то другие, напротив, склонны полагать, будто у Дурова собирались как раз наиболее радикальные из них. Причём каждое из этих, казалось бы, взаимоисключающих мнений находит подтверждение в источниках.
Разумеется, трудно не согласиться с тем, что, например, такие члены кружка, как Дуров, Пальм, Милюков или Михаил Достоевский, были далеки от каких-либо серьёзных антиправительственных поползновений. Но – с другой стороны…
Ночной визит к Аполлону Майкову
…В 1922 году был впервые обнародован документ, который не вызвал тогда особой сенсации.
Речь идет о письме поэта Аполлона Николаевича Майкова историку литературы Павлу Александровичу Висковатову. (Кстати, тому самому, на которого как на источник ссылается Страхов, поверяя Л. Толстому знаменитую (в будущем) сплетню о растлении Достоевским малолетней девочки.) Письмо было написано через четыре года после смерти Достоевского – в 1885 году. Майков не отправил это послание адресату, и оно почти четыре десятилетия дожидалось своего часа.
Повод к написанию письма оказался сугубо культурного свойства.
«Жид Венгеров» (как изящно выражается Майков) в своей «Истории русской литературы» имел неосторожность упомянуть о молодости поэта. Этот неуч и сукин сын, жалуется Майков другому знатоку отечественной словесности, «говорят, написал, что я участвовал в деле Петрашевского и изменил потом его святым принципам». Такое искажение исторической правды глубоко возмутило 64-летнего Майкова. Может быть, именно поэтому он решился нарушить (правда, в частном и, повторим, так и не отосланном письме) данный когда-то обет молчания.
«К делу Петрашевского действительно я был прикосновенен, но скажу с достоверностью, что этого дела никто до сих пор путно не знает; что видно из «дела», из показаний. Все вздор, главное, что в нём было серьёзного, до Комиссии не дошло»[119].
Русские тайны остаются мало что не разгаданными: даже о самом их наличии ни современники, ни потомки порой не имеют понятия. В 1885 году Майков приоткрывает завесу. Через тридцать шесть лет (1922) его письмо публикуют. Пройдёт ещё три десятилетия – и в бумагах поэта А. А. Голенищева-Кутузова обнаружат черновую тетрадь, содержащую сделанную в 1887 году карандашную запись. Это будет рассказ всё того же Майкова, изложенный им ранее в письме к Висковатову, а через два года повторенный Голенищеву-Кутузову и тогда же им записанный.
В обоих документах речь идет об одном и том же: о намерении Достоевского в 1849 году учредить вместе с другими тайную типографию.
«Заводите типографии! Заводите типографии!» – этот обращенный к России глас раздастся из Лондона спустя почти полтора десятилетия после процесса петрашевцев. Правда, первый русский свободный станок заработает уже в 1853 году, но он будет действовать на чужбине.
Радищев печатал свою книгу открыто, хотя трудно понять, на что он рассчитывал. У декабристов был свой легальный альманах; они, кажется, не помышляли всерьёз о тайной печати.
Дело, в котором участвовал Достоевский, – первая в России попытка такого рода.
Она чуть было не увенчалась успехом.

А.Н. Майков
Призванный в Следственную комиссию Аполлон Николаевич Майков не напрасно старался вызвать у её членов чувство здоровой мужской солидарности, когда позволил себе игривую шутку относительно тех неудобств, которые мог бы претерпеть в будущем фаланстере, где все на виду, неженатый молодой человек, принимающий даму. (Бесхитростный приём удался: «общий смех, и, очевидно, все симпатизируют мне».) Сколь бы хотелось ему, чтобы вся беседа велась в таком же легкомысленном роде! Единственный (как он полагал) оставшийся на свободе хранитель тайны, он более всего опасался, что добродушно похохатывающие генералы, отсмеявшись, спросят его о разговоре, который состоялся у него с Достоевским той памятной ночью.
(Заметим в скобках, что решающие события в жизни Достоевского, начиная с его дебюта, совершаются в ночное время. Он так и останется навсегда «совой», приурочив литературную работу к этим своим часам.)
Майков говорит, что Достоевский явился к нему «в возбужденном состоянии». У него к хозяину имелось «важное поручение».
Время было позднее, и гость остался у Майкова ночевать.

А.Н. Майков
По-доброму интригуя читателя, один исторический беллетрист (в одной из прежних книг почтительно названный нами Ч.Б., то есть Чувствительный Биограф) так живописует сцену несостоявшегося майковского падения: «Только когда улеглись – Майков в своей кровати, Достоевский на диване напротив, – началось главное».
Достоевский аффилирует (или, выражаясь доступнее, вербует) Майкова: для успешной деятельности типографии потребны профессионалы. Причем, не только «техники», но и – литераторы. Называются имена семерых потенциальных типографов. Майкову предлагается быть восьмым.
Майков так передаёт слова Достоевского: «Вы, конечно, понимаете, что Петрашевский болтун, несерьёзный человек и что из его затей никакого толка выйти не может. А потому из его кружка несколько серьёзных людей решились выделиться (но тайно и ничего другим не сообщая) и образовать особое тайное общество с тайной типографией для печатания разных книг и даже журналов, если это будет возможно»[120].
«Для печатания разных книг и даже журналов» – цель поставлена именно так. То есть, мог иметься в виду и бесцензурный периодический орган (первый в России подпольный журнал!). Весной 1847-го дебютировавший в «Санкт-Петербургских ведомостях» в качестве фельетониста Достоевский, как видим, готов продолжить журналистскую карьеру «записками из подполья» – разумеется, несколько иного толка, чем классические «Записки».
Любопытна также аргументация. Почему Петрашевский – человек несерьёзный? По логике Достоевского, он своего рода Репетилов. Необходимы не разговоры, а дело. Инициатива теперь переходит в руки «серьёзных людей».
Это кажется невероятным.
В одну историческую ретроспективу как бы вписаны два взаимоисключающих плана. То самое лицо, которое мудро и с «легкой насмешкой» отвергло филипповский прожект, теперь ввязывается в предприятие, несравненно более опасное. И изо всех сил старается втянуть в него других лиц.
Закон так отзывается о подобных намерениях:
«Всяк, кто, не приобрев законным образом права на содержание типографии, уличен будет в печатании рукописи или книги, хотя бы оная, впрочем, ничего вредного в себе не содержала и даже напечатана была с одобрения цензуры, подвергается трехмесячному заключению, отобранию всего типографского заведения, всех напечатанных экземпляров и пени пяти тысяч рублей».
Менее всего Достоевский и его друзья собирались печатать что-либо «с одобрения цензуры». Дабы в крайнем случае отделаться трехмесячным заключением и громадным, но всё же менее ощутимым, нежели смертный приговор, денежным штрафом.
На едва ли не риторический вопрос Достоевского, желает ли он, Майков, вступить во вновь образованное тайное общество, Аполлон Николаевич, естественно, отвечает вопросом: с какой, собственно, целью? И получает исчерпывающий ответ: «Конечно, с целью произвести переворот в России. Мы уже имеем типографский станок, его заказывали по частям в разных местах, по рисункам Мордвинова; все готово»[121].
На это Майков, ровесник Достоевского, резонно возражает, что он не только не желает вступать в указанное сообщество, но и другим советует отстать от него. «Какие мы политические деятели? Мы поэты, художники, не практики, и без гроша. Разве мы годимся в революционеры[122]?»
Любопытно, что материальная бедность является в глазах Майкова серьёзным препятствием для участия в революционных затеях. Он упускает из вида, что для такого случая могут найтись богатые спонсоры.
Автор «Двойника» меж тем стоит на своём.
Ночной гость, по свидетельству хозяина дома, сидит перед ним «в ночной рубашке с незастегнутым воротом» (в записи Голенищева-Кутузова её цвет – очевидно, в соответствии с замышленным делом – обретает красный гарибальдийский оттенок) и горячо убеждает Майкова примкнуть к полезному для отечества начинанию.
В 1849 году все это выглядит чистейшим безумием.
«Поутру Достоевский спрашивал:
– Ну, что же?
– Да то же самое, что и вчера. Я раньше вас проснулся и думал. Сам не вступлю и, повторяю, – если есть ещё возможность, – бросьте их и уходите.
– Ну, это уж моё дело. А вы знайте. Обо всем вчера <сказанном> знают только семь человек. Вы восьмой – девятого не должно быть!
– Что до этого касается, то вот вам моя рука! Буду молчать»[123].
К Майкову явятся не скоро: 3 августа – через три с половиной месяца после того, как возьмут остальных. Дело, разумеется, будет происходить на рассвете.
«Что бы я сказал?»
(К протоколу ночного допроса)
Накануне Дубельт направит полковнику корпуса жандармов Станкевичу (запомним имя: нам ещё придется встретиться с ним в ситуации драматической) следующее предписание: «…Предлагаю Вашему Высокоблагородию отправиться завтра 3-го Августа, в шесть часов утра, к библиотекарю Румянцевского музеума Аполлону Майкову, квартирующему в Большой Садовой в доме Аничкова, опечатать все его бумаги и оныя вместе с ним доставить в 3-е отделение собственной Его императорского Величества канцелярии»[124].
Майков говорит, что перед отъездом из дома он вместе со своим гостем напился чаю.
В III Отделении (как о том единодушно свидетельствуют все там побывавшие) обращались любезно и подавали обед, после которого Майков «преспокойно заснул». В десять часов пополудни его разбудили и повезли в крепость.
Однако он не был немедленно заточен в каземат. Его доставили в комендантский дом: там (как когда-то, в 1826-м) заседала Комиссия. В XIX веке тоже порой любили допрашивать по ночам.
В ожидании, когда его позовут, Майков рассматривал висящие на стенах виды Венеции. (Их, несомненно, обозревал и приводимый сюда Достоевский, в юности тщившийся сочинить роман «из венецианской жизни»: то-то порадовался встрече.) Он также пытался растолковать привезшему его в крепость жандармскому офицеру («из простых» [125]), что в этом чудном город нет ни улиц, ни лошадей, а только каналы, по причине чего кухарки отправляются за провизией исключительно в лодках; аналогичным образом передвигаются и купцы. Жандарм упорно молчал и смотрел недоверчиво: он принимал арестованного за опаснейшего враля.
Наконец, его пригласили. Майков довольно подробно воспроизвёл это ночное действо, особо отмечая приветливость Дубельта. Что и позволило Майкову отпустить уже известное нам замечание насчет неудобств системы Фурье. Но вплоть до последней минуты он ждал.
«Слава Богу, что не спрашивали о типографии: что бы я сказал?» – напишет он Висковатову, всё ещё сохраняя в душе тот давний полуночный страх.
Сюжет с типографией действительно не был затронут. Это можно подтвердить документально. Следственное дело «О титулярном советнике Майкове», хранящееся в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА), бесстрастно свидетельствует, что поэту вполне удалась его роль.

Ф.М. Достоевский.
Рисунок Трутовского. 1847 г.
Он кратко, но дельно отвечает на обычные в таких случаях вопросы: о родителях, где воспитывался, в какой должности состоит и т. д. и т. п. При этом не забывает присовокупить, что в начале 40-х годов «имел счастье обратить внимание Государя Императора на мои сочинения (книжка стихотворений) и на произведенную мною картину, вследствие чего получил Высочайшее пособие и позволение ехать в Италию…» Ни движимого, ни недвижимого состояния не имеет; живет жалованьем в размере 1500 рублей ассигнациями (разумеется, в год), а также «литературными трудами»[126].
На вопрос, с кем он имел «близкое и короткое знакомство», Майков отвечает, что близких друзей у него нет, за исключением разве двух старых товарищей. Посещает же он главным образом знакомых семейства – тех, кто в свою очередь ходят к ним. Далее следует осторожная фраза, которая как бы предваряет могущие возникнуть подозрения: «Занимаясь литературой, весьма естественно, знаком с большей частью литераторов; впрочем, – спешит добавить вопрошаемый, – коротких сношений с ними не имею»[127]. Комиссии дается понять (в случае если она знает), что никто из знакомых литераторов не стал бы делиться с поэтом своими сокровенными тайнами.
Отвечая на вопрос о сношениях своих «внутри Государства и за границею», он вновь позволяет себе иронический тон: «Не только за границей, но и внутри России я писем не пишу и оттуда не получаю; если получу письмо, то с какой-нибудь комиссией от моей бабушки»[128].
Его просят истолковать слова Петрашевского, что существует ещё «общество литераторов», в котором главную роль разыгрывает сам Майков и братья Достоевские, и что якобы они распускали слух, будто Петрашевского вскоре хотят схватить. Майков раздумчиво предполагает, что Петрашевский таким странным способом мог отозваться на то, что он, Майков, позволил себе смеяться над ним. «Общества же литераторов я не знаю, то есть положительно организованного общества. Что же касается до цели (было спрошено, не совпадает ли она с целями Петрашевского. – И. В.), то цель моя, как литератора, состоит в достижении доступного моим силам достоинства моих сочинений», – со сдержанным благородством завершает поэт.
«Не принадлежали ли вы к какому-либо тайному обществу?» – грозно сдвигает брови Комиссия. «Никогда не принадлежал и уверен, что принадлежать не буду», – твёрдо ответствует Майков. Его спрашивают, не ведает ли он о каком-нибудь злоумышлении, и просят показать о сем «с полною откровенностию». И вновь библиотекарь Румянцевского музеума не даёт слабины: «О злоумышлении мне неизвестно никакой, и если бы я знал, то объявил бы».
«Надо сказать, – заметит он позднее, – в моих ответах не было никакой лжи…»
В его ответах не было никакой лжи; не было в них, однако, и чаемой следствием истины. «Меня все ещё как будто связывает слово, данное в “эту ночь” Достоевскому, – напишет он в 1885 году. – … Впрочем, когда-нибудь это опишу все порядочнее и подробнее; особенно это приходит мне в голову, когда жиды и кретины станут писать свои истории о нас».
«Дитя добра и света», он не может скрыть дурных исторических предчувствий…[129]
Но вернёмся к ночному допросу.
Кроме одного беглого упоминания (в связи с «обществом литераторов»), имя Достоевского больше не возникает в протоколе допроса. Однако об авторе «Белых ночей» Майков, по-видимому, был спрошен устно. Причём в достаточно нейтральном контексте.
«О Дост<оевско>м, – пишет Майков Висковатову, – говорил с чувством и сожалением, что разошелся с ним, что расходился он вообще из большого самолюбия и неуживчивости».
В записи Голенищева-Кутузова это изложено более подробно:
«Я сказал, что знаю Достоевского и очень его люблю, что он человек и товарищ хороший, но страшно самолюбив и неуживчив, что он перессорился со всеми <после> успеха своих “Бедных людей” и – что единственно со мною не было положительной ссоры, но что в последние годы (я нарочно распространил несколько время, ибо, действительно, после этого разговора мы почти не видались) Достоевский ко мне охладел и мы почти не видались»[130].
Этим психологическим этюдом Майков и ограничился.
Когда ему сказали «можете идти – вы свободны», Майкову стало «ужасно весело» – именно потому, «что не спросили ничего о “той ночи”». Он вспоминает, как вышел из светлой комнаты в совершенно темный коридор, пошел наудачу и натолкнулся рукой во тьме на что-то железное: то была звезда генерала Набокова (председателя Следственной комиссии и коменданта Петропавловской крепости). Добрый старик указал ему путь. Он вышел на пустой крепостной двор: луна ярко озаряла стены собора. Где-то, совсем рядом, обретался Достоевский: он мог теперь спать спокойно.



