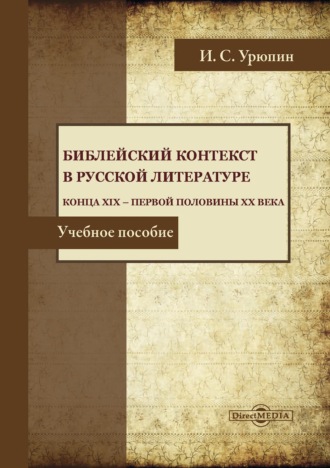
Игорь Урюпин
Библейский контекст в русской литературе конца ХIХ – первой половины ХХ века
Внеевангельские сюжеты евангельской истории в русской литературе начала ХХ века (на материале рассказов Л. Н. Андреева и Ю. Л. Слёзкина)
«Книгой былей» [197, 461] называл Священное Писание В. В. Розанов, размышляя об особом библейском историзме, органично сочетающем конкретно-фактическую достоверность земной истории человечества с ее поистине поэтическим преображением, дающим поразительный эффект вневременного бытия. А потому Библия, утверждал философ, – это «календарь человечества, развернутый в поэму» [197, 461], в которой вечный и неизменный сюжет боговоплощения всякий раз вписывается в новую духовную реальность. Однако современного человека, превозносящего «научные средства» миропознания, зачастую не может удовлетворить отвлеченный духовный опыт и «архаический» авторитет «написателя или написателей отдельных библейских книг», представляющих «официально-церковную» версию священных событий: «мы о многом думаем, – замечал в статье «Библейская поэзия» В. В. Розанов, – что ”этого никогда не было” или что “это, бесспорно, происходило иначе”» [197, 461].
Уже в первые века нашей эры, в период интенсивного распространения христианства на просторах Римской империи, адептов нового религиозного учения чрезвычайно волновала содержательно-фактическая сторона евангельской истории, о которой благовествовали миру ученики Иисуса Христа. Свидетельства четырех из них (Матфея, Луки, Марка и Иоанна) были признаны Церковью «богодухновенными» и составили новозаветный канон, все же остальные, которых, кстати, насчитывалось немало («логии» и «сказания» апостолов Филиппа, Петра, Фомы, Никодима и даже Иуды), стали называться апокрифами («гр. apokryphos тайный, подложный» [209, 64]). Они значительно расходились с формирующимся каноном, не только и не столько противореча ему в догматическом отношении, сколько существенно расширяя сюжетику Евангелий, вводя немало эпизодов, либо не имевших непосредственного отношения к Христу и Его учению, либо трактовавших новозаветные события с определенной степенью тенденциозности. На протяжении веков человечество, пытаясь преодолеть эту тенденциозность в толковании Священного Писания, всевозможные духовно-идеологические шоры и теологические установки, проявляло пристальный интерес к подлинной истории Спасителя и к самой возможности ее «археологии» и «реконструкции», о которой в начале ХХ столетия всерьез заговорила русская религиозная философия. В своей итоговой книге «Свет во тьме», обобщившей опыт духовного искательства отечественных мыслителей рубежа ХIХ–ХХ веков, С. Л. Франк констатировал объективную трудность адекватного восприятия евангельского учения человеком нового времени: «Мы смутно чуем, что в основе этого учения лежат какие-то древние, архаические представления, быть может, полные таинственной мудрости, нам непосредственно уже недоступной» [233, 72].
Разгадать нравственно-этическую сущность Христова учения, приблизив его к современности, сделав его максимально «доступным» и понятным, попытались русские писатели начала ХХ века, погрузившиеся в своих «библейских штудиях» в атмосферу сакральной истории, не только осмысляя и переосмысляя Евангелия, но и домысливая их, реализуя художественный потенциал новозаветных микросюжетов и образов. Выйти за пределы канонического пространства Священного Писания и разомкнуть догматический горизонт библейского текста до пределов секуляризованного свободомыслия, не порывающего между тем с христианской традицией, но оригинально продолжающего ее, в равной мере стремились как «богоискатели», так и «богостроители» рубежа ХIХ–ХХ веков. Художественно аккумулируя богоискательские, богостроительские и в то же время богоборческие настроения, русская литература начала ХХ столетия поднялась, по замечанию В. А. Келдыша, до вершин «метаисторической мысли», которая наиболее глубоко оказалась реализована в произведениях «на темы библейской истории»: «мысль эта в ее главной сути устремлена к надвременному содержанию и вместе с тем по-своему осваивает свое историческое время» [120, 352]. Это наблюдение, сделанное ученым на материале произведений Л. Н. Андреева 1900-х годов, совершенно справедливо и по отношению к рассказам Ю. Л. Слёзкина той же самой эпохи, пропущенной художником через призму евангельской метаистории.
Оставляя в стороне событийную канву Евангелий, и Л. Н. Андреев, и Ю. Л. Слёзкин (как равно и другие писатели начала ХХ века, обратившиеся к Священному Писанию исходя из собственного духовного опыта и мировоззрения, а также под влиянием индивидуально-социальной прагматики и конъюнктуры), испытывали потребность «дописать, “договорить” библейскую историю <…> оригинально пересказать известный текст» [89, 34]. Но если в рассказе «Елеазар» (1906) и повести «Иуда Искариот» (1907) Л. Н. Андреев, предлагая во многом парадоксальную трактовку новозаветных событий, пусть и не совпадающих с их канонической, богословско-догматической оценкой, на сюжетно-фактическом уровне все же следует в фарватере Евангелий, то в рассказе «Бен-Товит» (1905) писатель воссоздает атмосферу «страшного дня, когда совершилась мировая несправедливость и на Голгофе среди разбойников был распят Иисус Христос» [9, I, 555], без какого бы то ни было отношения к Библии. Ни фабула рассказа, ни его заглавный герой не связаны ни с одним из Евангелий: автор сообщает о некоем иерусалимском торговце, типичном обывателе, оказавшемся современником и невольным свидетелем крестного подвига Спасителя, о котором ему, занятому своими житейскими проблемами и страдающему от нестерпимой зубной боли, мешающей вообще о чем бы то ни было думать («весь рот и голова полны были ужасным ощущением боли, как будто Бен-Товита заставили жевать тысячу раскаленных до красна острых гвоздей» [9, I, 555]), решительно не было никакого дела. Сосредоточивая внимание на «мучениях» Бен-Товита, являющихся формально смысловым центром рассказа, писатель выстраивает повествование таким образом, что евангельский фон приобретает самодовлеющее значение, а значит – перестает быть просто фоном и становится метасюжетом всего произведения.
Частная жизнь маленького, несчастно-ничтожного человека, эгоистически сосредоточенного на своей зубной боли, страшнее которой, как ему кажется, в мире ничего нет (отсюда экзальтированные капризы Бен-Товита и обидные упреки жене в равнодушии к его страданиям: «он, еле разжимая рот, наговорил ей много неприятного и жаловался, что его оставили одного, как шакала, выть и корчиться от мучений» [9, I, 555]), противопоставлена Л. Н. Андреевым невыразимой муке Спасителя, смиренного несущего на Голгофу свой крест за все человечество. Поистине Сын Человеческий, искупающий собственной кровью грехи мира – всех бесчисленных человеческих сыновей, подобных андреевскому персонажу (имя которого не случайно указывает на его «сыновнюю» сущность: «Бен» в переводе с еврейского означает «сын» [31, 88]), оказывается не понят и не принят теми, ради которых пожертвовал собой, даровав им бессмертие. Христос буквально и метафорически прошел свой скорбный путь мимо Бен-Товита, который так и не внял всем ниспосланным свыше знакам и свидетельствам, призывавшим торговца обратить свой духовный взор на Спасителя: «Несколько раз к нему прибегали дети и что-то рассказывали торопливыми голосами о Иисусе Назорее. Бен-Товит останавливался, минуту слушал их, сморщив лицо, но потом сердито топал ногой и прогонял» [9, I, 556]; даже жена торговца, наслышанная о чудесах Иисуса, пыталась убедить его хотя бы мысленно обратиться к Христу («Рассказывают, что Он исцелял слепых»), но получила в ответ презрительно-ироническое недоумение Бен-Товита: «Ну конечно! Пусть бы Он исцелил вот мою зубную боль» [9, I, 557].
Скептик и рационалист, укорененный в меркантильно-материальной почве, торговец не сумел постичь великий смысл совершившихся в Иерусалиме событий, вселенский масштаб которых не доступен ограниченному сознанию обывателя, зато явлен персонифицированной природе, космические картины которой, введенные в художественную ткань рассказа в качестве контрастирующей параллели к миру слабых и малодушных людей, не замечающих голгофской катастрофы, приобретают символический характер. «Солнце, которому суждено было видеть Голгофу с тремя крестами и померкнуть от ужаса и горя» [9, I, 555], «солнце, осужденное светить миру в этот страшный день» и оставившее после заката «кровавый след, багрово-красную полосу» [9, I, 557], становится скорбным соучастником божественной мистерии наряду с наступившей Ночью, опустевшей Землей и бездонным Небом: «из глубоких ущелий, с далеких обожженных равнин поднималась черная ночь. Как будто хотела она сокрыть от взоров неба великое злодеяние земли» [9, I, 558].
Природно-пространственные образы, приобретающие в эстетической системе Л. Н. Андреева «все большее символическое значение» [163, 113], организуют особый «библейский хронотоп» русской литературы ХХ века, иносказательно-метафизическая сущность которого доминировала не только у писателей-модернистов, но и последовательных реалистов, как И. А. Бунин. Созерцая Голгофу в час заката («Солнце опускается…»), лирико-автобиографический герой бунинского рассказа «Иудея» (1908), вопрошает: «Боже, неужели это правда, что вот именно здесь был распят Иисус?» [56, II, 310], и в его воображении явственно представляются картины крестных мук Иисуса Христа, свидетелями которых были все те же палящее солнце, «небо глубокое», «кое-где покрытая скудной зеленью земля» [56, II, 309] и «печальная тьма быстро набегающей ночи» [56, II, 310].
Чрезвычайно мифосуггестивные образы ночи, неба и земли, олицетворенные Л. Н. Андреевым и одухотворенные И. А. Буниным, в русской литературе начала ХХ века являются неотъемлемой частью «евангельского» пейзажа, поэтика которого принципиально синкретична: конкретно-фактическое изображение действительности в ней органично сочетается с эмблематической условностью, зримо-пластическая импрессионистичность – с нарочитой идейностью и философичностью. Все это черты неореалистической эстетики, для которой, по замечанию Т. Т. Давыдовой, характерна «метафизическая» картина мира: за «посюсторонней, земной реальностью» в ней проступает «иная реальность» [74, 28]. «Иная реальность» у неореалистов оказывается результатом не только «трансцендентного» прорыва в вечность, но и вообще выхода за пределы привычного жизненно-земного круга, фактом преодоления канона / догмы, расширения духовно-культурного горизонта, в том числе ограниченного рамками евангельского текста. Отсюда интерес писателей к тому, чего нет в Священном Писании, но что могло бы быть и есть в художественной реальности. Так в литературе ХХ века появляются произведения на условно-библейскую тему, в которых известный канонический сюжет сакральной истории либо переосмысливается полностью, либо существенно расширяется и дополняется множеством экстрабиблейских подробностей. Таких конкретно-вещественных подробностей, на которые скупа Библия, жаждали русские писатели-неореалисты, обращавшиеся в своем творчестве к сюжетам и мотивам великой Книги: будь то балансировавший между реализмом и символизмом Л. Н. Андреев, последовательный продолжатель классических традиций ХIХ века А. И. Куприн (исключительная принадлежность которого к реализму сегодня не кажется абсолютной) или Ю. Л. Слёзкин (последнего вообще надолго вычеркнули из литературы и ни в какие «эстетические расклады» не вносили даже современники). М. А. Булгаков, которого связывала с Ю. Л. Слёзкиным многолетняя дружба-вражда, в очерке «Юрий Слёзкин (Силуэт)» (1922) констатировал: «Ю. Слёзкин стоит в стороне. Он всегда в стороне» [47, 168].
Поразительная особенность прозы Ю. Л. Слёзкина, на которую обратил внимание автор «Белой гвардии», заметивший, что в своих рассказах он «вяжет кружево» «о том, чего мы не знаем, подчас о том, что мы забыли, подчас о том, чего не было» [47, 168], отчетливо проявилась уже в самом начале творческого пути писателя. В недавно опубликованном Т. Д. Исмагуловой рассказе Ю. Л. Слёзкина «Пасхальная ночь при Нероне» (1905 / 1907) представлена внеевангельская история о том, кто навеки связал память о себе с памятью о воскресшем Господе. В «закатном» романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (1928–1940), «древние» главы которого созвучны слёзкинскому рассказу, «генетически» восходящий к евангельскому Христу Иешуа Га-Ноцри замечает пятому прокуратору Иудеи Понтию Пилату: «Мы теперь будем всегда вместе <…> Раз один – то, значит, тут же и другой! Помянут меня – сейчас же помянут и тебя!» [46, V, 310].
Нравственные терзания Понтия Пилата, отдавшего на казнь Иисуса Назарянина, получают у Ю. Л. Слёзкина глубокое психологическое осмысление, выходящее за пределы канонического толкования новозаветных текстов. А потому автор, сознательно дистанцируясь от Евангелий, относит действие своего рассказа далеко за пределы Иудеи – в окрестности Рима, где в катакомбах в атмосфере строжайшей тайны встречают светлое Христово воскресение первые христиане. Страшная ночь распятия, символически воссозданная Л. Н. Андреевым, контрастирует с пасхальной ночью умиротворения, открывающей рассказ Ю. Л. Слёзкина: «Вся природа, на закате дня, застыла в торжественном молчании. Начинал замолкать и шумный Рим, погружаясь в сладкую дрему, под охраной сомкнувшихся вокруг него гор, казавшихся при свете догоравших лучей огромным аметистовым кольцом. Мир сходил на землю» [208, 258].
Благодатный мир обретает в душе и Понтий Пилат, уже покинувший ненавистный ему Иерусалим, но часто вспоминающий о величайшей трагедии, к которой оказался причастен. Ю. Л. Слёзкин одним из первых русских писателей, представляя рефлексирующего прокуратора Иудеи, выступил против распространенной в интеллигентско-позитивистской среде ренановской трактовки Пилата, будто бы тот, «покидая должность», «ни на мгновение не вспомнил об эпизоде, благодаря которому печальная слава о нем передалась самому отдаленному потомству» [193, 194]. Герой Ю. Л. Слёзкина не просто страдает от угрызений совести, но и получает духовное очищение / прощение, почти случайно оказавшись на богослужении по случаю христианской Пасхи, во главе которого был апостол Петр. Увидев протиснувшегося сквозь толпу Пилата, «слегка побледнев, и на мгновение закрыв глаза, как бы отгоняя тайное воспоминание, он повелительным жестом указал вошедшему на свободное место» [208, 259]. И тот простоял всю литургию и нашел в себе мужество – внимать каждому слову «повествования молодого диякона о земной жизни, страданиях, крестной смерти и воскресении спасителя мира» [208, 259] – слову, которое болью отзывалось в его сердце, впрочем, не только его, но и самого апостола Петра, возглавлявшего христианскую общину в недрах языческого Рима. «Обливаясь горькими слезами, Петр бил себя в грудь и громко каялся в своем малодушном отречении от учителя», а потом обратился к собравшемуся «простому народу, воинам, дамам высшего римского общества, рабам, галлам и сирийцам» с проникновенной речью: «Помолимся, братья, – громко произнес он, – помолимся за непрозревших отцов наших старого завета, за просветление язычников и их императора! Молитесь за меня, да простится мне мое отрешение. Молитесь друг за друга, да укрепитесь в вере, несмотря на ожидающие вас муки. Молитесь за врагов, молитесь за этого человека, – закончил апостол, указывая на патриция» [208, 259–260]. Все собравшиеся обратили свой взор на римского вельможу и узнали в нем Пилата Понтийского, который принес «пред лицо Господа» свое сокрушенное сердце. «…Здесь между нами ты не обвиняемый», – заметил бывшему иудейскому прокуратору, мирскому судие Иисуса Назорея, апостол Петр, – «ибо и Господь наш простил врагам нашим и заповедал нам молиться за них. Да снидет и на тебя милосердие Божие и мир твоей душе!» [208, 260].
Окружавшие патриция христиане, горячо молившиеся «распятому же за нас при Понтии Пилате, страдавшему и погребенному; и воскресшему в третий день» [91, 499]Спасителю, не испытывали к иудейскому прокуратору, виновному в крестных муках Иисуса, никакой злобы, «в них замечалось даже некоторое почтение, ибо кто же как ни он был лучшим и живым свидетелем как смерти, так и воскресения Христова» [208, 260] «Растроганный до глубины души, но с облегченным сердцем» [208, 260], бывший римский наместник, представлявший в Иудее императора Тиберия, в правление которого Сын Человеческий пролил свою жертвенную кровь во искупление грехов мира, преисполнился мужества исповедовать Христа в кровавое царствование Нерона.
Всего лишь один эпизод – «Пасхальная ночь при Нероне» – становится в рассказе Ю. Л. Слёзкина эпицентром новозаветной истории, фокусирующей в себе и сакральные события Евангелий, и героические Деяния апостолов, и нравственную философию соборных Посланий, и прозрения о грядущем Апокалипсиса. Жанр легенды (а писатель прямо указывал в подзаголовке к рассказу: «Римская легенда») позволял Ю. Л. Слёзкину совершенно свободно обращаться с фактологией Священного Писания, интерпретируя ее в соответствии с собственным мировидением, определяющим идейный замысел произведения и его творческую реализацию.
Исключительное право художника на выражение сущности человеческого бытия в его перспективной и ретроспективной проекции на священную историю, получившее в литературе рубежа ХIХ–ХХ веков глубокое философско-аксиологическое осмысление, требовало преодоления «ограничительных» канонов и расширения духовно-культурного горизонта современного человечества – вплоть до «распространения» самого текста Евангелий внеевангельскими сюжетами и образами.
Вопросы и задания
1. Что такое апокрифы? Как они соотносятся с каноном Священного Писания? Какие сюжеты и образы переосмысливались в апокрифах? Почему?
2. Как вы думаете, почему русские писатели рубежа ХIХ–ХХ веков попытались выйти за пределы канонического пространства Священного Писания и разомкнуть догматический горизонт библейского текста, представив в своих произведениях альтернативные версии сакральных образов и сюжетов?
3. Какое место занимала тема библейской истории в богоискательских, богостроительских и богоборческих произведениях русской литературы рубежа ХIХ–ХХ веков? Чем, на ваш взгляд, был обусловлен интерес русских писателей начала ХХ века к священной истории? Какие параллели между современностью и библейской древностью проводили писатели?
4. Почему в рассказе Л. Н. Андреева «Бен-Товит» Христос буквального и метафорически прошел мимо главного героя?
5. Какова функция евангельского пейзажа в произведениях Л. Н. Андреева и И. А. Бунина?
6. Чем, на ваш взгляд, обусловлен интерес русских писателей-неореалистов к экстрабиблейским подробностям Священной истории?
7. Почему Ю. Л. Слёзкин называет свой рассказ «Пасхальная ночь при Нероне» «римской легендой»?
Темы докладов и рефератов
1. Библия как «книга былей» (В. В. Розанов).
2. Евангельские и внеевангельские сюжеты Священной истории в творчестве Л. Н. Андреева.
3. Нравственно-философская проблематика рассказа Л. Н. Андреева «Бен-Товит».
4. Библейский хронотоп в русской литературе начала ХХ века: поэтика воплощения.
5. Нравственные терзания Понтия Пилата в рассказе Ю. Л. Слёзкина «Пасхальная ночь при Нероне».
6. Образ рефлексирующего Пилата в творчестве Ю. Л. Слёзкина и М. А. Булгакова.
7. Апостол Петр в рассказе Ю. Л. Слёзкина «Пасхальная ночь при Нероне»: нравственно-философский и богословский смыл образа.
«Евангельский текст» в поэзии С. С. Бехтеева: образ «Царского креста»
В знаменитом стихотворении «Молитва», написанном С. С. Бехтеевым в Ельце в октябре 1917 года и посланном через графиню А. В. Гендрикову великим княжнам Ольге и Татьяне в Тобольск, впервые возникает образ «тяжелого и кровавого» [30, 61] креста, который нес на Голгофу Христос и который было суждено в ХХ веке пронести российскому императору вместе со всей своей августейшей семьей, названной впоследствии поэтом «Святой Семьей» [30, 63]. Мотив крестного испытания, ниспосланного Богом России, в поэзии С. С. Бехтеева революционной эпохи становится не просто доминирующим, но – в силу своей чрезвычайной важности – даже единственным. Все мысли и устремления поэта оказались направлены на постижение сущности тех апокалиптических событий, что в одночасье разрушили Россию и под ее обломками погребли тысячелетнюю духовную культуру, сформировавшуюся Православием, на которое и был направлен, по замечанию Н. А. Бердяева, главный удар «революции с ее беснованием» [24, 55]. «Духи революции», беснующиеся и бесчинствующие на Русской земле, воплощены в стихах С. С. Бехтеева, они торжествуют «праздник крови и огня», поднимают из адской бездны «волны красные», «клубясь и извиваясь, пляшут пляску» смерти [30, 21].
Воссоздавая символические картины «умирающей» России, поэт пытается проникнуть в глубинный смысл происходящих событий, понять их духовно-мистическую суть. Отсюда в стихотворениях С. С. Бехтеева, глубоко религиозного человека, аллюзии и реминисценции из Священного Писания, которое оказывается для поэта не только и не столько источником образов и ассоциаций, сколько поистине откровением, содержащим ответы на все насущные вопросы современности. Само постижение этих вопросов, какими бы злободневными они ни были, для С. С. Бехтеева немыслимо без обращения к Библии и, прежде всего, к Евангелиям, благовествующим о Спасении, дарованном Христом человеку и человечеству через муки Его и крест. Образ креста становится главным в поэзии С. С. Бехтеева и находит свое художественное воплощение как в эмблематике, так и в сюжетике стихотворений, оригинально интерпретирующих и трансформирующих евангельский текст.
Так в стихотворении «У Креста» (1921) поэт проецирует революционную современность с ее жестокостью и буйством восставшего против самодержавия народа на события библейской древности, связанные с распятием Христа и политическими волнениями в Иудее.
Шумит народ, тупой и дикий,
Бунтует чернь. Как в оны дни,
Несутся яростные крики:
«Распни Его, Пилат, распни! <…>» [30, 45].
Заявленная в самом начале параллель Христос / император Николай II становится смысловым центром стихотворения, определяющим его лирический сюжет и мотивно-образную структуру, в полной мере соотносимую с евангельским текстом. В Евангелии от Марка сообщается о том, что иерусалимский «народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского? <…> Они опять закричали: распни Его. Пилат сказал им: какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее закричали: распни Его» (Мк. 15, 8; 13–14). Этот эпизод в стихотворении С. С. Бехтеева разворачивается в гневный монолог черни, в образе которой одновременно проступает и иерусалимская толпа обывателей, не способная понять и принять явившегося в мир Небесного Царя, и обезумевший в своем революционном неистовстве русский народ, отрекающийся от своего, земного царя – помазанника Божия:
«… Распни за то, что Он смиренный,
За то, что кроток лик Его.
За то, что в благости презренной
Он не обидел никого.
Взгляни – Ему ли править нами,
Ему ли, жалкому, карать!
Ему ли кроткими устами
Своим рабам повелевать!
Бессилен Он пред общей ложью,
Пред злобой, близкой нам всегда,
И ни за что к Его подножью
Мы не склонимся никогда!» [30, 45].
В символико-аллегорической форме неприятия революционным народом «кроткого», «смиренного», «бессильного пред общей ложью» царя, не способного повелевать своими подданными, нашло отражение скептическое, а порой и откровенно враждебное отношение к политике и личности императора Николая II либеральных и леворадикальных кругов русской интеллигенции, позиция которых была глубоко осмыслена в конце ХХ века А. И. Солженицыным. Автор эпопеи «Красное колесо», размышляя о феномене последнего русского царя, замечал, что он был «слишком христианин, чтобы занимать трон» [214, 581], «он был человек высоких духовных качеств, исключительно чистый человек. И он был последовательный христианин. Но – да, он не мог держать штурвал России в такие бурные времена, когда швыряет корабль» [215, III, 178]. Однако «трагедией своей жизни и смерти император искупил свои вольные или невольные, действительные или мнимые вины, ошибки и заблуждения» [43, 449], явившись поистине той искупительной жертвой, что принесла Россия Божьему Агнцу – Христу, своей святой кровью очистившему мир от скверны и указавшему путь к спасению.
В Евангелии от Матфея сказано, что после криков толпы «да будет распят» «Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы. И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших» (Мф. 27, 23–25). С. С. Бехтеев, в точности следуя евангельскому сюжету, представляет вселенский катаклизм («И зло свершилось!»), которому не смог противостоять Иудейский прокуратор («Пилат оправдан и омыт»):
И на посмешище народу
Царь оклеветан… и… убит! [30, 45].
Ритмико-интонационный строй и сама графика бехтеевского кульминационного стиха (многоточие перед возгласом «убит!») совпадает с лермонтовским криком отчаяния в его знаменитом стихотворении «Смерть Поэта»:
Восстал он против мнений света
Один, как прежде… и убит! [136, 21].
«Оклеветанный» Царь, как и «оклеветанный» Поэт, удостоился тернового венца (ср. у М. Ю. Лермонтова: «И прежний сняв венок – они венец терновый, / Увитый лаврами, надели на него» [136, 22]), – венца, который, по слову евангелиста Матфея, накануне распятия Спасителя «возложили Ему на голову» (Мф. 27, 29) как символ искупления «грехопадения прародителей» [31, 693]. За грехи русского народа русский царь принял мученический венец и был со-распят со Христом. И потому, убежден С. С. Бехтеев, крестная смерть императора должна побудить русский народ к великому покаянию. В атмосфере революционного мрака («Нависла мгла. Клубятся тени») поэт непрестанно молится о духовном просветлении России и взывает к ее преображению:
Склонись, Россия, на колени
К подножью Царского Креста! [30, 45].
Образ «Царского Креста» станет центральным и в одноименном стихотворении 1922 года, которому поэт предпослал эпиграф из Евангелия от Луки (гл. 22, 61–62): «Яко прежде даже петель не возгласит отвержешися Мене трикраты. … И изшед вон плакася горько!» [30, 62]. Мотив отречения от Христа одного из самых близких Спасителю апостолов проецируется на современную поэту действительность и соотносится с отречением от русского царя его народа.
Служа Царю беспечно и небрежно,
Ему не жертвуя ничем и ничего,
Любили ль вы Его восторженно и нежно,
Болели ль вы душой всечасно за Него? [30, 62].
Стихотворение С. С. Бехтеева, представляющее собой длинный свиток вопрошаний, адресованных ближним и дальним царя, оставившим его на произвол судьбы в минуту тяжких испытаний («Откликнулись ли вы на Голос благородный…», «Пошли ли вы в поля кровавой брани…», «Вы помогли ль душой и разумом Ему?», «Где были вы?» [30, 62]), вызывает ассоциации со знаменитым «Певцом» А. С. Пушкина («Слыхали ль вы за рощей глас ночной…», «Встречали ль вы в пустынный тьме лесной…», «Вздохнули ль вы, внимая тихий глас…» [191, 121]). Поэтическая ипостась певца, характерная для лирического героя многих стихов С. С. Бехтеева, актуализирует образ «Царского гусляра». Так, кстати, назовет поэт книгу своих стихов в 1934 году, в которой со всей очевидностью проявится русский национальный характер и русское национальное мировидение, а сам автор заявит о себе как о певце Святой Руси, хранителе и продолжателе культурных традиций Отечества. По справедливому замечанию В. К. Невяровича, «Сергей Бехтеев – один из последних русских поэтов-классиков пушкинско-лермонтовского направления» [167, 69]. Верность духовному наследию золотого века русской поэзии, А. С. Пушкину и М. Ю. Лермонтову, для С. С. Бехтеева значила то же, что верность России, национальным корням, истокам.
Вообще верность как нравственная категория неоднократно становилась предметом поэтических рефлексий С. С. Бехтеева, не случайно избравшего себе в эмигрантской печати псевдоним «Верноподданный», а в одном из программных стихотворений заявлявшего: «”Вера и верность!” – вот лозунги наши. / С ними бесстрашно идем мы вперед, / С ними нам легче кровавые чаши / Наших страданий, обид и невзгод» [30, 15]. И потому неудивительно, что верность Царю для поэта – главный показатель нравственной состоятельности отдельного человека, «сына Отечества», и всего русского народа – народа-богоносца, забывшего в годы революционного лихолетья о своем высоком духовном предназначении. Отсюда боль и сокрушения поэта в стихотворении «Царский крест» о попрании веры и утрате верности Царю и России. Обращаясь к соотечественникам, лирический герой стихотворения, «Верноподданный» в самом высоком смысле этого слова, скорбит и негодует о равнодушии народа к страданиям своего царя:
Что делали вы все, забыв Его заслуги?
Пытались ли Его из каторги спасти?
Вы помогли ль Ему, как преданные слуги,
Тяжелый Крест по торжищам нести? [30, 63].
Однако все вопрошания поэта остаются без ответа, и в сознании лирического героя стихотворения возникает картина отречения от Христа Его апостола Петра, наполняющаяся новыми смыслами и современными аллюзиями и ассоциациями:
Подсев к костру, вы молча грели руки
И ждали, притаясь, как запоет петух…
И Он погиб, убитый палачами,
Он, шедший в мир для мира и добра [30, 63].
В точности следуя Евангелию («увидев Петра греющегося и всмотревшись в него», одна из служанок первосвященника «сказала: и ты был с Иисусом Назарянином. Но он отрекся, сказав: не знаю и не понимаю, что ты говоришь. И вышел вон на передний двор; и запел петух» (Мк. 14, 67–68)), С. С. Бехтеев представляет не только величайшую трагедию человечества – крестный подвиг Христа и крестную муку русского царя, но и не менее страшную духовно-психологическую драму апостола, не нашедшего в себе силы выступить в защиту Спасителя и глубоко сожалеющего об этом, как будет сожалеть и раскаиваться в своем попустительстве злодеянию большевиков русский народ. В этом у поэта не было ни малейшего сомнения.
А вы! Вы плакали ль бессонными ночами,
Слезами горькими Апостола Петра? [30, 63].
Горькие слезы Петра так трогают сердце и потрясают душу русского человека, что у поэта возникает надежда на искупление вины и Божие прощение, какого удостоился и сам Христов ученик. На это обратил внимание еще А. П. Чехов в рассказе «Студент», главный герой которого, поведавший своим собеседницам историю отречения апостола и его раскаяние («… Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечери… Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал» [242, 355]), осознал свою собственную причастность к вселенской трагедии («Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого» [242, 356]). За эту причастность каждому человеку в отдельности и народу в целом предстоит пострадать и страданием смыть свой грех, ибо «нам, русским, послан Крест тяжелый, / И мы должны его влачить» [30, 69].




