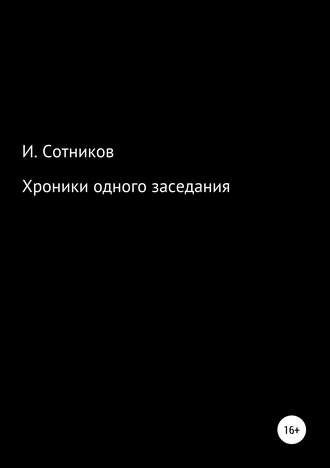
Игорь Сотников
Хроники одного заседания. Книга первая
Ну а раз с этой стороны пропала опасность для вмешательств в ход заседания, то Президент обращается к Соне, но пока ещё не к совсем Соне, а всего лишь к новой коллеге, в намерении узнать, как бы она хотела, чтобы её называли. На что Соня, как всеми членами клуба было понято, притворно засомневалась, в ожидании с их стороны своих предложений.
– Да что тут особенно думать. Вылитая Соня и есть. – Почему-то ожидаемо влез со своим утверждением товарищ Гвоздь, с некоторым удивлением разведя своими руками. Ну, а ответное хихиканье отныне Сони, не только закрепило за ней это имя, но отзвук её завораживающего, наполненного радостью голоса, хоть и в таком бессловесном выражении, немедленно, в обожании её, уронил нестойкие против такой улыбчивости сердца некоторых членов клуба. Среди которых нашлись и такие, кто (наверняка безудержные романтики, то есть романисты) на этом не остановился и в своём преклонении перед ней, чуть ли не сполз со своих стульев вниз.
Хотя, возможно, они это сделали преждевременно, ведь вопрос внешнего выражения личности Сони, так и не был решён. И кто знает, кроме наверняка Президента, кто скрывается за этими покрывалами темноты – мечта любого романиста, принцесса и красавица на горошинке, или же ведьма во всех своих качествах и отражениях, что даже ни одно зеркало не выдерживает её вида и взгляда, тут же трескаясь под ним.
Ну а то, что она обладает таким прекрасным голосом, то это ничего не значит, кроме разве что только наводит мысль о том, что она вполне может быть жестокой к любым формам мореплавателей сладкоголосой Сиреной. А это значит, что она тебя обязательно, во что угодно уверит, заговорит и заставит подписать всё, что ей только нужно, а потом пиши как звали, оставшись без квартиры, без машины и только с пустым счётом из банка.
– Знаю я этих сирен. Им только палец для обручального кольца протяни, так они тебя без последних штанов оставят. – Рассудительно зло рассуждал, подтягивая свои штаны на огромном ремне, мистер Пеликан, являющийся одним из тех, кто отстаивал версию ведьминого происхождения Сони, которая даже если, в конечном счёте, и окажется красавицей, то это ещё не значит, что она не ведьма.
– Да, любая особа женского пола, с претензией на наличие у неё большего ума, нежели у нас, уже по одному этому определению, самая что ни на есть ведьма. – Уже со своим знанием всех этих ведьм, поддержал мистера Пеликана господин Кросс, который конечно мог бы много чего порассказать в качестве иллюстрации на эту тему, но он не будет этого делать, не желая провоцировать на охоту на ведьм людей, потерявших после его откровений всякую надежду обрести в своей жизни маленькую глупость.
Но не все были так категоричны по отношению к Соне. И на стороне её безусловной красоты, как телесной, так и душевной, стояла своя, не менее многочисленная группа, состоящая из всё больше молодого, а не степенного возраста людей. Где самым видным представителем этой группы был несомненно месье Картье. И в этом не было ничего удивительного, зная его близость к фривольному творчеству и утверждению: «Некрасивых женщин не бывает, бывает недостаток жизни в твоей душе».
– А я позволю себе усомниться в ваших словах господин Кросс. – Выступив вперёд из группы своих приверженцев, заявил месье Картье. – Мне, кажется, что вы просто испытываете страх перед нашей новой коллегой, и оттого нагнетаете.
– Да как вы смели! – удержав себя в руках мистера Пеликана, чуть не перешёл грань допустимости в своём ответе мистер Кросс.
– Утверждать правду? – немигающее смотрит в ответ месье Картье, чьи не выносимые для репутации господина Кросса слова, вынуждают того вскипеть и потребовать от того объяснений.
– Извольте объясниться. – Грозно заявляет господин Кросс. – Как это всё понимать?
– А я может быть, понимаю вас слишком с хорошо известной для вас стороны. И вы, имея свои виды на Соню, таким образом решили избавиться от своих, определённо имеющих по сравнению с вами больших шансов, конкурентов. А? Что скажите? – И что может сказать в ответ на такие уму непостижимые утверждения-вызовы месье Картье господин Кросс, кроме как только задохнуться от негодования и попытаться не лопнуть от возмущения. И при этом господин Кросс, по своему, да и по многим другим разумениям находящихся в этом кругу людей, вряд ли сможет найти аргументированного ответа на то, что всё это не так. И значит, господину Кроссу нужно хорошо постараться, чтобы не прослыть тем самым человеком, какого в своих глазах пока видит только месье Картье, а если он должно не ответит, то вскоре и все остальные.
– Я отлично понял вас, месье. – Низкомерно посмотрев с высоты своего высокомерия на месье Картье, с расстановкой слов сказал господин Кросс. – Вы, несомненно, преследуете ту же цель, которую вы на словах приписываете мне. Что ж, раз всё это, я утверждать могу лишь на основании только ваших слов, как и в случае ваших насчёт меня утверждений, то для того чтобы избежать ложных наветов и обвинений, я в качестве демонстрации доброй воли, готов предложить вам пари. – Господин Кросс замолкает и изучающее смотрит на ответную реакцию месье Картье.
Месье же Картье, как и всякий парижанин, при одном только, хоть и далёком упоминании своего родного города, впадает в близкое к экстазу состояние духа и, конечно же, не может не выразить своего согласия на предлагаемое пари, чьих условий он даже пока не услышал. И знай о таких его намерениях господин Кросс, то он бы всё так бы обставил в своих условиях пари, что украшающая Париж Эйфелева башня, вскоре бы находилась под закреплённым патентом, авторским контролем господина Кросса.
Но видимо господин Кросс в этот момент и сам волновался, раз он предложил поставить всего-то свои авторские имена в качестве заклада. И тот, кто из них окажется не удел в глазах Сони, то тому не будет больше места за общим столом в качестве члена клуба.
– Я всё-таки на ваш счёт был прав. – Усмехнулся месье Картье, протягивая для рукопожатия свою руку господину Кроссу.
– А это не важно, когда, в конечном счёте, правым окажусь я. – Сказал господин Кросс, взяв руку месье Картье. После чего их скреплённое рукопожатием пари сопровождается замечательной репликой товарища Гвоздя: «А мне плевать на ваши спорные соглашения. И если я захочу проявить интерес к нашей, а может быть уже и моей Сони, то я и спрашивать никого об этом не буду. А вы, падлы, только посмейте что-то сказать мне против». Что вызывает у месье Картье и господина Кросса нехорошие предчувствия, а из-за нежелания связываться с товарищем Гвоздём, который ясно намекнул, что любого изничтожит, кто встанет на его пути, появляется огромное желание отказаться от предусмотренных пари планов.
Но не успевают они всё это превратить в шутку, а ведь всё так к этому близко было, так как их рукопожатие, несмотря на объединённую нежеланием выполнять условия пари крепость, в один момент разбивается мистером Пеликаном, которому всё это кажется плохой затеей. Ну а дальше у них уже другой дороги нет, и теперь их жизнь подчинена условиям пари, и всё это под невыносимо страшными взглядами товарища Гвоздя, который превратил всё это для себя в забаву, и время от времени своим замечаниями вгонял в ступор, вдруг оказавшихся в одной лодке, месье Картье и господина Кросса. Из-за чего даже, в один из моментов своего отчаяния, месье Картье привело к одной чрезвычайно взволновавшей его мысли – а ведь господин Кросс был прав, и эта Соня безусловно ведьма.
Пункт №3. Защитники и полузащитники.
Но давайте вернёмся к заявлению мистера Сенатора по поводу тех правилах, на которых настаивали классики – оно определённо заслуживало пристального для себя внимания. Ведь даже несмотря на то, что каждый из членов клуба считал себя как минимум гением, а в обиходе уникумом или самородком, тем не менее каждый из них допускал мысль о том, что кто-то из великих, всё же оказал на него и его творчество влияние, и они не только черпали свои силы, но и опирались в своих воззрениях на мир на авторитет стоящего за его спиной классика.
И было не так-то трудно, да и тех отсылок членов клуба к авторитету классика, было достаточно для того, чтобы догадаться о том, кто из классиков и за чьей спиной стоял. Так если бросить первый поверхностный взгляд на уже известных нам господ, сэра Паркера и сэра Монблана, чья авторитетность подчёркивалась пузатостью их перьевых ручек, то без лишних с их сторон слов, можно было без особого труда догадаться о том, что они свои силы черпали в огромной кладези мудрости такого же, как и они, или всё же они, как и он миллионщика, и к тому же графа, графа Толстого.
И как часто бывает в жизни уже не самого классика, а его последователей, то они, эти его последователи, зачастую используют его мудрости не по тому адресному назначению, по какому она изначально мыслилась классиком. Так и в случае с сэром Паркером, и сэром Монбланом, после того как между ними была заключена договорённость насчёт интриги по отношению к миссис Монблан, то через сэра Паркера всё это использование чужих мудрствований в своих личных целях и проявилось. А всё потому, что уж больно он быстро начал вживаться в роль готового на всё и даже на любовные связи интригана, и всё это для того чтобы поколебать уверенность в себе у своего конкурента сэра Монблана.
Так во время одного из солнечных уик-эндов, проводимых на лужайке у дома четы Монбланов, где присутствовал и сэр Паркер, который в последнее время был частым гостем у Монбланов, этот сэр Паркер, несмотря на то, что сэр Монблан сделал шаг навстречу к их примирению, берёт и ведёт себя прямо-таки как неблагодарная скотина (и сэр Монблан даже знает какая). И он вместо того чтобы смиренно слушать, что ему о погоде дамы говорят и кушать барбекю, вовсю налегает на спиртное и за обе щёки трескает всё то, что его глаз приметит.
А стоит только сэру Монблану отвернуться, как этот негодяй, сэр Паркер, уже тут как тут, рядом с миссис Монблан и смущает её слух разговорами.
– Большая часть мужчин требует от своих жен достоинств, которых сами они не стоят. – Кивая в сторону спины сэра Монблана, тихо проговорил сэр Паркер, взяв на вооружение эту отсылку к классику, который наверное бы, в гробу перевернулся, услышав, как его используют в своих неблаговидных целях такие похотливые до чужих афоризмов и высказываний господа.
Ну, а что может сказать в ответ на эту истинную правду, охочая до собственных признаний миссис Монблан. Да, единственно, что только согласиться, грустно покраснев за своего недостойного супруга, который кроме себя никого уже давно не видит. Ну, а изрядно хлебнувшему из бутылки сэру Паркеру только этого, – свободные и внимающие ему уши, – и надо, и он, сократив расстояние между собой и миссис Монблан до тех крайних пределов, которые ограничены условностями и приличиями, на которых настаивает супружеский долг, но не счастье, добавляет жару в итак уже расшатанные мысленастроения и устои миссис Монблан.
– Человек, отделяющий себя от других людей, лишает себя счастья, потому что, чем больше он отделяет себя, тем хуже его жизнь. – Так тихо говорит сэр Паркер, что его только слышит миссис Монблан, и как уж без него, уже в кровь расчесавшего об стенки гроба всю свою спину классика, который терпеть не может, когда его используют, а его раз за разом используют и используют. Но разве сэра Паркера это волнует, да к тому же он сейчас сильно занят, успокаивая бокалом вина вперемежку со своими страшными мыслями миссис Монблан, только сейчас понявшую всё несчастье своего, не на кого опереться в трудную минуту, одинокого положения.
И, наверное, не находись сейчас миссис Монблан под сенями своего дома, а сэр Паркер в несколько перебравшем состоянии, которое его, выведя на пять минут в туалет, в этот раз не привело обратно к миссис Монблан, – в тени кладовки было гораздо прохладней находиться и ближе к отдыху, – то не вышло бы так, что сэру Монблану пришлось бы признать правоту афоризма ещё одного классика, Чехова, и раз ружьё висит, то оно должно непременно дуплетом выстрелить, прямо в голову сэра Паркера.
Хотя, возможно, сэр Монблан был не столь глух и недальновиден, как того бы хотел сэр Паркер, раз он быстро обнаружил этого, решившего без объявления игры поиграть в прятки, сэра Паркера. И эта-та, да и во всём другом самоуверенность сэра Паркера и подвела его в этом случае, приведя спать вначале в кладовку, а затем под шумное прысканье смеха гостей сэра Монблана, в крепкие объятия мысли ещё одного классика, а вернее, героя его самого монументального произведения «Гамлет», увековеченного в памятливый гранит.
Когда же сэр Паркер ощутил себя не только побитым, но как вроде бы живым, первое что он сделал, когда открыл свои глаза, то совсем не удивился увиденному, а вопросил этого сурового вида мужика, который не сводил с него своего пристального взгляда:
– И чего вылупился, Гусь?
Ну, а что ему может ответить всего лишь памятник, а не как в тот первый момент думал сэр Паркер, тот попрошайка, которого он постоянно встречает на своём пути на автобусную остановку, который точно таким же взглядом на него постоянно молча смотрит. Но это дело десятое, касаемое только сэра Паркера, ещё потом долго пытавшегося слезть с этого памятника, куда его, так им и осталось невыясненным, так занесло. – Не иначе, что-то меня вдохновило и в результате, так вознесло. – Нашёл для себя наиболее разумное объяснение этому факту взлёта своего тела, сэр Паркер, так и не решившись задать уточняющиеся вопросы сэру Монблану.
Сам же сэр Монблан, в этот вечер тоже дал повод классику не спать и заставил подумать над его, сэра Монблана, поведением, где он, глядя на миссис Монблан, процитировал Толстого. – Жениться надо всегда так же, как мы умираем, то есть только тогда, когда невозможно иначе.
И ведь не боятся же эти господа, к месту и не к месту подкреплять свои действия цитатами и афоризмами классиков, которые, если логически рассудить, то всё это говорили, если что, то уж точно не для них. И не получится ли так, что в какой-нибудь экстренный для этих господ момент, стоящий за его спиной классик, возьмёт и не просто передумает оказывать помощь своему, не знающему никаких границ неблагодарности последователю, а окажет ему, так сказать медвежью услугу, подсунув к его слову неблаговидную, совершенно не к месту цитату из своего творчества.
Но видимо не боятся, да и даже не представляют себе возможности такого оборота дел, продолжая, как они говорят, пользоваться общемировым культурным наследием. Правда время от времени, у многих членов клуба, как и в случае со всяким наследством, где без кровопролитных или как минимум полных нервов споров не обойдёшься, возникает искушение оспорить все эти вклады. Где только тем из классиков и везёт, до кого за давностью времени, не может дотянуться рука критика, которые всегда являются отражением чьего-то мнения, и почему бы и нет, вполне готовы к тесному сотрудничеству с теми из творцов, кто полновесно отражает его взгляды на мир через окно люксового автомобиля.
Так что вполне возможно, что стоящие за спинами членов классики, сильно не возникают потому, что находятся не в том положении, чтобы оспаривать решения своих последователей, которые, всё же надо отдать им должное, подчас, хоть иногда это и коряво получается, возвращают утраченный интерес к позабытым классикам литературы.
Но этим господам, сэру Монблану и сэру Паркеру, легко быть гуманистами, они уже находятся на вершине Парнаса. Ну а что спрашивается делать тем, кто находится в самом начале своего пути к этим вершинам, со своими препятствиями в виде закрытых редакционных дверей, заманчивых предложений со стороны конъюнктурных соображений и куда без разного рода искушений, подороже продаться. Да и к тому же нельзя не учитывать того факта, что мир погряз в политике, которая проникла во все сферы человеческого внимания и понимания. Чего уж точно игнорировать никак нельзя, а иначе загрызут и не поперхнутся. И тут, если не хочешь оказаться на острие пера недремлющего ока критика или кулака политического оппонента, то здесь выход один – необходимо объединяться.
Ну, а любое объединение всегда подразумевает свои общие точки соприкосновения для всех этих объединяющихся людей, где их общие взгляды на ту или иную проблематику, и даже их аполитичность, являются всё тем же объединяющим фактором. И если даже, всего этого пока что не удалось выяснить, то общий язык изложения своих мыслей на бумагу, чем не объединяющий фактор. Ну а раз пока ничего другого объединяющего не найдено или не объяснено, то на данным момент можно и на основании этого факта присутствия, создавать альянсы. С чем и пришли к своим союзам, два возникших основных блоковых объединения клуба, состоящих из тех классических писателей, на кого опирались в своём видении мира полные пока что только перспектив, а не заветной славы, члены клуба.
Так в восточном писательском блоке оказались всё те же лица, среди которых наиболее выделялись, гроза всякого конформизма и бюрократии Маяковский, обладатель глубинных знаний и взглядов на вас Достоевский, не так прост, как кажется, Чехов и… Гоголь, чья личность и стала на этом этапе противостояния образным камнем преткновения между этим так называемым восточным писательским блоком, на который возлагала свои надежды одна часть членов клуба, и другим, представляющим западное направление писательским блоком. В состав которого входили не менее известные личности, среди которых особо выделялся Марк Твен, снисходил Диккенс и держались больше в тени Оруэлл, Кинг и Чейз.
И, казалось бы, что им всем между собой делить, когда на каждого сюжетов, тем, и для своих откровений сердец предостаточно, и как подчёркивал Чейз: «Весь мир в кармане и практически перед твоими ногами». К тому же каждый из них уже давно нашёл себя и свою писательскую нишу, в которой он считался непререкаемым авторитетом. Всё так, но не надо забывать главное, а именно то, что от их имени действовали и их авторитетами прикрывались те их последователи, у кого всего этого не было, кроме как только желания и готовности, не взирая на авторитеты и часто ниспровергая их (хитры что и говорить, мол клин клином вышибают), самому занять место среди них.
Ну а раз так часто бывает, и случается сплошь кругом и рядом, что для особо одарённых знаниями Макиавелли есть главное правило жизни – для достижения своей цели все средства хороши, то они и следуют им. К тому же человек не существует в вакууме, и его жизнь и умозрения на неё, постоянно подвергаются корректировки внешним информационным фоном, который сегодня в крайность политизирован. Что в свою очередь налагает на человека безответственность или ответственность его отношения к этим реалиям жизни.
Так что то, что потенциальные претенденты на своё место в признанных рядах классиков, принялись ниспровергать самих же классиков, было делом времени. Правда не всех под одну гребёнку, а лишь тех, кто своим мировоззрением не укладывался в современные культурные тренды, часто раздражал своей непримиримой позицией к некоторым изъянам общества, которые нынче даже вполне принимаемы и не только терпимы, и при этом всё это ими подаётся с такой неопровержимой долей таланта, что даже становится невыносимо всё это читать и слышать.
И первым шагом по этому направлению, – ниспровержению не актуальных для новой нормальности выразителей культурного кода народа писателей, – началась компания по переосмыслению прежних истин, которые в своё устаревшее и во всех смыслах отсталое время, смели отстаивать и провозглашать те идеологи своего времени.
– Красота спасёт мир. – После таких заявлений Достоевского, несказанно удивлён такой технической несостоятельности его писательского гения ли, представитель наиболее полно реализующего себя в жизни, модного писательского течения, Анри Ротинг, который в знак своего необычайного волнения, тут же просунул мизинец своей руки себе в тоннель мочки уха. И хотя Ротинг сколько себя помнил и знает, то всё это время, через всевозможные проколы и татуировки на своём теле, он всегда стремился к ощущению красоты, всё же что-то в этом утверждении своего теперь точно оппонента, его настораживает.
Что заставляет Ротинга обратиться за ответом к зеркалу, с которого на него смотрит весь такой модный, хоть прямо сейчас иди на ток шоу, современный писатель, который в нынешнее время и сам должен быть интересным для своих читателей. Не то, что все эти, старой формации писатели, привыкшие нагнетать на себя таинственность и ореол романтики, умело прячась за свои новеллы и повести, что иногда и впрямь впадаешь насчёт них в чувственное заблуждение. Правда надо отдать должное тому, как этот сукин сын, ну до чего же правдоподобно и достоверно описал всё то, что случилось с этим козлом и той стервой, отчего даже закрадывается сомнение в вероятностной сути его ознакомления с этой истории, а его ссылки на художественный замысел и воображение, всего лишь есть прикрытие его имевших место в реальности делишек.
Правда при этом Ротинг, вглядываясь в себя в зеркало, при виде себя, где всё на при нём и на полагающемся месте, не просто чувствует уверенности в том, что эта та красота, которая спасёт мир, а наоборот, начинает убеждаться в обратном. Что и приводит его к радикализации взгляда на эту озвученную ранее версию красоты.
– Нет, я понимаю, что каждый имеет право и достоин своей точки зрения на особенности этого мира. Но вот любые обобщения, я не приемлю. – С возмущением, посредством своего отображения в зеркале, обратился Ротинг ко всем уже, по его мнению, засидевшимся на своих пьедесталах, бывшим безоговорочным авторитетам мысли. – Слишком уж не толерантен к людям с некрасивой внешностью, этот, наверняка, ещё во много чём предосудительном и даже возможно противозаконном замешанный писатель. – Сделав для себя окончательный вывод насчёт личности писателя Достоевского, Ротинг решил не останавливаться на этом и пойти дальше. Так он решил начать освобождение закрепощённых мудростью предков умов молодого поколения, которое имеет все основания для того, чтобы без оглядки на чужие ошибки и сделанные из них выводы, учиться на собственных шишках.
– И это право никто у меня не отнимет! – погрозив кому-то там, в небесах, Ротинг в качестве демонстрации своей готовности идти до конца и в отстаивании этой своей жизненной позиции, взял и лизнул железную ручку входной двери дома. Что хоть и странно, но, в общем-то, терпимо, правда не во все времена, и в особенности на морозе, что и привело Ротинга к своим прилипчивым последствиям. Но Ротингу хоть и больно, но он сам того хотел, правда не срывать язык на голос отчаяния и вследствие этого срыва, полученную им картавость. Но что уж поделать, раз без своих жертв, и это самое малое, ни за что не отстоять своё право на особый взгляд и видение мира.
В общем Ротинг, на первом же своём опыте, на чём он требовательно и настаивал, убедившись в том, что собственный опыт, а тем более ошибочный, это всегда чрезмерно больно, тем не менее выказал себя человеком последовательным, энергичным и убеждённым в отстаивании этого своего права, продолжая на своём уровне продвигать в жизнь эту свою теорию первооткрывателя. И надо сказать, что Ротинг из-за своей непоколебимой и зачастую вызывающей полный любопытства интерес позицией, завоевал определённое уважение среди тех членов клуба, кому мешали все эти авторитеты мысли на их пути к своей авторитетности.
Правда существовать, а тем более двигаться вперёд к вершине Парнаса, без вообще ориентиров, не представляется разумным и, пожалуй, не имеет какого-либо смысла, и поэтому Ротинг, и временно (пока их путь не приведёт к вершине Парнаса) примкнувшие к нему пока ещё мало влиятельные и даже частично ничтожные члены клуба, решили проявить благоразумие и в качестве эталонов отображения в слове художественной мысли, оставили на своих местах тех представителей мысли, на ком они выросли, и кто оказал на них самое существенное влияние.
При этом Ротингу и подстрекаемой им группе последователей, которые причисляли себя к наиболее просвещённой, западной школе исследователей человеческого нутра, для реализации их концепции взглядов на мир, с пересмотром его основоположений и низвержением бывших авторитетов, необходимы были те авторитеты, кого бы можно было пересмотреть и усомниться в правомочности их вкладов в мировую культуру. И понятно, что их взгляды ожидаемо направились в одну сторону, в восточный писательский блок. Но Ротинг и группа его последователей не сразу ринулись опровергать и подвергать сомнению значение и правомочность тех классиков от литературы, которые стояли за спинами их оппонентов, а они для начала решили присмотреться.
А всё потому, что Ротинг и его согоспода, по прошлому опыту своих предков зная, – и хотя эта вещь в их глазах бездоказательная и оспоримая, но в данном случае ими было решено на этот счёт сделать своё исключение, без которых стоющих правил не бывает, – как этот противник невероятно везуч и опасен, решают более обстоятельно подготовиться. Тем более уже частичный опыт был приобретён лордом Лабаном, который аргументировано, – по нашему огромному, с привлечением стольких специалистов, вкладу в развитие остросюжетной и детективной литературы, да и ВВП не забывайте учитывать, – посмел утверждать, что он не считает литературой то, что не может прочитать. И, пожалуй, на этот раз лорд Лабан поспешил закуривать свою сигару, так как в один момент был пригвожден сапогом со стальными набойками своими ногами к полу.
– Понимаю. Не хватало мотивации изучить чуждый вашему империалистическому сознанию язык. – Не сдвигаемо и скорей всего, без на то того позволения лорда, нерушимо расположившись на ногах лорда Лабана, уперевшись в него пронзительным взглядом, сказал гражданин Самоед, получивший это своё имя, благодаря своей нервной привычке грызть колпачок своей самой простой, без названия ручки. На что лорд Лабан, ничего не может ответить, и не только от переполнявшего его возмущения и оказывающего давления на его речевые функции устоявшихся на его ногах ног гражданина Самоеда, но и оттого, что его зубы стиснули вставленную в рот сигару.
В свою очередь Самоед, при виде всех этих затруднений лорда Лабана, вновь проявляет себя с понимающей стороны, и не слова ни говоря, берёт и к полнейшему умопомрачению лорда Лабана, прикусывает его сигару со своей стороны. После чего Самоед смотрит на лорда Лабана, находящегося в такой удивительной связке с ним, и с улыбкой подмигивает ему. Чего нервы лорда Лабана не выдерживают, и он, открыв рот, выпускает изо рта эту свою связующую нить с Самоедом. Но Самоед не для того зацепился за эту сигару, чтобы использовать её по своему единоличному назначению. И Самоед тут же выплёвывает сигару и требовательно обращается к лорду Лабану.
– Так вот. Слушайте присказку и делайте соответствующие вашему сознанию выводы. Да будь я и негром преклонных годов и то, без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал товарищ Ленин. – Самоед сделал паузу и уточнил у лорда Лабана. – Ну так что, ты всё понял?
– Угу. – Пробубнил в ответ лорд Лабан, и через мгновение ока, сам того не понял, как оказался в сидячем на полу положении. И хотя с этим вопросом вскоре всё разрешилось – Самоед, сойдя с его ног, тем самым отпустил его в свободное плавание, которое и привело его к такому положению – то вот насчёт изучения этого чуждого сознанию лорда Лабана языка, то с этим было справиться куда сложнее.
И здесь проблема не только в никакой памяти лорда Лабана, который даже при знакомстве с дамами в клубе, вынужден был по три раза с ними знакомиться, чтобы в итоге всё равно забыть, кого как звали. И, в конечном счёте, ему только и оставалось, как надеяться на интуицию, на которую только и надежда, потому что лорд Лабан никогда не ограничивается этой потерей памяти, а шёл дальше, до своего без памятливого состояния, где забывает и себя в том числе, как звали. А проблема в том, что лорд Лабан суеверно боится того, что он, приступив к изучению этого чуждого его сознанию языка, по мере понимания его, начнёт втягиваться и тем самым растеряет все свои предубеждённости насчёт него и его носителей. А вот этого лорд Лабан, как ни в одном поколении носитель традиций и ценностей своих предков, которые из своего принципа предубеждения ко всем кто не они, и для поддержания статуса своего высокомерия, стерпеть не мог. Впрочем, как и того, что ему грозили сапоги Самоеда в случае его неповиновения.
Да уж, в сложную ситуацию попал лорд Лабан, где даже вот так сразу, без предварительного опытного нахождения под сапогами гражданина Самоеда, и не определишься с наиболее разумным выбором. И как думаете, какому же нетерпению отдал предпочтение лорд Лабан? Хм. И даже спрашивать как-то неуместно. И само собой разумеется, лорд Лабан не смог отказаться от принципов и ценностей своих предков, принявшись изучать этот ненавистный ему язык, как на том настаивали его предки – с высокомерным предубеждением.
Так вот, Ротинг и его приверженцы, учитывая все возможные опасности, решили не идти на рожон, а учитывая специфику своего образа мышления, посчитали, что если им удастся через комплекс мер убеждения склонить на свою сторону хоть одного человека из противоположного лагеря, то это будет несомненно факт победы.
– И против кого будем играть? – спросил Ротинга лорд Лабан, который уже начал на себе ощущать воздействие нового языка. Так его зубные коронки подогнанные под его чистое кембриджское произношение, после того как он частично перешёл на ломанный язык своего противника, начали тереться совершенно не в предназначенных для этого местах и в результате деформироваться.
– Да я на одних только зубных коронках разорюсь. – Причитал лорд Лабан, обладатель что ни на есть самого жмотистого характера, которым гордились все кембриджские предки лорда Лабана. – Всё, с меня хватит. – На этом и на посещении своего стоматолога, хотел было закончить изучение русского языка лорд Лабан, как вдруг вспоминает кулаки гражданина Самоеда, которому покажутся малоубедительными эти его основания от отказа от знаний языка. После чего Самоед уже со своей стороны, вначале отправит его в нокаут, а вслед за этим к стоматологу. Хотя всё же чуть раньше к хирургу, исправлять свой прикус языка раскрошенными в хлам зубами. И лорд Лабан, сглотнув слюну, решает, что знания добытые без труда, и не знания, в общем-то, а это возвращает его обратно к учебнику.







