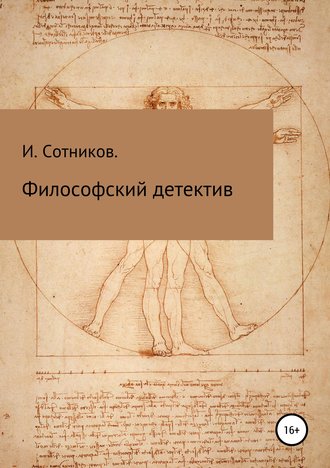
Игорь Сотников
Философский детектив
– Я согласен с тобой насчёт того, что женщинам время от времени, не помешает хорошая взбучка. Но Периандр в своих действиях, можно сказать, перешёл все границы дозволенного. Он же заставил мужей видных фамилий переселиться из своих угодий в город, запретил им устраивать совместные трапезы и попойки, а также наложил запрет на занятие гимнастикой всем местным аристократам, – выпалив всё это на одном дыхании, Гипербол не смог не заметить по удивленному с округленными глазами виду Цилуса, что его слова нашли свой отклик в нём.
– Вот это тиран! – правда, из ответа Цилуса не слишком было понятно, чего же в нём было больше – восхищения или зависти к той единоличной власти, которую так специфически использовал тиран Коринфа Периандр.
– А я о чём, – уже несколько нейтрально ответил ему на это Гипербол.
– Я всё-таки вас, демократов, не пойму. Ведь тирания – это результат демократического волеизъявления народа, и тогда что вас не устраивает? – Цилус определенно уже хлебнул лишка, поэтому уже не видит самые простые вещи, лежащие на поверхности, которые самый недалекий, неизбранный на новый срок политик, легко бы заметил – что выбор народа всегда неразумен, очень часто ошибочен и всегда находится в зависимости от довлеющих над чувствами внешних факторов.
И наверное бы, Гипербол, стоило ему только допить налитое в его чашу вино, то сразу же нашёл бы, что ответить этому представителю диктаторского режима Рима Цилусу, которому в виду его инородного положения, ладно, простительна такая слепота и непонимание основ свободы, на которой зиждется демократия… Но тут влез в разговор непонятно откуда взявшийся Это'т, который, вовсю повыражавшись в различных разномнительных кругах, устоявшихся вокруг того или иного геройского вида мужа, решил и здесь, в этом кругу, указать на своё центральное место.
Так Это'т, решив передохнуть от своих трудов, вернулся обратно сюда, в это место, где, как он помнил, Цилус уже обдал окружающее своим умиротворяющим и склоняющим ко сну дыханием. А это должно было способствовать временному отдыху Это'та, который, хоть и обладал ни с чем не сравнимой и недостижимой для обычного болтуна выдержкой своего иносказательного языка, но он всё-таки не робот (наверное, потому, что такого слова ещё не придумали, а существуй оно, то кто знает, чтобы на это сказал Это'т) и поэтому нуждался в подкреплении своих сил.
Но когда Это'т вернулся в эту, как он думал, сонную обитель Цилуса, то она к его удивлению, была совсем не сонной, а наоборот, даже очень бодрствующей, где гневность речей Терсита, сначала заставила его не спеша остановиться на месте, а уж дальнейшие речи Гипербола, обнаружили в нём умение слушать, чем он и занялся, приостановившись неподалеку за ушедшим в себя Миносом. Который для того чтобы сохранять свои мысли в свежести, старался не впускать в голову ничего лишнего и частенько таким, созерцательным себя способом, отстранялся от мира, что позволяло другим, в том числе, как и сейчас Это'ту, за счёт него, отстраниться от беседующих друг с другом Цилуса и Гипербола.
Ну и как только Это'т посчитал нужным вмешаться в разговор, то он, не предваряя себя, к недовольству Гипербола, не сходя с места и влез со своим, как он считал, всегда к месту словом. – Когда истина, эта качественная категория, определяется количественным фактором, разве после этого, она может называться ею.
– Что? – всё что только и смог озвучить в себе Гипербол, недоуменно поглядывая на влезшего в их разговор Это'та, которого, он конечно знал, и где как раз эти знания и подсказывали ему, быть осторожным в своих с ним разговорных словах. Ведь кто знает, что там ещё придумает этот Это'т, мастер на всякие словесные мистификации.
– Я про демократию, чьим символом служат весы. – Это'т, удивленно посмотрел на Гипербола и дабы придать своему голосу большей убедительности, подошёл во всей своей Это'та видимости, к бесхозному кувшину, взял рядом стоящую такую же бесхозную чашу (А нечего Гиперболу раскидываться посудой) и сначала поделился содержимым кувшина с этой чашей, затем в свою очередь, очень быстро поделился между нею и собой, ну а когда придёт своё время, то он, конечно, уже окончательно поделится между собой и природой, тем самым осуществив преемственность этого мира, в котором всё живое, есть только переходная форма, эта элементность общей системы под названием природа, входящая во взаимодействие друг с другом, питая и кормя, как себя, так и собою природу.
– Этот, ты, наверное, ошибся. Ведь весы, держит богиня правосудия. – В отличие от Гипербола, Цилус даже и не заметил отсутствия Это'та, и как только тот подал голос, то Цилус сначала даже удивился такой долгой выдержки Это'та, который, как он знает, не может промолчать, а тут и слова от него даже не услышишь. Ну, а когда тот, разродился своим мнением, то Цилус, имеющий юридическое образование и питавший страсть к женщинам с повязками на глазах, конечно, не мог, не выступить в их защиту.
– Ничего подобного. – Это'т ожидаемо начал упираться против не высказанной им истины, которая по этому, не его определению, не могла быть признана им за эту несомненность. – На одной чаше весов большинство, на другой меньшинство, эти две общие категории веса, применяемые для измерения человекоголосов и как результат, определяемый этими весами выбор. И вот, что мне интересно, а какая собственно необходима количественная разница или по возможности, пропорция между этими количественными категориями голосов, чтобы данный выбор был признан за истину. – Это'т обвёл всех присутствующих здесь взглядом и не услышав ни каких предложений, решил самому от себя чего-нибудь предложить.
– Ну, если обратить свой взор к народной мудрости, которая фундаментируется на опыте и даётся нам в виде поговорок и афоризмов, то на этот счёт подойдет поговорка, о тех семерых, которые одного не ждут. Из которой, очень точно даётся понятие той пропорции, при которой принятие решения, может обладать императивной силой. Ну, а когда нам предлагают принять решение, на основании существующего положения большинства, или, к примеру, в пропорциях, 40 к 60, или 30 к 70, или даже 20 к 80, то мне в голову тут же приходит софизм под названием «куча». И Минос, не даст мне соврать, я скажу. – Это'т повернувшись и обратившись ко всё также, стоящему на одном месте Миносу, этим своим заявлением, вывел того из своего спокойного положения, заставив заволновавшись, обратить свой взор на Это'та. Ну а Это'т, скорей всего, вспомнил про него, лишь для придания выразительности и убедительности своему слогу. – Что, при моём, неприязненном отношении к софистам (Удивленное лицо Миноса скорее говорило об обратном, но на него уже никто не смотрел и поэтому это утверждение Это'та, так и осталось неоспоримым.), я тем не менее, для данного случая привел бы пример известного всем софизма «куча», где невидимая грань истины, при переходе в качество кучи или же в обратное, так и остается вне пределов видимости и понимаемости разума.
– Ну, ты тут, Это'т, хоть и не далёк от истины, но я думаю, что это всё из той же категории, что есть мало, а что есть много. Они вроде бы, несут в себе количественную характеристику, но между тем, подразумевает некую субъективность, которая свойственна вещам, определяющим качество. Вот, смотри. – Цилус, любящий всякую теорию подкреплять практикой, налил себе ещё вина в чашу, чем вызвал во внимающим ему, не двоякое чувство жажды. После чего он, непонятно зачем, хотя возможно, для того чтобы поиздеваться над Гиперболом, чья жажда прямо читалась на его лице, смочил свой палец в вине, облизнул его, и принялся к своему дальнейшему аргументированию. – Вот, чаша с вином. Ну и скажи мне Это'т, в ней много или мало налито вина?
– Я тебя понял, Цилус. – усмехнулся в ответ Это'т, для которого все эти загадки с чашами, не представляли сложность. – Но для Гипербола, для его субъективности понимания, всё же скажу. Эта полная чаша, для всех вместе, будет не малой, не большой, когда как, для каждого в отдельности, она в зависимости от его природных качеств, будет для одного мала, а для другого велика, ну а для третьего, даже чересчур чего-то там. И только для самой чаши, это количество, не важно, сколько налитого в неё вина, будет в самый раз. – Это'т, видимо сильно разволновался от всего сказанного и быстро налив себе ещё, тем же скоростным темпом влил в себя то количество вина, которого было в самый раз, для того чтобы, Это'т не удержался на ногах и свалился с них на колени, сидящего рядом с Цилусом Гипербола. На что Гипербол, в общем-то, предпочитавший, чтобы на его коленях восседали нежные нимфы, а не всякая пьянь, которая даже не лезет обниматься, а своими теловращениями, пытается вытолкнуть его с этого заветного, рядом с нужным лицом, места, попытался выразить свой отпор. Но Это'т, обладающий соответственным убойным настроем, в купе с его убийственным запахом чеснока из рта, чьё весомое тело, весьма способствует его замыслу, не по своей, а по воле богов, наградивших его таким телом, очень быстро берёт своё, хоть оно может и не своё, и вытолкав Гипербола, занимает его теплое место, где он тут же и засыпает.
– Как был рабом, так и остался, рабом своих страстей. – Еле сдерживаясь от того, чтобы своим кулаком не поправить подушку под развалившимся в позе эмбриона Это'том, чья голова свисала с сиденья, Гипербол, в чьи планы входил свой разговор с Цилусом, решил, пока что ограничиться только этим высказыванием. Когда как Цилус, несмотря на свои диктаторские замашки, проявил себя по отношению к Это'ту очень даже демократично, и вместо того, чтобы обрушить свой гнев на своего выпившего на службе работника, снисходительно посмотрел на него, затем перевёл свой взгляд на ожидающего его решения Гипербола, и усмехнувшись, заявил:
– Ну, судя по Это'ту, его чаша на этот раз, наконец-то полна. А вот моя, в отличие от этого счастливца, ещё не достигла должного уровня понимания. Впрочем, если сия чаша не миновала Это'та, то, как я погляжу, (Цилус заглянул в пустоту свой чашки) моя, через свою не наполненность, боюсь, что в скором времени, не минует чью-то незаботливую и пустую башку. – Этот лукавый и очень деспотично настроенный ко всему, когда его чаша пуста, Цилус, очень понятливо для Миноса, посмотрел на него. После чего, тот схватил опустевший кувшин и поспешно отправился за следующей малой толикой, которая миновав отметку, в самый раз, должна стать запредельной.
Ну, а пока они остались наедине (выбившийся из сил Это'т не в счёт), то это, как раз то время, когда можно сказать то, чего нельзя было сказать при третьей паре ушей. И Цилус внимательно посмотрев на Гипербола, спросил того:
– Ну так, что вас на самом деле привело ко мне?
И спрашивается, зачем задавать вопрос о том, что и так сам знаешь. А этот Цилус, совсем как та девочка, знающая о всех надеждах, планах и намерениях, того сохнувшего по ней юноши, решившая, что прежде чем ей ответить, на так мучающий этого юношу вопрос о взаимном наличии с её стороны к нему чувств, надо для начала, непременно того вопросительно помучить, а уж потом, когда тот потеряет всякую надежду, оглушить того той новостью, на которую, как он говорил, не мог рассчитывать, а услышав которую, он видимо и впрямь не рассчитал, и пал перед ней ниц (ну, а если не упал, то он скорей всего лукавил и всё же рассчитывал услышать это судьбоносное «да»).
– Я и те, кого я представляю, всегда с сочувствием смотрим на запад. Откуда, как мы считаем, только и может прийти та сила, которая поможет нам установить тот новый порядок, который будет отвечать всем чаяниям наших народов. – Речь Гипербола, несмотря на свою внутреннюю силу, дабы не расплескаться по сторонам, текла практически прямо в уши Цилуса, для чего собственно Гипербол, и наклонился поближе к нему.
– Ну, судя по отдельным его представителям, чаяния народа, не слишком уж и монолитны. – Цилус, чьи глаза в одно мгновенье прояснились, как оказывается, умеет держать дипломатическую марку.
– Если ты, насчёт Терсита, то моя намеренность привода его сюда, заключалась в том, чтобы на его примере показать тебе мои возможности, направлять в нужном русле, любые, даже самые горячие головы, как, к примеру, Терсита. Ну, а таких горячих голов, за мной стоит, скажу так, очень даже не мало. – Не меняя свою позу, в том же заговорщицком духе, продолжил разговор Гипербол.
– Интересное предложение. – Цилус, пропустивший мимо глаз ушки на макушках, местами бодрствующего Это'та (всё-таки не зря, на его на груди болтался аметист), но заметивший приближение Миноса (что говорит о том, что наши желания делают нас слепыми к близким нам вещам, но далёким от самих этих желаний, когда как, всё что связано с исполнением желания, придает нам на счёт их дальнозоркости), решил обойтись этой короткой ответной фразой.
– Ну, Минос, тебя можно хоть за Танатосом посылать. – Родившаяся бессмертная фраза в устах Цилуса, заставила Миноса и так не слишком довольного, ещё больше скривиться, что, в общем-то, было максимумом от того, что он мог себе позволить. И Минос, дабы не нарваться на ещё какой-нибудь бессмертный афоризм со стороны Цилуса, поспешил заткнуть тому уста, наполнив поскорее его чашу. Затем следует своя необходимость осушить налитое, после чего, вновь протянутая в сторону Миноса чаша, требует своего дополнения.
– Слушай, Минос. – Когда первый приступ жажды был утолён и вслед за телесностью, обрёл свои новые начертания разум, Цилус развалившись на своём полуложе, найдя для своего мыслевыражения новый предмет приложения в виде Миноса, решил обратить на того свой взор.
– А как ты относишься к словам Это'та. –Спросил Цилус Миноса, чем надо сказать, очень сильно озадачил того, ничего не просто не слышавшего, а скорее даже и не считавшего нужным слушать то, что баснил этот Это'т.
– Да так же, как и он к ним. Не критично. – Бросив вслед за Цилусом свой взгляд, на пребывающего в сопящем себе и на ложе Это'та, всё-таки нашёл, что ответить Минос.
– Да ты не так-то прост, как кажешься. –Рассмеялся в ответ Цилус. – Ну а всё-таки, что ты скажешь на счёт приведённого им для примера, софизма «Куча». –К удивлению, а может просто к видимому удивлению Цилуса, Минос, как только услышал упоминание софизм, то сразу же ещё больше потемнел в лице и чуть ли не с ненавистью посмотрел на Это'та.
– Они сами все лжецы. – Минос неожиданно для Гипербола, выпалил из себя это пространственное обвинение и не собираясь, что либо объяснять, пнув ногой по развалившимся на проходе ногам Это'та, вышел в проход. И если Гипербол, за всеми этими странными действиями Миноса, смотрел с недоумением, то Цилус на это только посмеивался.
– А вот это мой ответ на твой пример. – Цилус хитро подмигнул Гиперболу, который так и не понял, отчего была вызвана эта вспышка гнева Миноса. Но Цилус, не стал тому объяснять (да и зачем делиться информацией) эту не любовь критянина Миноса к материковым эллинам, которых он считал завистниками, которые, не имея возможности оспорить факта того, что их культура зародилась на его родине Крите, стали вести против них грязную информационную войну, в которой не последнее место играли эти игры мысли, софизмы и апории.
– «Все критяне, лжецы», эта запущенная в массы, приписываемая критянину Эпимениду апория, что уже есть однозначно ложь, есть происки этих афинских манипуляторов сознания из партии софистов. – Кипел от гнева Минос, не знавший никакого Эпименида. – Не мог настоящий критянин, зная современную политическую обстановку, даже в сугубо философских целях, заявить такое. Только, если, конечно, он не коллаборационист или же сам лжец. Ну, а если он лжец, то значит его высказывание ложно и все критяне не лжецы, но… тогда значит, он сказал правду. Да как, так то. – Обливаясь потом от этого своего мыслезаключения, Минос ещё больше ушёл в себя. И, наверное, Минос, ещё бы долго пребывал в таком мысленном возмутительном для себя положении, если бы жёсткий удар в его плечо, нанесённый проходящим мимо него, слишком широким для этого прохода плечом воина, не вывел Миноса из своего временного забытья.
– Видишь и мы в этом плане, что-то да умеем. – Всё продолжает лыбиться Цилус, глядя на Гипербола.
– Вижу. – Не слишком довольно ответил ему на это Гипербол. После чего разговор, смоченный в вине, в соответствии с этим смачиванием, смягчается и уже уводится в свою сторону, где их взоры останавливаются в соответствии с крепостью налитого, на тех образах женской стати, которым по мнению того же Цилуса, уже пора бы понять, что лучшего места, чем рядом с ним, им здесь не отыскать. И если Цилус и Гипербол, впитывали в себя различные виды однозначно гетер, то Минос, которого беззастенчиво сбил плечом какой-то, судя по военной амуниции и его грозного вида спартиат, пытался своим взглядом отыскать этого наглеца. Что, на этом этапе, ему было бы весьма сложно сделать, ведь этот, не разбирающий дороги спартиат Леандр, вместе со своим товарищем Леонидом, прибывшие в Афины в составе делегации на переговоры, находились на верхней площадке у входа в амфитеатр, который в свою очередь находился со стороны затылка Миноса, куда он, судя по его человеческому строению, вряд ли когда-нибудь смог бы заглянуть.
– А, Алкивиад. – Заметив появление несколько запыхавшегося в дороге Алкивиада Никий, к удивлению Алкивиада, выразил воодушевление при его появлении. Чему, скорее всего, способствовало присутствие рядом с Никием этих двух спартиатов, которые, стоило только Никию разразиться этим приветствием, сразу же перевели свой хмурый взгляд на приближающегося к ним Алкивиада. Но ему в данный момент совершенно не хотелось ни с кем говорить, ну а со спартиатами тем более. Правда, Никий, выдвинувшись к нему навстречу, не дал ему возможности увильнуть мимо него куда-нибудь в проход, и Алкивиаду пришлось остановиться для разговора с Никием. А ведь он, ещё совсем недавно, до этой отлучки Алкивиада, совершенно не стремился вести с ним разговоры, а тут смотри-ка, какие перемены.
– К чему бы всё это? Спрашиваю я себя. – Не успел Никий открыть свой приветственный рот, как Алкивиад сразу же вопросительно осадил его.
– Необходимость. И не только моя. – Никий, как хитро посмотрел, так и многозначительно ответил.
– А я, как раз думаю обратное. – Алкивиад, заложив руки крест накрест, бросив свой взгляд на ожидающих от них чего-то своего спартиатов, вызывающе посмотрел на Никия.
– Ну разве правила гостеприимства, не обязывают нас к вежливости. – Никий всё не отстает от Алкивиада, который, так и не понимая, что тому нужно, решает дать тому шанс объясниться.
– Всё то, что обязывает, а не идёт от души, по своей необходимости лицемерно. – Всё-таки противоречив Алкивиад, решивший сначала дать Никию шанс, и тут же, решает подрезать тому крылышки.
– Вот и попрактикуйся на дипломатическом поприще. – Никий оборзев в доску, бесцеремонно хватает Алкивиада за локоть и в два шага подводит его к этим грозно выглядящим спартиатам, на лицах которых так и шелохнулся ни один мускул. Впрочем, им незачем было приходить в напряжение при появлении ещё одного из эллинов, которых здесь, как собак не резанных.
– Приветствую вас здесь, посланники дружественной Спарты. – Оказавшись лицом к лицу с этими серьезными лицами, Алкивиад решил, что при разговоре с ними, не стоит им дерзить прямо так в лицо, а вот дипломатия как раз очень даже не помешает.
– И мы приветствуем тебя, Алкивиад. – Заявил в ответ ему, стоящий слева от него, более широкий в плечах, обородивший своё лицо обладатель пронзительного взгляда Леандр, по интонации голоса которого, Алкивиад обладающий музыкальным слухом узнал в этом голосе того, первого закустного заговорщика. Ну, а раз Леандр, был одним из тех заговорщиков, то всего вероятней, стоявший рядом с ним, пока ещё не проронивший ни одного слова его товарищ, следуя логике, где презумпция виновности играет свою определяющую роль и есть тот второй заговорщик. Ну а как только Алкивиад узнал их, то его сердце, сейчас же, с придыханием решило позавязывать шнурки на пока что его сандалиях. Правда сам он сам хоть и сглотнул комок несвежести, но вдруг к своему удивлению, дерзнул на резкость.
– Что я бесспорно ценю в Спарте, так это умение выходцев из нома Лаконии, вести разговор. Так что, давайте не будем отступать от этих правил и скажем друг другу то, что хотели. – Алкивиад, дерзостью своих речей, нимало смутил, как Никия, так и этих спартиатов, явно не ожидавших такого напора красноречия Алкивиада. А ведь они всегда при себе имели аргументы в виде огромных кулаков и в крайних случаях, чего по острее
– Неожиданно. – Только и промолвил Леандр, сурово глядя почему-то на Никия, который после этих слов Алкивиада, несколько даже поник.
– А я, как раз думал, что ваш друг Никий, вам объяснил занимаемую мною позицию по Спарте. А из неё, можно сделать только один вывод. Мне с вами, говорить не о чем. – Алкивиад не даёт даже возможности собраться с мыслями спартиатам, и уловив этот момент их забвения, быстро оставляет их здесь, в своём от него забытье.
«Диоген». – только это имя сейчас, вбившись ему в голову, не даёт Алкивиаду покоя. А ведь он, возвращаясь обратно к амфитеатру, сначала сделал крюк на то место площади, где находилась эта последняя достопримечательность города, бочка Диогена, но к своему удивлению, её не было на месте. Что ещё больше встревожило его и он, устремившись сюда к амфитеатру, уже здесь на месте, где находилось всё знающее обо всем и обо всех общество, решил разузнать о том, что произошло с Диогеном. Так что для него было объяснимо, такое его нежелание задерживаться с этим Никием и его новыми друзьями. Что, правда, для них, это было мало понятно, и воспринято, как и положено, при недопонимании собеседника, как игнорирование их мнения, чему всегда служит дерзновенность собеседника, которому просто необходимо преподать свой насущный урок. И если спартиаты, об этом не промолвились, то невыразимость их лиц, посмотревших вслед Алкивиаду, однозначно предусматривала подобный вариант развития событий вокруг задницы Алкивиада, над которой сгустились свои грозовые тучи.
– Критон. Ты что-нибудь слышал про Диогена? – Алкивиад, потолкавшись в нескольких знакомых кругах и не добившись ни от кого ответа на свой насчёт Диогена вопрос, наконец-то, обнаружив своего друга Критона, решил спросить его. Правда, занимавший свою центровую позицию в кругу внимающих каждое его слово молодок Критон, услышав зов Алкивиада, отчего-то не сразу выразил готовность броситься на зов своего друга. Чему, наверное, было объяснение в этих глазах напротив, красотки Антигоны. Так что, Алкивиаду пришлось о себе два раза напоминать и только лишь когда он ворвался в этот круг и отстранив собой Антигону, то лишь тогда Критон, соизволил, правда, с недовольной физиономией, быть услышанным.
– Да разве ты не знаешь, что Диоген появляется оттуда, откуда его совершенно не ожидаешь увидеть. –И стоило только Критону проговорить эту верную, основанную на практике истину, как поднявшийся шум со стороны центрального входа в амфитеатр, заставил всех здесь и там, и там стоящих обернуться туда, по направлению этого нового звукового оформления, словесного ристалища граждан Афин. Критон, как умелый рассказчик, зная, что укромные места всегда сопутствуют познанию, вёл свои просветительские беседы в немалой отдаленности от всей этой словесной и толкательной суматохи, в одной из тенистых аллей. Ну а там, в тени оливковых деревьев, всегда можно скрыть, а пожеланию раскрыть свою благожелательную расположенность друг к другу.
– Что там случилось? – толкая и вопрошая друг друга, в общем, занимаясь одним и тем же, что, конечно, способствует сплоченности, правда при этом, никак не продвигает вас в деле поиска ответов на все эти однозначные вопросы, двинулись по направлению этого шума все те из стоящих здесь, кому было свойственно любопытство, ну, в общем, все. Ну, а судя по тому, что все с таким воодушевлением принялись расталкивать, затаптывать и поддавать исподтишка друг друга, то наверное, то, что случилось, стоит того и всех этих дорожных неприятностей, на которые себя обрекли все эти, рвущиеся вперед к эпицентру событий зеваки.
Правда, часто случается так, что для тех, кто побывал под ногами толпы, это главное событие, к которому все так стремились, после того как по его очень не милосердно втоптали в грязь более удачливые соперники по зрительскому искусству, то по сравнению с желанием узнать, какая же, падла, отдавила ему самые близкие для его естества места, уже не вызывает столь большой интерес. Это в них говорит ревнивость к тем, кому удалось занять лучшие для просмотра места.
– Диоген! Диоген! – До Алкивиада, ещё не сумевшего добраться до места обозрения, донеслось это заветное имя, звучащее в устах тех, кто там впереди, первым оказался среди тех счастливчиков, кто смог увидеть всё то, что вызвало это столпотворение.
– Дайте, пройти. – Сопровождая свои локтетолкательные движения этой напористой просьбой, Алкивиад удивлял и раздражал тех, на кого приходились его слова и действия.
– Ну, Диоген, молодец. Умеет же, завоевать внимание зрителей. Лучшего перформанса не видал. – Чем ближе Алкивиад приближался к месту, с которого ему, хотя бы одним глазком, можно было увидеть, что там происходит, то тем чаще звучали все эти восторженности от увиденного, что ещё больше заставляло усердствовать его в своем стремлению к знаниям.
Когда же Алкивиад, приблизившись к относительно свободному месту, так сказать, достиг своей цели, то он смог посмотреть лишь в прорезь меж плечевого пространства стоящих впереди незыблемой стеной зевак, чья сила воли вместе с их занятиями гимнастикой, наконец-то оформилась в практическую область, позволив им занять свои первые зрительские места здесь на входе. Ну а тем, кто не слишком усердствовал на тренажерах, придётся постоять сзади и довольствоваться своим за спинным местом. Ну а Алкивиад, был и этому рад, где он наконец-то, хоть что-то для себя заметил из того, что случилось.
И хотя он, уже прибыл к окончанию всего происшествия, и всё самое интересное уже просмотрел, между тем, он был рад и тому увиденному, что осталось на его счёт. Заметив разбитую напрочь бочку, из которой первые опомнившиеся зрители, принялись вытаскивать мало что соображавшего Диогена, Алкивиаду не показалось, что тот был слишком готов к такому безудержному повороту событий, на который сегодня обрекла его, всего вероятнее, не его, а чья-то другая рука. Правда Алкивиаду, тут же вспомнились слова Диогена «Философия дала мне готовность, ко всякому повороту событий». Так что, Диоген, в принципе должен был готов к тому, что когда-нибудь, кто-то из особых почитателей его таланта, захочет его прокатить в своей же бочке, которая, как понял Алкивиад, чьей-то заботливой рукой была прикрыта вместе с Диогеном и прокачена вместе с ним до этого места и уже отсюда, придав ей ускорение, отправлена вниз на сцену театрона.
– А что-то по виду Диогена не скажешь, что он остался доволен своей очередной выходкой. – Кто-то очень наблюдательный заметил эту потерянность в глазах Диогена.
– Это по тому, что она оказалась прокатной. – В толпе зевак всегда найдутся свои циники, смотрящие на всё под углом смекливого веселья, чем всегда вызывают дружный гогот таких же весельчаков, для которых уже радостно то, что не они, а кто-то другой оказался в этой бочке. Ну, а вслед за веселыми циниками, всегда наступает свой черед злопыхателей, которых всегда найдется своё необходимое количество, чего в случае с Диогеном, и с его всем известным нравом, можно было не сомневаться, найдётся не только достаточное, но и очень предостаточное количество.
– Будет знать, как срывать мои лекции. – Первым заявил о себе Анаксимен Лампсакский, прибыв на урок к которому, Диоген, достав рыбу и начав её чистить, тем самым внёс свою лепту в срыв этого урока. «Но что стоит лекция, если какая-то солёная рыбка опрокинула твои рассуждения?». – так и стояли слова Диогена перед Анаксименом, чья злобная ухмылка исказила его лицо, вглядывающееся на облитое водой лицо Диогена, который уже начал постепенно приходить в себя.
– До плевался. – Следом последовала свое резюмирование со стороны дородного и очень важного гражданина в дорогом хитоне, который вслед за сказанным, рефлексивно вытер со своего лица невидимый плевок, которым, судя по его высказываниям, в своё время наградил его Диоген и о чём перешептывались между собой злые языки, имевшие своё не отличное от Диогена мнение насчёт этого скупердяя. Который в своё время, решив похвастаться своей роскошью жилища, на свою неосмотрительность, привёл в дом Диогена, где сходу и заявил ему:
– Видишь, как здесь чисто, смотри не плюнь куда-нибудь, с тебя станется. – После чего Диоген осмотрелся и плюнул ему в лицо, заявив: «А куда же плеваться, если нет места хуже». – Так тебе и надо Навуходоносор. – Видимо уж очень сильно припёк его Диоген, раз так совершенно не сдержан этот степенный гражданин, разбрасывающийся такими трудно-постижимыми и трудно-выговариваемыми для простых смертных словами. Хотя, как не припёк, а даже ещё так, что Хилон (этот степенный господин, который не смог вынести наплевательское к себе отношение.), тёзка одного из семи известнейших древнейших мудрецов Эллады, когда-то сказавший: «Познай самого себя», теперь готов на всё.
Что, наверное, и послужило тем побудительным мотивом плевательных действий Диогена, решивший, таким, слегка не деликатным образом, дать Хилону возможность задуматься над очертаниями своего лица в этом мире. Но Хилон, и близко не стоявший к мудрецам, не оценил по достоинству это послание Диогена, тогда как сама эта выходка Диогена, была оценена теми, которым только дай повод оплевать всякое хорошее дело. Вот эта та, масса подражателей, взяв на вооружение такой подход к делу со стороны Диогена и принялась доставать своими плевками Хилона, который только после этого наплевательского, очень смачного к себе отношения, смог, наконец-то, по своему исплеванному достоинству, как оценить поступок этого, увижу, придушу Диогена, так и познать самого себя, и на то, на что он способен.
Ну, а когда Хилон получил свою порцию наплевизма, то эти подражатели, не имеющие ничего святого, назвавшиеся себя взрывным именем «Гексоген», уже принялись жечь своим напалмом лица тех, кто, по их мнению, замарал себя бесчестием в торговле. Для усиления силы поражающего элемента, своего плевка, эти анархически настроенные граждане, размалывали во рту жгучий перец наравне с чесноком, отчего плевок, воистину становился горючей смесью, чьё попадание в лицо, и особенно в глаз, могло привести к большим осложнениям.







