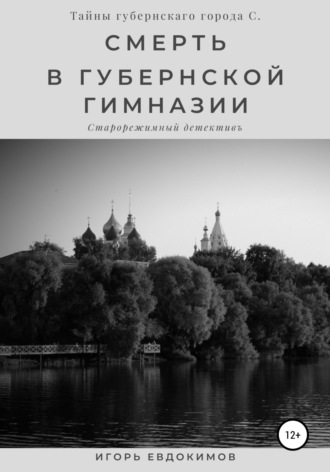
Игорь Евдокимов
Смерть в губернской гимназии
– Будьсделано! – браво отрапортовал дворник.
Гороховский, к этому времени, закончил допрос кухарки, и, судя по взглядам, которые на него кидала баба, оставил о себе неизгладимые впечатления. Ничего толкового, к сожалению, она добавить к рассказу дворника не смогла – да, барин был грубый, капризный, скаредный, и пропадал иногда ночами. Дальше настал черед слуги. Парня звали Дмитрием. От Черкасова не укрылись его хитрые, бегающие глаза и некоторая развязность манер. Константин опять отметил про себя, что парень не похож на слугу в учительском доме. Голос у Дмитрия оказался на удивление басовитым.
– Чем вчера Николай Михайлович занимался?
– Да ничем таким особенным. Они-с проснулись поздно, когда уже совсем рассвело. Потребовали завтрак. Манька-то уже сготовила, я просто поднял и стол накрыл.
– Манька – это кухарка?
– Она самая.
– Хорошо. А дальше?
– А дальше они-с работали. Закрылись в кабинете, велели не беспокоить.
– А ты?
– А мне сказали: «Не беспокоить», я и не беспокоил.
– А как же записка?
– Какая записка? – притворно удивился Дмитрий.
– Которую ты у мальчишки забрал, когда тебя дворник кликнул.
– Ах, это! Да-с, забрал.
– И?
– Что «и», ваше благородие?
–И что дальше с запиской? – Гороховский, доселе по привычке молчавший, начал терять терпение. – Мне из тебя клещами слова вытягивать?
– Отдал Николаю Михайловичу, – пробасил Дмитрий и замолчал. Константину хотелось зарычать.
– А он что?
– Прочел, думаю. Он, как записку забрал, сразу меня отпустил.
– Ты не видел, как он ее читал?
– Нет.
– И не видел от кого записка?
– Нет, – слишком уж притворно замотал головой слуга.
– Да ладно тебе, – нехорошо усмехнулся Черкасов. Несмотря на молодость и некоторую наивность, он уже понял, каким любой полицейский чин предстает в глазах обывателя. Обычно его это скорее печалило. Однако, для пользы дела, он мог и подыграть – изобразить эдакого беспринципного молодого рвача, в погоне за продвижением по службе готового «перемолоть» любого мелкого человечка, попавшегося на пути. – Я же вижу глаза твои хитрые. Вот ни за что не поверю, что ты удержался и не прочитал незапечатанную записку!
– За что вы на меня напраслину возводите? – ненатурально оскорбился Дмитрий.
– Напраслину? А давай мы с тобой не здесь потолкуем, а в участке? – разгадал настроение Черкасова квартальный и скорчил свирепую рожу, что, с его бритой головой и загорелым лицом, было несложно. – Упрячу тебя в «холодненькую» на денек, сразу станешь разговорчивым.
– Не за что меня прятать, ваше благородие! – возмущенно пробасил Дмитрий, но глаза его испуганно заблестели.
– Думаешь, я не найду? Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие! Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией! – угрожающе повысил голос Гороховский, не сводя глаз со слуги. Этого хватило – тот сник, потупил взгляд и начал говорить.
– Ну, прочитал. Женский там почерк был. «Буду ждать в назначенный час». И все.
– А что хозяин?
– Я, когда уходил, видел, как он открывает записку. Лицо у него довольное было.
– И не знаешь, от кого записка?
– Не знаю. Не было у хозяина женщины постоянной.
– А непостоянной?
– Может, и была. Он раз или два в неделю уходил и на ночь домой не возвращался.
– Куда?
– Точно не знаю.
– А не точно?
– Думаю, на Солдатскую.
– Да ладно! – опешил Черкасов. Солдатская улица, особенно в той части, которая прилегала к реке, была мерзким местечком. Там находилось сразу несколько домов терпимости, как официальных, так и подпольных, а «безбилетных» девок так вообще не счесть. Бывали места и похуже, конечно – номера «Китай», например, но бывали и значительно лучше. Представить себе учителя гимназии, скрытно спешащего на встречу с продажными девками на Солдатской улице Константин мог с трудом.
– Он ездил к Банцекову, одно время, – назвал Дмитрий относительно роскошный для губернского города «кафе-шантан» у волжских пристаней. – Потом поиздержался, и более его туда не пускали. Но он продолжал пропадать куда-то по ночам, поэтому, думаю, нашел место по карману.
– Очаровательно, – покачал головой Черкасов. – А что можешь сказать про мужиков, которые к твоему хозяину приходили?
– Ничего, он всегда меня из комнаты выгонял, – поймав взгляд Черкасова, он быстро добавил. – И говорили они тихо, из-за двери не слышно. Но думаю, что они тоже оттуда, с Солдатской. Или еще из какого-нибудь веселого заведения, из тех, где девки есть, и в карты играют.
Глава третья
«В губернской гимназии»
Обыск, проведенный Черкасовым и Гороховским, особых результатов не дал. Записки, принесенной мальчишкой, не нашлось. Определенные надежды Черкасов возлагал на найденную записную книжку, но Нехотейский и тут оказался скрытным – она содержала только инициалы и суммы. Больше ничего, представляющего интерес, в доме не нашлось. Разве, что у Дмитрия обнаружилось под матрасом несколько серебряных ложек и ассигнаций, но тот, пряча глаза, уперся, и говорил, что это фамильные ценности и его содержание соответственно.
Сыщики разделились. Гороховский отправился в больницу, наблюдать за вскрытием и составлять опись найденных при Нехотейском вещей, а Черкасов отправился в гимназию. Занятия начинались только 16 августа, однако многие преподаватели уже начинали готовиться к новому учебному году, а ученики, проживающие в пансионе при заведении, уже съезжались с летних каникул. Путь коллежского регистратора пролегал через Большую Саратовскую. Черкасов шел по проложенному в центре улицы бульвару, обсаженному акацией – чудесной в весеннюю пору цветения, однако к августу ставшей пожухлой и пыльной. Несмотря на это, Большая Саратовская оставалась главным украшением города. На ней находились самые крупные банки и самые роскошные магазины. До недавнего времени в начале улицы находилось и деревянное здание старого театра, но совсем недавно его разобрали и продали на слом. За строительство нового, каменного, взялся гвардии штабс-капитан Прянишников, клятвенно уверивший общественность, что работы закончит к осени. Жители города были настроены скептически – новый театр обещали построить уже без малого 10 лет минимум трое достойных граждан, однако данного слова ни один из них так и не сдержал.
Вдоль улицы устроили свои биржи извозчики – ждали выходящих из магазинов покупателей, нагруженных тяжелым товаром, или состоятельных господ, считавших ниже своего достоинства передвигаться пешком. Самая большая стоянка располагалась на перекрестке Большой Саратовской и Дворцовой, где располагались гостиный двор и окружной суд. По дороге Черкасов не удержался и заглянул в булочную Михайлова, где купил вкуснейшую «грошовую» булочку за полкопейки, когда желудок напомнил коллежскому регистратору, что тот не ел с 5 утра.
Перед гимназией бывший семинарист Черкасов испытывал плохо объяснимый душевный трепет. Все в ней намекало на разницу в классе – от единообразных шинелей, выдаваемых ученикам, до роскошного здания, занимавшего, с пансионом, чуть ли не весь квартал, что резко контрастировало с училищем и семинарией. Те потеряли кров над головой в пожар 1864 года, и были вынуждены чуть ли не ежегодно скитаться от одного временного пристанища к другому. Умом коллежский регистратор понимал, что нисколько не проиграл от того, что учился в семинарии: правда, по математике и физике курс был меньше, чем в гимназии, но зато по гуманитарным предметам он получил знания ничуть не хуже. Трепет, однако, не унимался. Гимназия до сих пор представлялась ему настоящей обителью знаний, где мудрые преподаватели вкладывают в головы будущему цвету нации все необходимые знания для служения на благо отечества. Именно поэтому его столь неприятно поразил образ Нехотейского, нарисованный дворником и слугой. Как такой человек мог занимать такую важную должность?
Вошедшего Черкасова встретил классный надзиратель, сидящий за конторкой у лестницы. Несколько робеющим голосом, Константин осведомился, может ли его принять директор гимназии. Надзиратель смерил Черкасова ленивым взглядом и сообщил, что его высокоблагородие сейчас занят, и если «многоуважаемому» (произнесено это было крайне ядовито) господину коллежскому регистратору будет угодно сообщить о цели визита, то он всячески постарается назначить встречу на понедельник. В этот момент, на лестнице за спиной надзирателя раздались быстрые шаги, и по ней сбежал, напевая под нос незатейливую мелодию, довольно молодой человек, на пару лет старше Черкасова. Достигнув первого этажа, он картинно развернулся на каблуках и, увидев коллежского регистратора, расплылся в довольной улыбке:
–Константин! Что тебя привело в нашу скромную обитель?
***
Павел Сергеевич Руднев появился в губернском городе С. чуть меньше двух месяцев назад, но уже мог без тени сомнения назвать Черкасова своим другом. Его приезд был непосредственно связан с назначением Федора Михайловича Керенского новым директором Губернской гимназии. Их пути пересеклись в Казани, куда молодой преподаватель был принят на должность учителя истории – первую в жизни. Инспектором Казанской гимназии как раз и служил Федор Михайлович, который был приятно удивлен эрудицией и энтузиазмом молодого тверича. Павел, казалось, обладал природным талантом захватывать детское внимание и понятными словами объяснять самые запутанные исторические события, вызывая интерес у слушателей. Керенского затем перевели на должность директора гимназии в Вятке, однако и новый пост, и новое место не пришлись по душе ни ему, ни жене. Открывшаяся вакансия в городе С. и личное приглашение старого знакомого, директора народных училищ губернии, стали для него подарком судьбы и возможностью вернуться на волжские берега, по которым Федор Михайлович успел соскучиться. Керенский принял гимназию в запущенном состоянии – недостаток преподавателей, частая их смена, резко падающая успеваемость и растущее недовольство родителей, дети которых, несмотря на затраченные годы и деньги, выходили из стен заведения «полными недоучками» по желчному замечанию одного из дворян. Федор Михайлович задумал максимально обновить штат учителей, и Руднев, работавший в соседней Казанской губернии, стал главным кандидатом на пост нового преподавателя истории. После недолгих раздумий, связанных с переездом в еще более глубокую провинцию, Павел пришел к выводу, что работа под началом талантливого наставника и, чего уж греха таить, более солидный оклад, стоят риска. Не прошло и двух недель с момента официального вступления Федора Михайловича в должность директора гимназии, как Руднев был назначен учителем истории – первым «человеком Керенского» на новом месте.
В первые дни после переезда, Павла Сергеевича одолевали крайне смешанные чувства. После родной Твери и Казани город С. представлял уж совсем тихую заводь, общественная жизнь в которой практически остановилась. С одной стороны, когда приплываешь на пароходе – просто дух захватывает. Город стоит на холме, высотой около 70 саженей, и спускается к реке террасами, живописно утопающими в зелени садов. Его здания, на самой верхушке, почти не видны из-за буйной растительности. Пристань в будний день всегда шумная и многолюдная. Подниматься к центральной части четыре версты по Петропавловскому спуску в хорошую погоду было бы одно удовольствие, если бы не пыль. Она здесь повсюду. Спасают от нее только дожди, но приносят они свою напасть – распутицу, делающую нешоссированные улицы бурными потоками с грязью по колено. Прогуляться толком можно только по Венцу – тенистому бульвару на макушке холма, украшенному фонарями, лавочками и беседками. Сходить вечером особо некуда – даже театр аккурат к приезду Руднева снесли.
От уныния Павла Сергеевича, как ни странно, спасла любимая игра. «Как ни странно» потому, что обычно любителей шахмат ему приходилось искать очень долго. В небольшом губернском городке найти партнера он и не чаял. Но тут ему повезло. К концу десятилетия здесь собралась целая группа любителей шахмат, во главе с Рудольфом Степановичем Шифферсом, старшим братом Эммануила Шифферса – самого талантливого игрока империи. Большинство членов кружка, состоявшего, помимо прочих, из преподавателей и чиновников удельной конторы, были старше Руднева, и гораздо опытнее его в игре.
Черкасов в эту компанию попал случайно – к шахматам (как и к некоторым другим привычкам, вызывавшим матушкино неодобрение) его пристрастил дядя по отцовской линии, армейский капитан. Вернувшись с войны с турками, он даже привез племяннику подарок: доску с изумительной красоты фигурами. Досталась она ему как трофей после сражения под Филипполем. Игроком Черкасов был достаточно посредственным, однако члены кружка относились к нему снисходительно, и пытались обучить всем премудростям, присущим опытному шахматисту. Появление нового участника, практически сверстника, пусть более сильного, но не на голову, оживило успевшего приуныть коллежского регистратора. Молодые люди завели обычай встречаться каждое воскресенье во Владимирском саду на Венце за Черкасовской доской, обмениваясь новостями, прогуливаясь по городу и иногда захаживая в единственное приличное кафе на Большой Саратовской. Внешне они разительно отличались друг от друга – высокий, худой, светловолосый и чисто выбритый Черкасов резко контрастировал со среднего роста Рудневым, который успел, несмотря на возраст, несколько округлиться, а также щеголял роскошной гривой из темно-каштановых волос и бородой (Павел никому не признавался, но ее он отпустил с единственной целью – придать лицу некоторую солидность, иначе оно было неподобающе мальчишеским для преподавателя гимназии). Объединяла их общность душ: тот же заразительный энтузиазм, любовь к своему делу и острый ум. Более вальяжный и аристократичный Руднев оттенял порывистого и застенчивого Черкасова, в остальном они были ровней.
***
Узнав, что Черкасов пришел к Керенскому по официальному делу, Руднев на мгновение задумался, а затем объявил:
– Я только что от Федора Михайловича. Думаю, он не будет против с тобой побеседовать. Пойдем, я провожу!
– Но… – попытался возразить надзиратель. – Нельзя же! Вот ходют тут всякие, а потом из класса точных наук знаете, что пропадает? Гири! Для весов!
– Оставьте, Владимир Амплеевич, господин Черкасов служит по департаменту внутренних дел, и он абсолютно точно не будет красть наши гири, – рассмеялся Павел. – Думаю, этого достаточно, чтобы пропустить его тотчас же. Константин, за мной!
Поднявшись на второй этаж, Руднев вполголоса поинтересовался:
– Ну как тебе наш цербер?
– Гм… Внушает почтение, – попытался высказаться аккуратно Черкасов.
– А некоторым ребятам, судя по тому, что я тут слышал, внушает скорее ужас, – осуждающе покачал головой Павел. – Понимаю, что надзирательская должность обязывает, но Владимир Амплеевич, как мне кажется, слишком уж усердствует.
Они подошли к дверям кабинета Керенского. Руднев уже поднял руку, чтобы постучать, но Черкасов его удержал.
– Постой. Ты знаком с Нехотейским?
– Николаем Михайловичем? К сожалению, да. А что? Чем он тебя заинтересовал?
– Он умер. Вернее, убит. Скорее всего.
– О… – только и смог выговорить Руднев, застыв с удивленным выражением лица. – Ну, в таком случае тебе действительно лучше поговорить с Федором Михайловичем.
– А ты? Что ты можешь про него сказать?
– То же, что и любой уважающий себя человек на моем месте – de mortuis aut bene, aut nihil.
– Прости, что?
–Эх ты, семинарист! О мертвых – либо хорошо, либо ничего, – перевел Руднев и постучал в дверь.
Федор Михайлович Керенский оказался невысоким полноватым человеком со строгой стрижкой и аккуратными усиками. Когда Черкасов поблагодарил его за уделенное время и рассказал о смерти Нехотейского, на лице директора гимназии отразилась внутренняя борьба. Коллежский регистратор расценил эмоции Керенского, как смесь озабоченности и некоторого облегчения. Судя по всему, директор не был в восторге от Нехотейского.
– Ну, для гимназии это, безусловно, потеря, – сказал Федор Михайлович. – Боюсь, я не совсем понимаю, чем мог бы помочь вам в расследовании, но сделаю всё от меня зависящее. Располагайте.
– Федор Михайлович, – осторожно начал Черкасов. – Как бы вы охарактеризовали господина Нехотейского?
– Это был очень опытный, очень уважаемый педагог, – медленно, подбирая слова, выговорил Керенский. – К сожалению, я был мало с ним знаком. Сами понимаете, приступил к своим обязанностям только в июне, поэтому успел лишь начать знакомиться со своими новыми коллегами.
– Насколько я успел понять, вы планируете обновить штат преподавателей?
– Да. Боюсь, последние несколько лет гимназия показывала неудовлетворительные результаты. Определенные перестановки сейчас необходимы.
– Планировали вы оставить Нехотейского в должности преподавателя русского языка и словесности?
– Кхм, я, если честно, пока не имел окончательного мнения по этому поводу.
– Понятно, – кивнул Черкасов, затем набрался смелости и продолжил. – Федор Михайлович, вы сами сказали, что готовы помочь мне в расследовании. Я был бы вам премного благодарен, если бы вы не пытались… Как бы это сказать… Уберечь репутацию, гимназии ли или самого господина Нехотейского. Это сейчас не существенно. Я бы хотел, чтобы вы высказали свое частное, личное мнение об этом человеке. Вы понимаете меня?
– Пожалуй, – кивнул Керенский. – Что ж, хорошо. Как я уже говорил, Николая Михайловича я знал не очень хорошо, но до меня доходили слухи о его репутации. Он не был любим детьми, это я могу сказать точно. Иногда это свойственно строгим учителям, но в таком случае я бы ожидал хороших результатов от его учеников. Не в этом случае, к сожалению. К тому же, я не мог игнорировать истории о его, скажем так, внеклассном времяпрепровождении.
– А именно?
– Думаю, вы сами знаете, что я хочу сказать, – видно было, что Керенскому неприятно говорить на эту тему. – Алкоголь, карты, женщины. Николай Михайлович был дружен с моим предшественником на посту директора, поэтому, ему многое позволялось. Я всерьез раздумывал над тем, чтобы его отставить.
– Он был в курсе?
– Скажем так, по итогам нашей беседы у него могло сложиться такое ощущение.
– Что вы ему сказали?
– Сказал, что слышал о его эскападах. Сказал, что намереваюсь исправить бедственное положение гимназии. Что мне нужны опытные преподаватели – я же не могу набрать весь штат с нуля. К тому же помимо Николая Михайловича и меня в гимназии остался только один преподаватель русского языка, Иван Степанович Снегирёв. Я готов был дать ему возможность продолжить преподавание, при условии, что он подойдет к своей работе ответственно и откажется от своих наклонностей, недостойных для человека его статуса.
– И что Нехотейский?
– Побагровел. Сказал, что это клевета, и если я продолжу разговаривать в таком тоне, то он найдет, кому пожаловаться. Пригрозил, что мой срок в должности директора будет коротким. После развернулся, и вышел из кабинета, хлопнув дверью.
– Вы разговаривали с ним после этого случая?
– Нет. Я посылал к нему воспитателя пансиона, сказать, что мое предложение все еще в силе. Нехотейский прогнал его в довольно грубой форме. После этого я начал поиски нового преподавателя.
– Нашли?
– Пока нет, иначе бы уже ходатайствовал перед инспектором гимназии и директором народных училищ об отставке Нехотейского.
– Спасибо за откровенность, Федор Михайлович. Как думаете, имелись ли у кого-то основания желать Нехотейскому смерти?
– С таким характером, как у него, сложно не иметь врагов. Но убивать… Тут не могу сказать. Я о таких людях не знаю.
– В каких отношениях Николай Михайлович находился с другими преподавателями?
– Опять же, я не успел познакомиться со всеми. Насколько я понимаю, часть преподавателей воспринимала его выходки, как данность. Кто-то, конечно же, был недоволен. Снегирёв, второй преподаватель словесности, как мне показалось, боялся его до чуть ли не до смерти.
– Почему?
– Не могу сказать. Иван Степанович вообще произвел на меня впечатление крайне робкого человека, так что возможно причина в этом.
– Понятно, – вопросы у Черкасова закончились. – Еще раз спасибо вам большое за помощь!
– Могу ли я рассчитывать на вашу рассудительность при проведении расследования, Константин Алексеевич? Видит Бог, гимназии сейчас меньше всего нужен очередной скандал.
– Я сделаю все от меня зависящее, Федор Михайлович. Боюсь, что большего пообещать не могу. Сами понимаете, расследование убийства – дело очень сложное.
– Хорошо. Спасибо и на этом.
***
Выйдя из кабинета, Черкасов увидел с Рудневым. Тот с преувеличено скучающим видом подпирал собой стену.
– Узнал, что хотел? – поинтересовался учитель.
– Отчасти. Ты, полагаю, мало что можешь добавить?
– Правильно полагаешь. Я Нехотейского встречал от силы раза два, так что кроме поверхностных впечатлений предложить тебе не могу.
– А кто его хорошо знал?
– Гм… Ну, если хочешь получить исключительно восторженное мнение о покойном, то на выходе пообщайся с Владимиром Амплеевичем. А потом попробуй разговорить Снегирёва – он человек излишне вежливый и, как бы это сказать… боязливый. Но их отношения с Нехотейским были далеки от идеальных, поэтому он сможет дать тебе пищу для размышлений.
– Спасибо, Паша, ты мне очень помог. В воскресение как условились?
– Конечно, в 10 утра в беседке, – речь шла о еженедельной шахматной партии.





