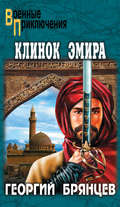Георгий Брянцев
По тонкому льду
Примерно через полчаса меня вызвал к себе секретарь парткома Фомичев. Я забыл сказать ранее, а поэтому скажу теперь, что я член парткома. У Фомичева уже сидели Безродный, Брагин, заместитель начальника управления по кадрам и начальник следственного отдела. Последние двое тоже были членами парткома.
Когда я сел, Фомичев пояснил:
– Созывать всех членов парткома, кажется, рановато. Вопрос не подготовлен и во многом неясен. Член партии Безродный ушел от жены и возбуждает дело о разводе. Виновником всей этой истории он считает не только свою жену, но и члена партии Брагина. История довольно неприятная…
Я посмотрел на Геннадия. На лице его была озабоченность, но озабоченность не обычная, а какая-то нервозная, приподнятая, несвойственная ему. Я перевел взгляд на Дим-Димыча. Он был спокоен. На его лице нельзя было подметить даже намека на смущение, волнение или растерянность.
После короткого вступления Фомичев повернулся к Дим-Димычу:
– Расскажи, товарищ Брагин, что произошло?
– Пожалуйста, – изъявил готовность Дим-Димыч. – Около трех, а может быть, и в три часа ночи, точно не помню, я пришел домой. Входную дверь мне открыла хозяйка. Она предупредила, что меня уже с полчаса ждет какая-то женщина. «Интересно, кто же это?» – подумал я, а войдя, увидел жену Безродного. Она, с заплаканными глазами, сидела на диване. Пальто ее и платок лежали на стуле. Удивленный необычным визитом, я спросил: «Что случилось? Что тебя привело сюда?» Вместо ответа она уткнулась лицом в подушку и расплакалась. Скажу правду – я растерялся. Оксана никогда у меня не была, а тут вдруг пожаловала ночью… и слезы… Я подсел к ней, взял за руку и опять спросил: «Скажи, в чем дело?» В это время открылась настежь дверь и вошел Безродный. Приняв театральную позу, он, как артист на сцене, сказал: «Не ожидали? Рассчитывали, что все будет шито-крыто? Думаете, что имеете дело с круглым дураком? Нет, не выйдет!» Затем он начал употреблять слова, которые часто можно встретить на заборах. Я дал понять ему, что если он не заткнет свою глотку, то сделаю это я. Безродный выпустил еще один залп ругательств, хлопнул дверью и исчез. Следом за ним как сумасшедшая побежала его жена. Вот все, что было.
– Получается так, – произнес заместитель начальника управления, – что жена Безродного пришла к вам по собственной инициативе?
– Только так, – ответил Дим-Димыч.
– Ложь! – крикнул Безродный. Лицо его мгновенно переменило цвет и стало похоже на маску.
– Спокойнее! – предупредил его Фомичев.
– Это во-первых, – добавил Дим-Димыч. – А во-вторых, товарищ Безродный, запомните, что в серьезных вещах я никогда не лгу.
– Скажите, пожалуйста, какое совершенство! – с сарказмом воскликнул Безродный.
Фомичев нахмурился и постучал карандашом по столу.
– Вы хотите высказаться? – спросил он Геннадия.
– Я хочу, чтобы вопрос о Брагине как о морально разложившемся субъекте был вынесен на обсуждение общего собрания, – ответил Геннадий. – А пока у меня к нему есть несколько вопросов.
– Прошу, – наклонив голову, произнес Дим-Димыч.
– Вы заявляете, что никогда не лжете?
– Вас это удивляет? – огрызнулся Дим-Димыч.
– Я спрашиваю, а вы отвечайте, – повысил голос Безродный, и его тонкие губы сжались.
– Если вы будете разговаривать таким тоном, – пожал плечами Дим-Димыч, – то я предпочту вообще не отвечать. Вы же не у себя в кабинете, а в парткоме.
Безродный побагровел, но, пересилив себя, уже обычным своим тоном спросил:
– Если вы выдаете себя за кристально честного человека, то ответьте при членах парткома: вы знали о. том, что моя жена была к вам неравнодушна?
– Да, знал, – очень спокойно, с этакой снисходительной улыбкой ответил Дим-Димыч.
– Быть может, вас не затруднит ответить, – продолжал Безродный, – как же вы узнали об этом?
– Нисколько не затруднит. Узнал об этом я от вас, товарищ Безродный.
– Ложь!
– Нет, это правда. Вы сказали мне об этом, будучи слегка под градусом, год с небольшим назад на моем дне рождения в квартире Курникова.
– Ложь! – уже менее горячо возразил Безродный.
Тут уж не сдержался и я:
– Не ложь, а правда! Я был свидетелем этого разговора. Больше того, я помню и то, что ответил Брагин. Он сказал: «Геннадий! Можешь спать спокойно: Оксана для меня слишком хороша».
– Тогда зачем она оказалась в его доме? – изменил курс Безродный.
– Об этом, мне кажется, лучше всего спросить ее, – предложил я, обращаясь к Фомичеву.
– А вы жену спрашивали? – спросил Фомичев Безродного.
– Жена врет, – отрезал он. – Я не верю ни одному ее слову…
– Товарищ Фомичев, – заговорил Дим-Димыч, – если вы дали возможность Безродному задавать вопросы, то, надеюсь, такой же возможностью могу воспользоваться и я?
– Что у вас? Давайте! – разрешил Фомичев.
– У меня такой вопрос к товарищу Безродному, – начал Дим-Димыч. – Коль скоро он вошел в мою комнату вслед за мной, с разницей на полминуты, то он, возможно, видел, когда я подходил к дому?
Все повернули головы в сторону Геннадия. Тот передернул плечами и, усмехнувшись, бросил:
– Уж не рассчитываете ли вы, что я вел за вами слежку?
– Я ни на что не рассчитываю. Я спрашиваю: возможно, вы видели меня?
– Нет, не видел.
– А как вы узнали, что ваша жена сидит у меня в комнате?
– Жена – другое дело, за вами же я не намерен следить.
– Допустим. Но вы учтите, что жена ваша ожидала меня полчаса, что, впрочем, известно вам лучше, нежели мне.
– И что же? – с вызовом ответил Безродный.
– Ничего. Больше вопросов у меня нет. Мне все ясно.
– Что вам ясно?
– Все!
– Вы намекаете на то, что я преувеличиваю?
– Преувеличиваете? Это не то слово. Для этого в нашем лексиконе можно будет отыскать, когда это понадобится, более точное определение.
– Хватит! – прервал Фомичев и встал. – Я предлагаю поручить товарищу Трапезникову побеседовать с женой Безродного и доложить о результатах беседы нам. Не возражаете?
На этом беседа окончилась. Все стали расходиться.
Идя с Дим-Димычем по коридору, я спросил его:
– Ты в самом деле не знаешь, зачем к тебе явилась Оксана?
Дим-Димыч покачал головой и сказал:
– Плохи мои дела, если даже ты мне не веришь.
– С ума спятил! Почему ты решил, что я тебе не верю?
– По твоему вопросу.
– Да ну тебя к черту! Не лови на слове! Я не то хотел спросить.
Дим-Димыч обнял меня за плечи:
– Шучу. Что тебя интересует?
– Меня? Мне хочется знать, как ты сам себе объясняешь визит Оксаны?
– Ума не приложу. Опоздай Геннадий на две-три минуты, она бы, конечно, все выложила, но он вошел почти следом.
– Странно! Очень странно…
На этом мы и расстались.
18 января 1939 г.
(среда)
Телефонный звонок поднял меня с кровати около шести часов утра. Звонила междугородная. Какой-то район вызывал меня к телефону, но какой именно – я не узнал до сих пор. Разговор не состоялся. Просидев у безмолвствующего аппарата с четверть часа, я выругался и лег в постель. Но склеить прерванный сон не удалось. Тогда я надел свой любимый теплый халат, включил настольную лампу и сел за стол.
Надо записать несколько слов о стеснительном поручении, данном мне Фомичевым. На другой день после совещания в парткоме я дозвонился до квартиры Безродного и условился с Оксаной о встрече.
Передо мной была поставлена ясная задача: узнать от Оксаны, что привело ее поздней ночью к Дим-Димычу. Кажется, проще пареной репы: задать вопрос и выслушать ответ. Но так только кажется. Этого-то простого вопроса я сразу задать и не мог. Я стал блуждать вокруг да около, делать большие круги, ставить наводящие вопросы. Но она предпочитала отмалчиваться.
Я рассчитывал застать Оксану в слезах, убитую горем, но мои расчеты не оправдались. Внешне она выглядела обычно, держалась бодро, а что творилось в ее душе, я отгадать не мог.
Короче говоря, я начал издалека и спросил Оксану:
– Ты знаешь, что Геннадий подал заявление в партком и требует привлечения Дмитрия к партийной ответственности?
Оксана покачала головой. Нет, этого она не знала.
– А за что привлекать его? – спросила она.
– За то, что он разбил семейную жизнь. Он пригласил тебя, замужнюю женщину, мать ребенка, поздней ночью к себе на квартиру…
Оксана улыбнулась. И только, кажется, по этой улыбке я определил, что ей все-таки очень тяжело. Улыбка была грустная, вымученная.
Я до сих пор не предполагала, что живу с негодяем, – сказала она тихо. – Как же Геннадий может обвинять Дмитрия в том, что тот пригласил меня, когда знает, почему я пошла…
– А чем был вызван этот визит? – задал я свой главный вопрос.
– Для тебя это важно?
– Для меня – нет, а для парткома – очень.
– Хорошо. Я расскажу.
Оказывается, накануне всей этой скандальной истории Геннадий впервые за супружескую жизнь устроил жене бурную сцену ревности. Он заявил, что роман между Оксаной и Дмитрием давно уже вышел из стен нашего коллектива, стал достоянием чуть ли не всего города, а Геннадий – посмешищем в глазах сослуживцев, что по его адресу сыплются недвусмысленные намеки и т. д. и т. п.
На другой день Геннадий неожиданно явился домой раньше обычного и повторил сцену ревности. В этот раз он заявил жене, что держит судьбу Брагина в своих руках и может так его скомпрометировать, что Брагина вышибут не только из органов, но и из партии. Причем все это Геннадий проделает этой же ночью, после работы.
– Эта угроза, – продолжала Оксана, – и заставила меня пойти к Дмитрию. Говорить об этом по телефону я сочла неудобным, а ждать утра не решилась.
– Геннадий знал о твоем намерении? – поинтересовался я.
– К сожалению, да. Я не собиралась скрывать. Он совсем осатанел. Я никогда его таким не видела. Он готов был растерзать меня. Потом заявил, что не может больше и минуты жить со мной под одной крышей, и ушел. А я отправилась к Дмитрию. Я знаю его как очень честного человека и решила предостеречь от возможного шантажа. Уже на улице мне показалось, что Геннадий следит за мной.
– Ты не ошиблась?
– Я не говорю – точно. Мне показалось. В подворотне дома Дмитрия я, кажется, опять увидела его пальто… Да и в комнату он ворвался следом за Дмитрием Дмитриевичем. Выбрал нужный момент…
От Оксаны я с легким сердцем отправился к Фомичеву. Мне, собственно, и до этого было ясно, что Дим-Димыч говорит правду, но теперь эта правда получила очень веское подтверждение.
Короче говоря, сегодня Фомичев в моем присутствии беседовал с Безродным. Тот взял обратно свою жалобу, но решительно заявил, что жить с женой не будет.
27 января 1939 г.
(пятница)
Оксана тоже подала заявление с просьбой о расторжении брака.
Спустя три дня Геннадия и Оксану вызвали в загс Центрального района. Попытка примирить супругов успехом не увенчалась.
Я встретил Оксану на улице вместе с дочкой, прехорошенькой двухлетней девчуркой.
Оксана была озабочена, расстроена. Оказывается, наши хозяйственники, действуя по принципу «лучше раньше, чем позже», не ожидая развода, открепили Оксану от магазина.
– Что ты думаешь делать дальше? – спросил я.
Она растерянно пожала плечами.
– Страшновато немножко… Но ради нее, – Оксана прижала к себе головку дочери, – я готова работать хоть поломойкой. Как-нибудь не пропадем…
12 февраля 1939 г.
(воскресенье)
Воскресный день начался, как обычный рабочий день. В одиннадцать часов позвонил капитан Кочергин и спросил, говорит ли мне о чем-нибудь фамилия Мигалкин.
«Мигалкин… Мигалкин…» – повторил я про себя, призывая на помощь память. Безусловно, я уже слышал не особенно распространенную фамилию. Но где, когда, в связи с чем?
– Простите, товарищ капитан: откуда он, этот Мигалкин? – задал я наводящий вопрос.
Кочергин назвал районный центр нашей области и добавил:
– Мигалкин Серафим Федорович, по профессии шофер…
Этого было достаточно, чтобы память моя мгновенно сработала.
– Мигалкин полтора года назад приехал из Харбина… – доложил я. – Сын эмигранта – чиновника акцизного управления… В эмиграцию попал малолетним ребенком… Отец его до последнего времени поддерживает активную связь с организованными белогвардейскими кругами. Живет в достатке. Мигалкин Серафим непосредственно перед выездом из Харбина окончил там специальную школу по подготовке шоферов…
– Занесите материалы мне! – приказал Кочергин.
Часа полтора спустя начальник секретариата управления пригласил меня к начальнику управления майору Осадчему.
«В чем дело? – подумал я, запирая ящики стола, шкаф и сейф. – Почему прямо к Осадчему, минуя Кочергина?»
У Осадчего уже были Безродный, Кочергин и Брагин. Дим-Димыч, видимо, только что закрыл за собой дверь – он стоял еще у порога.
Майор Осадчий пригласил нас обоих сесть, взял в руки лист бумаги и объяснил:
– Это шифровка от начальника райотделения младшего лейтенанта Каменщикова…
И Осадчий прочел шифрованную телеграмму специально для меня и Брагина. Остальные уже были знакомы с нею. Оказывается, в районном центре, небольшом глухом городишке, в квартире некоей Кульковой Олимпиады Гавриловны сегодня утром работники милиции обнаружили труп неизвестной молодой женщины. Накануне женщину доставил в город с вокзала на квартиру к Кульковой на своей машине шофер Мигалкин. Младший лейтенант Каменщиков просит срочно командировать к нему квалифицированных оперработников для проведения расследования и опытного судебно-медицинского эксперта. Коль скоро к происшествию причастны в какой-то мере Мигалкин и Кулькова, младший лейтенант Каменщиков придает событию политическую окраску и намерен все материалы предварительного расследования из уголовного розыска милиции забрать в свой аппарат.
– Вопросы есть? – осведомился майор Осадчий.
Все было ясно.
– Решено послать на место оперативную группу. Поедут старший лейтенант Безродный и лейтенанты Брагин и Трапезников. Судебно-медицинский эксперт уже откомандирован в райцентр… Вот так… а теперь не смею задерживать, – заключил Осадчий. – Начальником опергруппы назначаю старшего лейтенанта Безродного.
Поначалу договорились ехать все вместе на «эмке» Безродного, но потом он передумал и предложил мне и Дим-Димычу выехать четырнадцатичасовым поездом, Должно быть, наша компания его не особенно устраивала. Ну и бог с ним! Откровенно говоря, мы были даже рады.
В четырнадцать с минутами почтовый поезд отошел от перрона.
Когда город остался позади, Дим-Димыч предложил соснуть. Обычно мы очень мало отдыхали и, если случалось ехать в командировку поездом, охотно залезали на верхние полки и мгновенно засыпали. И теперь я уже приготовился поблаженствовать, как вдруг Дим-Димыч тронул меня за плечо.
– Мыслишка пришла в голову, – проговорил он.
– Выкладывай покороче, – разрешил я.
– Знаешь, почему Геннадий решил ехать на машине один?
Я признался, что не имею об этом никакого понятия.
– Он рассчитывает прибыть на место первым…
– Это очень важно? – спросил я с усмешкой.
– Чудак человек! Вполне естественно! К этому должен каждый стремиться, а Геннадию и сам бог велел.
13 февраля 1939 г.
(понедельник)
Мы вышли на безлюдный, продуваемый студеным ветром перрон небольшой, заброшенной в лесах и присыпанной снегом глухой станции. До районного центра оставалось еще семьдесят километров.
Невольно поежились и подняли воротники своих демисезонных пальто. На зимнее пальто у нас не хватало сбережений.
– Не особенно весело, – заметил Дим-Димыч.
Я промолчал.
Падал сухой колючий снег. Крутила поземка. Под порывами ветра с режущим скрипом раскачивался из стороны в сторону одинокий станционный фонарь.
– Ну? – бодрым голосом спросил меня Дим-Димыч. – Что же дальше?
– Дальше – поедем.
Я отыскал служебный проход в деревянном здании вокзала и провел через него Дим-Димыча. Мне думалось, что «газик» районного отделения уже поджидает нас. Но у подъезда машины не оказалось.
– Замело, занесло, запуржило… – продекламировал Дим-Димыч.
Я не прислушивался к словам друга. Отсутствие «газика» несколько обеспокоило меня.
Машина была, правда, не особенно надежная, я об этом знал. Она выходила все отведенные ей человеческим разумом эксплуатационные сроки и раза в три перекрыла их. Ее давно пора была сдать на свалку, а она продолжала еще каким-то чудом держаться на колесах и скакать по районному бездорожью. Но младший лейтенант Каменщиков слыл человеком обязательным и воспитанным на точности. Он должен был предусмотреть всякие «но» и принять меры, в крайнем случае побеспокоиться о другом транспорте. Хуже всего, если «газик» скис на дороге.
Я не преминул высказать свои соображения Дим-Димычу.
Друг мой никогда не падал духом и придерживался поговорки, что чем хуже, тем лучше.
– У нас есть возможность проверить твои опасения, – спокойно ответил он.
– Каким способом?
– Подождать. – И Дим-Димыч показал рукой на освещенные окна вокзала.
Уже другим ходом мы вошли в зал ожидания. Здесь красовалась буфетная стойка и стояло шесть столиков, обитых голубой клеенкой. Два из них, сдвинутые вместе, были заняты веселой компанией. Ночные гости громко говорили, не обращая на нас никакого внимания, ежеминутно чокались гранеными стаканами и аккуратно наполняли их вином.
Мы подсели к соседнему, свободному, столику и закурили.
– Поспали мы отлично, – заметил Дим-Димыч. – И неплохо бы сейчас поддержать уходящие силы…
– Очень неплохо, – согласился я, взглянув на буфетную стойку.
В это время в зал вошел коренастый, приземистый человек, заросший по самые глаза густой рыжей бородой. Он энергично закрыл за собой дверь, снял с головы меховую шапку, отряхнул ее от снега и стал молча осматривать зал.
Голову его, крупную, породистую, украшала такая же, как и борода, рыжая взъерошенная шевелюра.
Уделив присутствующим, в том числе и нам, столько внимания, сколько он считал нужным, незнакомец прошагал в угол к оцинкованному баку с большой жестяной кружкой, тщательно ополоснул ее, нацедил воды и залпом выпил. Выпил и стал рассматривать меня и Дим-Димыча своими строгими внимательными глазами.
Так прошло еще несколько минут. Потом незнакомец провел пятерней по волосам и решительно направился к нашему столику.
Бывает так: смотришь на совершенно незнакомого человека – и тебе кажется, будто он хочет заговорить с тобой. Больше того, ты даже уверен в этом.
Так было и сейчас, когда мои глаза встретились с глазами рыжеволосого незнакомца.
Я изучающе и не без любопытства смотрел на него.
– Товарищ Трапезников? – спросил он, подойдя вплотную и подавая мне мощную, как у мясника, руку.
– Так точно, – ответил я, вставая. – С кем имею честь?..
– Хоботов! – назвал себя незнакомец. – Судмедэксперт, патологоанатом и прочее. Я так и подумал, что это вы, – наслышан о вас еще от товарища Курникова. – И Хоботов перевел взгляд на Дим-Димыча.
Я представил своего друга.
– Вот и отлично, – заметил Хоботов низким, грудным басом. – Значит, прибыли мы одним поездом. Я уже было подался в поселок насчет транспорта, но меня вернул какой-то добрый человек, сказал, что дело это безнадежное.
– Поедем вместе, – предложил Дим-Димыч. – За нами должны прислать машину.
– Совсем хорошо, – заключил Хоботов. Он снял с себя теплое пальто на меху, со сборками в талии, похожее на бекешу, и положил его вместе с шапкой на стул.
– А вещи ваши? – поинтересовался я.
– Все при мне, – удовлетворил мое любопытство Хоботов. – Все по карманам. Я не признаю в коротких поездках ни чемоданов, ни портфелей. Не верите? – И он улыбнулся хитрой улыбкой, показав крепкие, один в один зубы. – Могу доказать. Это что? А это? А это?..
Как уличный фокусник, он начал извлекать из своих бездонных карманов и демонстрировать поочередно зубную щетку, тюбик с пастой, огромную расческу, несколько носовых платков, два флакона одеколона, вафельное полотенце, лупу и, наконец, замшевый мешочек с инструментом.
– Удобно? – спросил. Дим-Димыч.
– Не особенно, – признался Хоботов. – Но уже привык. Воры отучили меня возить чемодан… Я сплю как убитый.
Мы рассмеялись, закурили теперь все втроем и повели беседу как давние, старые знакомые…
Доктор Хоботов был сколочен на редкость ладно, плотно и выглядел здоровяком. Его волосы с золотистой искоркой не имели ни единой сединки, кончики усов торчали горизонтально, будто закаленная проволока. Из-под выпирающих надбровий пытливо смотрели небольшие, глубоко сидящие темно-карие глаза.
Он держал себя просто, но с достоинством, был немногословен, если говорил, то кратко и негромко, как человек, уверенный, что его и так услышат. В его речи, жестах, во всем облике, включая и внушительную, прямо-таки разбойничью бороду, совершенно не чувствовался возраст. Я все время смотрел на него, ломал голову и думал: сколько же ему? Можно было согласиться на сорок, можно было дать и пятьдесят. А десять лет для человека – разница существенная. Потом я перестал гадать, решил, что для точного определения возраста нашего нового знакомого надо непременно заглянуть в его паспорт.
После пятиминутной беседы Хоботов признался:
– Я голоден как волк…
– Да, не мешало бы перекусить, – согласился я.
Доктор поманил пальцем официантку. Та подошла развалистой походкой и равнодушным голосом доложила о возможностях буфета. Все меню состояло из отбивных свиных, жареной курицы и клюквенного киселя.
– А напиточки? – поинтересовался Хоботов и щелкнул себя по горлу.
– Сколько вам? – осведомилась официантка.
– В предвидении дороги, а также учитывая наружную температуру… – Он умолк и поочередно посмотрел на меня и Дим-Димыча.
– Предлагаю по двести, – сказал я.
– Присоединяюсь, – согласился Дим-Димыч.
– Дорожная норма, – подвел итог Хоботов. – Шестьсот граммов.
Доктор и Дим-Димыч заказали жаркое из курицы, я – отбивные и две порции киселя.
– Какое унылое лицо, – покачал головой Хоботов, когда официантка пошла выполнять заказ. – Совсем не гармонирует с оживлением, что за соседним столиком… Давайте переберемся в уголок к окошку.
Мы не возражали.
Когда мы обосновались на новом месте и перенесли свою одежду, Хоботов откровенно сказал:
– Совершенно не могу объяснить, почему, но человек, чавкающий во время еды, вызывает во мне холодное бешенство. Я способен смазать его по физиономии.
Мы машинально посмотрели на шумную компанию, от которой удалились. Действительно, парень в заячьем треухе обрабатывал пищу с таким усердием, что звуки, вызывавшие бешенство у доктора, разносились по всему залу.
Официантка подала заказ. У котлет оказался на редкость странный, несвойственный им запах. Я решил, что мой желудок не настолько натренирован, чтобы освоить без последствий это блюдо, великодушно отказался от него и, следуя примеру попутчиков, попросил заменить отбивные курицей.
– Хрен редьки не слаще, – коротко бросил доктор, отыскивая в курице съедобные места.
Курицу забыли, вероятно, кормить в течение месяца перед смертью, и нам достались сплетения из костей и сухожилий, напоминающих скрипичные струны.
Кисель также не вызвал нашего восторга. Это была мутновато-студенистая жидкость, заполняющая стакан не более как на две трети. Мы проглотили ее залпом, точно яд, и доктор на полном серьезе спросил:
– Вам не кажется, что обед наш чрезмерно легок?
– Кажется, – рассмеялся я, – но повторить его рискованно.
– Да, придется потерпеть, – согласился Дим-Димыч.
Мы вволю наговорились, выкурили полпачки папирос, когда в зале появился наконец шофер райотделения, пожилой человек, которого я знал как Василия Матвеевича.
– Прошу извинить, – сказал он, подойдя к нам. – Это же гроб, а не машина. Заело переключение, включились все скорости – и хоть плачь!
– Чего уж там, – сказал я. – Бандура твоя мне знакома. А доберемся?
– Добраться-то доберемся. Не ночевать же здесь. – И Василий Матвеевич с презрением оглядел зал.
Хотя в его словах было мало утешительного, мы решили все же ехать и покинули вокзал.
Хоботов обошел вокруг «газика», осмотрел его критическим оком и атаковал заднее сиденье. К нему присоединился Дим-Димыч.
– Не знаю, как вы, а я попытаюсь уснуть, – сказал доктор.
Надорванное сердце машины хрипло вздохнуло, засопело, заклохтало и тут же умолкло. Потом снова вздохнуло и нехотя глухо и сердито заурчало. Машина порывисто прыгнула, точно лягушка, и ходко двинулась с места.
«Лиха беда начало», – подумал я.
Мы пролетели подобно снаряду через спящий станционный поселок и сразу оказались на большаке, сдавленном с обеих сторон высоким лесом. Упругий ветер ударял машине в лоб и пузырил брезентовый верх. В свете фар на нас надвигались и мгновенно исчезали телеграфные столбы и редкие дорожные знаки.
Единственным достоинством «газика», на мой взгляд, было то, что после долгого кашляния, чихания, тоскливых вздохов и судорожных прыжков он все же мог развивать приличную, по нашему времени, скорость. На самом переломе ночи показались выбеленные морозом крыши домов районного центра. Город спал. Машина несла нас по безлюдным улицам и остановилась возле домa Каменщикова. Сам он, обеспокоенный задержкой, спал и, услышав условный сигнал машины, выбежал вам навстречу.
– Старший лейтенант Безродный приехал? – первым долгом поинтересовался Дим-Димыч после приветствий.
– Засел в двадцати километрах, – доложил Каменщиков. – Там основательно замело дорогу. Звонил участковый уполномоченный. К утру доберется.
Двм-Димыч толкнул меня локтем и усмехнулся.
По узкой, протоптанной в снегу тропинке мы проследовали за Каменщиковым к его дому, стоявшему в глубине усадьбы.
Снегопад кончился. Поздняя луна ушла на покой, так в не показавшись. Над нами висело черное небо, и в нем плескались холодные звезды. На юге смутно проступала грива леса. Из высокой трубы дома Каменщикова тоненькой струйкой завивался дымок.
Через короткое время мы сидели в небольшой теплой комнате, оклеенной веселенькими обоями, распивали чай из урчащего самовара и слушали младшего лейтенанта Каменщикова. Предварительное расследование, произведенное органами милиции, показало, что в ночь с двенадцатого на тринадцатое февраля гражданка Кулькова дала приют в своей квартире приехавшим в город мужчине и женщине. Со станции их доставил на своей машине шофер артели «Заря» Мигалкин. Он якобы не впервые устраивал таким образом квартирантов в доме Кульковой, которая приходилась ему дальней родственницей.
Утром мужчины не оказалось, а женщину обнаружили мертвой.
Работники уголовного розыска произвели тщательный осмотр комнаты, сфотографировали покойницу, обработали и зафиксировали следы пальцев, оставленные на бутылках с вином, на куске шоколада, на спинке дивана, покрытой слоем пыли.
– Прежде всего нам надо опознать покойницу, при ней не оказалось документов, – сказал Каменщиков. – Затем выяснить, с чем мы имеем дело: с естественной смертью, несчастным случаем, убийством или самоубийством.
«Короче говоря, осталось начать да кончить, – подумал я. – Плохо то, что покойница не опознана, плохо то, что не обнаружено ничего, проливающего свет на происшествие, исключая следы пальцев, плохо, наконец, и то, что осмотр комнаты произведен до нашего приезда. И вообще все плохо».
Доктор Хоботов не задавал никаких вопросов. Он сидел в глубоком раздумье и катал на столе хлебные шарики. Судя по его упорно сдвинутым бровям, я решил, что он думает о чем-то своем, не имеющем отношения к делу, но я ошибся.
– Меры к сохранению трупа приняты? – осведомился он, когда Каменщиков кончил.
– Да.
– Какие?
– Печь не топится, форточка все время открыта. Комнату я опечатал. Так мне посоветовали ребята из угрозыска.
Доктор кивнул и опять умолк…
14 февраля 1939 г.
(вторник)
Встали мы сегодня поздновато. Давно уже занялось зимнее утро, давно уже излучало свой негреющий свет чахлое февральское солнце, а мы только сели за завтрак. Геннадия не было… И никто не звонил. Я предложил приступить к делу, и все согласились.
После завтрака «газик» доставил нас вместе с начальником райотделения к месту происшествия.
Двор на Старолужской улице, заваленный ворохами пиленых дров, стожками сена, заставленный пустыми телегами с поднятыми к небу оглоблями, набухал от разномастного люда.
– В чем дело? – спросил я Каменщикова.
Он объяснил, что такие необыкновенные истории, как загадочная смерть человека, происходят в городе не каждый день и, конечно, не могут не вызвать любопытства.
Мы оставили машину и направились к дому.
Он был рубленый, двухэтажный, какой-то замысловатой архитектуры и бог знает сколько лет прожил на белом свете. Во всяком случае, не меньше сотни. Крыша его с чердачными выходами угрожающе провисала на самой середине, узкие, прямоугольной формы окна смотрели косо, водосточные трубы держались на честном слове, балкончики, завешанные бельем, давно утратившим свой природный цвет, готовы были вот-вот свалиться на головы прохожих.
Войдя в дом, мы увидели облупленные стены коридора с обнаженными дранками. Тяжелый, застойный воздух, насыщенный странной смесью разнообразных запахов, сразу шибал в нос. Этими запахами пропитался не только коридор, но и стены, и заплеванная шаткая лестница, приведшая нас на второй этаж.
Внутри дом являл собой чудо старины. В нем было столько изгибов, хитрых переходов, непонятных тупиков, глухих безглазых каморок и кладовок, что новому человеку нетрудно было и заблудиться.
Пробравшись по сложным лабиринтам второго этажа, по его подгнившим, скрипящим полам, мы остановились наконец перед закрытой дверью.
Я посветил карманным фонарем. Каменщиков снял печать и отпер дверь. Мы переступили порог, и с нами вместе прошмыгнула в комнату многоцветная облезлая кошка.
Первое, что все мы увидели, – это мертвая женщина на узкой кровати, в простенке между двух окон. Только ее одну. На предметы, наполнявшие комнату, мы не обратили внимания.
Мне казалось, что женщина спит, что стоит только произнести слово, как она встрепенется, раскроет испуганные глаза и быстро натянет одеяло на свое совершенно обнаженное тело.
Казалось так потому, что она находилась в очень непринужденной позе, обычной для людей живых и неестественной для мертвых. Голова ее покоилась на высоко взбитой подушке, левая рука лежала за шеей, а правая на груди.
Мы подошли ближе к покойнице. Ни крови, ни повреждений, ни ранений, ни следов насилия и сопротивления – ничего. И само понятие «смерть» казалось здесь нелепым, нереальным, невероятным.
Женщине можно было дать от силы двадцать пять – двадцать шесть лет. Природа наградила ее красивым телом, правильными, хотя и немного крупными, чертами лица, большими, сочными, хорошо очерченными губами и черными густыми волосами, собранными в тугой узел. Нежные, незагрубевшие руки со свежим маникюром говорили о том, что хозяйка их не знала тяжелого физического труда.
И на лице с уже побледневшим покровом кожи нельзя было подметить даже намека на какую-то муку.
Я отлично знал, что решающие выводы приходят не в начале расследования, а в конце его, и все-таки подумал: «О каком убийстве может быть речь? При чем здесь убийство?»