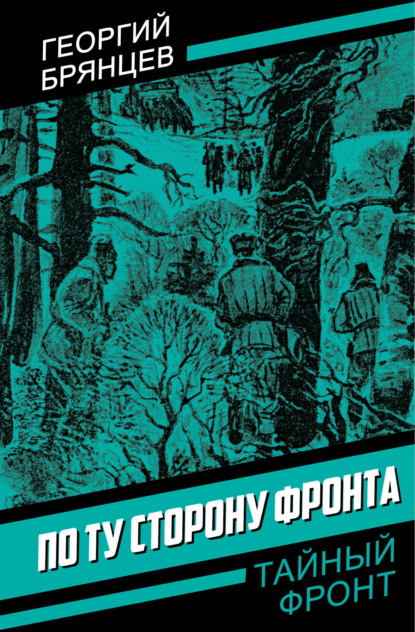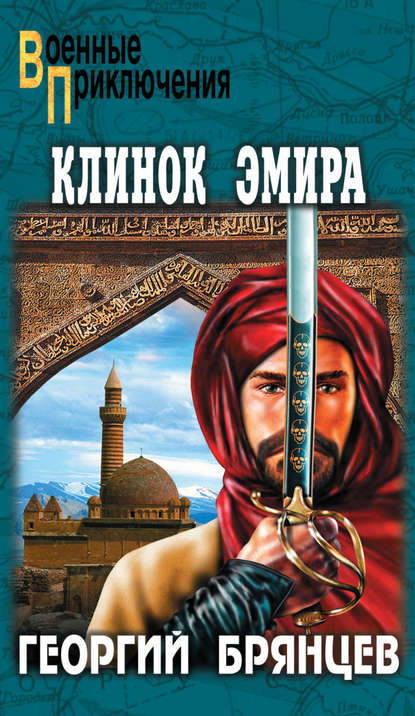Полная версия:
Георгий Михайлович Брянцев Следы на снегу
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Георгий Брянцев
Следы на снегу
© Брянцев Г.М., 2013
© ООО «Издательство «Вече», 2013
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
Встреча в купе
Была темная осенняя ночь.
Ветер шумел в тайге, срывая с берез пожелтевшие жухлые листья. Лил холодный дождь. Лил надоедливо, долго насыщая землю влагой, разъедая дороги, заливая поймы, заполняя овраги, канавы, ямы. И казалось, не будет ему конца…
Рассекая ночную тьму, пробиваясь сквозь дождевую завесу, стремительно мчался курьерский поезд. Громадина паровоз, отфыркиваясь космами дыма и шипя паром, выкладывал перед собой яркую белую полосу. Побежденный ослепительным светом, тяжелый и липкий ночной мрак, казалось, с тем большей силой отыгрывался на вагонах, свет от окон которых был бледным и тусклым и исчезал быстро, как видение.
Промелькнули затянутые мглой станции Сиваки, Ушумун, Тыгда Уссурийской железной дороги. Приближалась станция Талдан. Перед мерцавшим зеленым глазком семафора паровоз издал резкий продолжительный гудок. Эхо подхватило звук, перекатило его по горным перевалам, переломило, занесло в таежные крепи и там схоронило.
В освещенном двухместном купе спального вагона, мягко покачивающегося из стороны в сторону и подрагивающего на стыках рельсов, стоял пассажир.
Он был средних лет, высокого роста, сухопарый и рано полысевший. Серыми, острыми и холодными, как осколки льда, глазами он то пристально всматривался в запотевшее оконное стекло, по которому кривыми струйками сбегал дождь, то поглядывал на ручные часы с светящимся циферблатом, то брал в руки лежащее на приоконном столике расписание поездов и быстро перелистывал книжку.
В его движениях не было ничего суетливого, но они выдавали большое внутреннее напряжение.
Когда поезд загромыхал на стрелках, пассажир пригладил рукой остатки редкой светлой шевелюры и, открыв дверь, вышел из купе. Зная из расписания, что очередной остановкой должна быть станция Талдан, он, чтобы исключить малейшую возможность ошибки, громко спросил проводника вагона, заправлявшего ручной фонарь:
— Какая сейчас станция?
— Талдан, — коротко и деловито ответил тот.
Пассажир выждал с минуту и вернулся в свое купе. Быстрым движением снял с себя пиджак и остался в шерстяном джемпере темно-синего цвета с вышитыми на нем двумя белыми оленями. Затем извлек из заднего кармана кожаный портсигар, вынул папиросу, зажег ее и, бегло осмотрев себя в дверное зеркало, опять покинул купе.
В пустом коридоре у крайнего окна в теплой пижаме стоял единственный пассажир. Он посмотрел полусонным взглядом, потянулся с кряхтеньем, громко зевнул и, зябко ежась, пошел к купе.
Поезд подходил к станции. За окнами замелькали огоньки. Видно было, как на перроне в дождевых лужах быстро образовывались и лопались пузыри.
Постепенно замедляя ход, поезд заскрипел тормозными колодками, вздрогнул несколько раз и остановился.
Делая вид, что разглядывает вокзал, освещенный бледными в дождевом тумане огнями, и снующих по перрону людей, пассажир в темно-синем джемпере выжидательно наблюдал за входными дверями вагона. Когда в них показался новый пассажир, человек в джемпере облегченно вздохнул.
В спальный вагон вошел пожилой, коренастый, крупноголовый и коротконогий мужчина с монгольскими чертами лица. На нем была куртка из меха нерпы, отороченная по борту узкой полоской черной кожи, с поднятым кожаным воротником, высокие, болотные, сильно поношенные сапоги. В руке он держал небольшой дорожный мешок, сшитый из камусов. Вид у него был усталый, по широкоскулому лицу сбегали капли дождя.
Остановившись в нескольких шагах от пассажира в джемпере, вошедший что-то буркнул себе под нос и, сняв с головы суконную кепку, отряхнул ее.
Потом он голосом с сипловатой хрипотой спросил:
— Где же тут можно пристроиться? А?
— Половина вагона пустая, можете занимать любое место, — с излишней поспешностью ответил пассажир в джемпере. — Пожалуйте ко мне. Я один. Можно умереть от скуки, — и свои слова он сопроводил гостеприимно приглашающим жестом.
— Однако сосед я плохой, — недовольным тоном заметил вошедший. — Недалеко мне ехать… Совсем недалеко…
— Неважно, все равно вам где-то надо поместиться.
— Это да, верно…
— Проходите ко мне…
Дверь в купе закрылась.
Вскоре раздалось шипение тормозов. Затем ночной покой тихой, небольшой станции нарушили свисток главного и гудок паровоза. Состав дрогнул и плавно тронулся с места.
Новый пассажир, не торопясь, снял с себя мокрое кепи, куртку и повесил их на крючок. Примостившись на мягком диване, он поставил между ног свой дорожный мешок.
Помолчав немного, он вздохнул с шумом и лишь потом заговорил, путая русскую речь с якутской:
— Здравствуй, улахан тойон[1] … Добрался… Устал, однако, огонь в ногах. За билет дорого платить пришлось. Зачем так дорого? — и он медленно обвел глазами купе.
— Здравствуйте, Шараборин, — сухо ответил человек в джемпере и подошел к двери. Он повернул ручку замка, накинул цепочку и, взглянув на часы, спросил: — До какой станции у вас билет?
Шараборин посмотрел ему в глаза и после небольшой паузы ответил:
— Большой Невер.
— Отлично. Как Оросутцев?
Шараборин неопределенно кивнул головой и ответил:
— Живет помалу… Хорошо живет… Разговор прислал, — и похлопал себя по голове, поросшей короткими жесткими рыжими волосами.
— Сколько времени шли? — поинтересовался человек в джемпере.
— А? — и Шараборин открыл рот.
— Шли… Шли сколько?
— А-а… Три месяца, однако. Да, три. Без малого три. Совсем трудно. Шибко трудно. Дороги нет. Мокро. Все пешком.
Человек в джемпере ничего не сказал, а, подойдя к окну, опустил и закрепил штору, затем, ткнув в пепельницу недокуренную папиросу, резко сказал:
— Приступим. Садитесь вот сюда, — он показал на место около приоконного столика и, открыв чемодан, начал в нем копаться, затем разложил на столике бритвенный прибор, налил из термоса в стакан горячей воды, окутал Шараборина по самую шею простыней, выдавил ему на голову из тюбика немного пасты и, намылив волосы, стал их сбривать наголо.
Шараборин сидел молча и неподвижно, как истукан, словно подчиняясь неизбежности. Он был занят собственными мыслями.
Человек в джемпере с брезгливой гримасой снимал с его головы жесткие, давно не видевшие воды и мыла, волосы и осторожно стряхивал их с бритвы на кусок газеты. Окончив бритье, он вынул из чемодана бинт, обильно смочил бесцветным составом из темного флакона и несколько раз тщательно протер бритую голову Шараборина.
Когда на коже начали явственно проступать ярко-фиолетовые буквы, человек в джемпере заставил Шараборина наклонить голову поближе к настольной лампе.
Он долго и внимательно всматривался в причудливый текст и, вооружившись автоматической ручкой, сделал какие-то пометки в своем маленьком блокноте.
— Так, так… — произнес он наконец. — Все ясно.
Шараборин сделал движение, будто хотел встать или изменить позу, но человек в джемпере положил руку на его плечо.
— Сидите, как сидели, — приказал он и вновь, уже другим составом, стал смывать текст на коже. И когда текст перестал быть виден, человек в джемпере, прижав одной рукой голову Шараборина, другой рукой стал писать на его голом черепе.
Он писал неторопливо, старательно выводя каждую букву. Из мелких убористых букв образовывались слова, фразы, строчки. Вначале они имели ярко-фиолетовый цвет, потом бледнели, как бы растворялись и исчезали.
Шараборин сидел с застывшим, окаменевшим лицом. Только уши его, большие, мясистые и оттопыренные, как-то странно шевелились.
— Все, — сказал человек в джемпере.
Шараборин сбросил с себя простыню, несколько раз осторожно провел большой шершавой ладонью по бритой голове и недовольно спросил:
— Опять обратно? — зрачки его глаз сузились.
— А вы думали? — бросил тот, укладывая в чемодан бритву, пасту, флаконы, кисточку.
— Я думал не так. Отдыхать надо. Опасно, однако. Ищут меня. Ты обещал в жилуху определить.
На лице человека в джемпере отразилось раздражение. Его тонкие губы поджались.
— Я знаю, что обещал. Еще рано говорить об этом.
— Зачем рано? Надо говорить. Мне своя шкура дорога. Словят меня в тайге. Как ни петляй — дорога одна. Много людей в тайге. Кончать пора, — и тяжелые глаза Шараборина, точно пауки, поползли по фигуре человека в джемпере, задержались на его левой руке, где на среднем пальце разноцветно играл в перстне дорогой камень.
Насупив редкие, колючие брови и сощурив глаза, человек в джемпере спросил:
— Сколько лет вам дали?
— Десять.
— Сколько отсидели?
— Однако, один год…
— Так вот, если будете ныть и пороть всякую чепуху, я могу помочь вам отсидеть оставшиеся по сроку девять лет.
Шараборин промолчал, застыв в неподвижности. Только руки его, большие, точно грабли, и неуклюжие, не находили себе места: они то потирали толстые колени, то мяли одна другую, то появлялись на кончике стола.
— Когда сможете добраться до Оросутцева?
Шараборин почесал голый затылок. Обратное путешествие ему не только не улыбалось, не только не устраивало его и шло вразрез со всеми его планами, оно пугало и страшило его. Как долго еще будет зависеть его жизнь от воли и желаний Оросутцева и этого облысевшего господина, известного ему под кличкой «Гарри»? Когда же настанет конец его хождениям по негостеприимной, нелюдимой тайге? Когда он, наконец, обретет покой, отыщет темную щелку, упрячется в нее и заживет, как живут другие, тихо, мирно, не думая с тревогой о завтрашнем дне, не опасаясь со дня на день и с часу на час попасть в руки органов правосудия? Почему Гарри и Оросутцев не жалеют и обманывают его? Обещают, но ничего не делают? Где и как без их помощи отыскать эту темную щелку?
— Сейчас десятое сентября, — подсказал Гарри, полагавший, что Шараборин мысленно производит какие-то подсчеты.
Желваки на лице Шараборина задвигались. Он вздохнул и уныло произнес:
— Зимней дороги надо ждать. Худо теперь. Совсем худо. Пеши худо, на коне худо, лодки нет. Опять дождь.
— Ждать нельзя, — отрезал Гарри.
Шараборин покачал головой.
— Так когда же? — настаивал Гарри.
Шараборин выдержал длительную паузу, посмотрел на Гарри немигающими глазами и неуверенно, как человек, не имеющий собственной воли, произнес:
— Видать, в декабре.
— Не позднее?
— Видать, так…
— Это меня устроит. — Гарри вынул из висящего на крючке пиджака толстую пачку сторублевок и бросил ее Шараборину.
Тот быстро схватил деньги задрожавшими вдруг руками и принялся пересчитывать их, обильно слюнявя пальцы. Он пересчитал раз, другой и лишь потом сунул пачку в карман своих брюк. Чтобы убедиться в том, что деньги попали именно туда, куда следует, он похлопал рукой по карману, и подобие улыбки искривило его толстые губы.
— Хватит? — спросил Гарри.
Шараборин кивнул несколько раз головой. Про себя он уже прикидывал, куда и как надо пристроить полученное вознаграждение и какую сумму составят все его сбережения.
— У вас теперь много денег, — заметил с усмешкой Гарри, как бы разгадав его мысли. — Вы стали богатым человеком, а со временем будете еще богаче. Сможете жить там, где захотите.
Шараборин изменился в лице. Его раскосые глаза стали еле-еле видны из узких щелей.
— Трудные деньги… Тяжелые деньги, — пробурчал он.
Гарри полез в чемодан, вынул оттуда несколько учебников для начальных классов, завернул их и подал Шараборину.
— Спрячьте, пригодятся.
Затем дал небольшую, в плотной обложке синюю книжечку.
— Это диплом об окончании вами учительского института. Будете учителем. Учителей здесь любят. Дадут и ночлег, и транспорт. И паспорт сможете получить, имея диплом. Ну, вот и все, кажется. А теперь собирайтесь, скоро Большой Невер.
Шараборин положил диплом в карман. Учебники спрятал в дорожный мешок.
— Правильный ли диплом-то? — спросил он.
Гарри скривил в усмешке губы.
— Правильный, не сомневайтесь. Укладывайте все и одевайтесь…
На станции Большой Невер Шараборин покинул спальный вагон.
Гарри вышел в туалет, отряхнул простыню, выбросил там газету с волосами, затем, брезгливо морщась, тщательно вымыл руки и протер их одеколоном.
За окном по-прежнему лил дождь.
Таас Бас
Скованная морозом, погруженная в ночное безмолвие, долгим зимним сном спала тайга. От нее веяло суровой строгостью и безмерным спокойствием. Она напоминала огромный сказочный таинственный мир. Белокорые березы касались земли своими тонкими струйчатыми ветвями. Обнявшись мохнатыми лапами, теснились молодые, с игольчатыми верхушками ели, а над ними высились могучие и гордые медноствольные сосны.
Высокое черное небо, затканное мириадами дрожащих звезд, походило на опрокинутую чашу. От поздней луны, источавшей бледный свет, ложились причудливые тени.
Местами этот свет едва-едва пробивался сквозь сложные сплетения заиндевевших ветвей.
Тишину лишь изредка нарушали потрескивание коры на деревьях да вызывающие дрожь крики голодной совы.
Но вот в таежную тишину вошел новый звук. Звук, сначала едва уловимый, далекий, невнятный, а потом все более отчетливый, скрипящий.
Скользили лыжи по снегу.
Это шел Шараборин.
Он долго, очень долго пробирался непроходимой чащей, петлял, обходил стойбища охотников и жилые места, вновь залезал в самую глухомань и вот, наконец, дошел до места, когда тайга раздвинулась, расступилась и открыла перед ним небольшую поляну.
Шараборин устал, измотался. Последний километр пути был особенно труден и отобрал у него остаток сил. Каждый новый шаг, каждое движение уставших рук, каждый глоток морозного воздуха давались Шараборину все с большим трудом, причиняли все новые и новые страдания.
И вот, наконец…
Выйдя на поляну, Шараборин остановился, вслушался. Тишина. Вгляделся и не сразу заметил, как сквозь молочно-белую морозную дымку, висевшую над поляной, выступила срубленная из вековых бревен глухая одинокая избенка.
Из трубы ее, полузанесенной снегом, тонкой струйкой вился дымок, выпрыгивали и плясали в воздухе, точно светлячки, частые искорки.
Из маленького квадратного оконца, затянутого голубоватой мутью, робко высвечивал слабенький, желтоватый огонек.
Шараборин не двигался с места. От голода и холода, от усталости и чрезмерного нервного напряжения его начало знобить. Он хорошо знал якутскую тайгу, исхоженную им вдоль и поперек, ее реки и их притоки, редкие селения и одинокие станки и сейчас призывал на помощь свою память, которая должна была подсказать ему, кому принадлежит эта манящая к себе избенка, где, конечно, есть и тепло, и мясо, и крепкий чай. Он ясно понимал, что никто не должен его видеть, знал, что ему следует опасаться не только человека, но даже звезд и луны, свет которых может его выдать, поможет навести людей на след. Он долго стоял, но вспомнить, чья это изба, не мог.
В Шараборине происходила жестокая внутренняя борьба. Он был не в силах противостоять соблазну. Веселый дымок и приветливый огонек манили к себе, притягивали. Но он колебался, проклиная себя за робость, нерешительность, малодушие. В нем уже поднималась злоба к этой сгорбленной, с выпученными внизу углами жалкой избенке, прижавшейся к стене леса, придавленной толстым слоем снега. Он уже ненавидел самого себя, свое уставшее, ноющее в суставах тело, натруженные и непослушные ноги, руки, огрубевшие, прихваченные морозом, пустой желудок, надоедливо и мучительно требующий пищи.
«Однако, пойду, отдохну малость… — решил Шараборин, пересилив голос благоразумия. — И чего боюсь? Совсем как женщина. В доме, видать, кто-то один живет. Но кто же, кто?»
Шараборин сделал шаг вперед, замер на месте и насторожился: до его слуха донесся подозрительный звук. Притаенно молчала тайга, но там, у избенки, в тени деревьев повизгивала безголосая, неуловимая глазом, северная собака.
Дверь в избе отворилась, очертив рамку света. В рамке показалась человеческая фигура, и раздался голос, заставивший вздрогнуть Шараборина:
— Эй, Таас Бас! Зачем воешь? Иди сюда…
Что-то большое и мохнатое юркнуло в дверь, и она захлопнулась.
Страх кольнул в самое сердце Шараборина. У него захватило дух.
— Таас Бас… Таас Бас… — шептал он замерзшими губами. — Так вот кто живет в избе… Однако, я чуть не попался, пропал бы, совсем пропал и задаром…
Одичалым взглядом он обвел поляну, попятился назад, собрался весь, сжался в комок и сильным броском перенес свое тело в сторону от дороги.
Превозмогая усталость, Шараборин пошел в обход поляны, по цельному снегу, отмечая путь четкими следами лыж. Ноги теперь будто сами несли его.
* * *Хозяин избы член колхоза «Рассвет», старый, известный в округе охотник якут Быканыров проснулся чуть свет. Открыв глаза, он охнул и сейчас же закрыл их.
Только что во сне он видел себя на охоте. В сетке, поставленной им у дупла неохватной лиственницы, бился гибкий и верткий горностай, и вдруг, как назло, пропал сон, пропал и горностай.
Старик лежал еще некоторое время неподвижно, боясь шелохнуться, плотно сомкнув веки, надеясь, что приятный сон вернется к нему, но надежды его оказались тщетны. Сон минул.
«Хороший сон… Хороший горностай… — посетовал старик и открыл глаза. — А что же я лежу? Кто будет за меня разводить камелек? Кто пойдет проверять капканы? Кто покормит Таас Баса?»
Старик перевернулся с боку на бок, приподнял голову и увидел, что стрелка на «ходиках», висящих на стене, приближается к цифре десять.
— Ай-яй-яй! — как бы осуждая свое поведение, сказал Быканыров, поцокал языком, но продолжал лежать. Его глаза забегали по комнате, остановились на потухшем за ночь камельке, скользнули по шкуркам белок, лисиц, горностаев, сушившимся на распялках, пробежали по стеллажу с аккуратно разложенными на нем охотничьими припасами, заглянули в темный угол избы, где в небольшом бочонке хранилось засоленное впрок мясо сохатого, и остановились на бескурковке центрального боя с натертым до блеска прикладом.
Ружье всегда вызывало светлые воспоминания у старика. Он и сейчас подумал о своем далеком и верном друге, который подарил ему это ружье.
— Однако, пора вставать… Совсем ленивый стал, — произнес вслух Быканыров. Он нерешительным движением сбросил с себя большую оленью доху, сел на деревянной койке, застланной пушистой медвежьей шкурой, и свесил босые ноги.
— У-у… как холодно, — заметил он, поежившись, и начал быстро обуваться.
Полчаса спустя уже ярко пылал камелек, и озаренная его светом комната преобразилась и стала уютной.
Быканыров набил махоркой глиняную трубку и распалил ее угольком от камелька. Потом надел через голову короткую дошку из мягкого пыжика и перетянул ее ремнем.
За дверьми послышалось повизгивание собаки.
— Сейчас, Таас Бас, сейчас иду… — подал голос Быканыров и, сняв с колышка на стене коробку из березовой коры, сгреб в нее со стола остатки еды.
Утро стояло морозное, ясное. Чистый воздух, густо настоенный на горьковатых запахах хвои, щекотал в носу, в горле. Лучи восходящего солнца, с трудом пробиваясь сквозь верхушки сосен и елей, золотили поляну. Где-то совсем близко перекликались рябчики.
Пес, восторженно взвизгнув, радостно бросился к хозяину. Он забегал вокруг него, начал подпрыгивать, пытаясь лизнуть в лицо, потом отбежал в сторону, припал на передние лапы, зарывшись мордой в снег, и, наконец, набегавшись вдоволь, улегся у ног Быканырова, уставившись на него преданными глазами.
— Таас Бас… Таас Бас… — дружелюбно заговорил старик. — Ой-ей, есть хочет пес! Ну на, ешь вперед хозяина, — и он опрокинул коробку.
Пес накинулся на еду, помахивая пушистым хвостом.
Таас Бас был необычно велик ростом и походил на волка не только сильно развитой грудью, но и пышной шерстью желто-серой окраски, и черной полосой на спине, и крутым темно-дымчатым загривком. Это был верный друг, чуткий охотник, опытный, неутомимый следопыт, смелый, выносливый пес, не боящийся никаких невзгод и морозов, родившийся и выросший в тайге.
Пока он с хрустом кромсал мощными челюстями мясные кости, Быканыров, попыхивая трубкой, осматривал широкие и недлинные лыжи, подбитые жестким, коротко остриженным камусом.
— Ну ешь, ешь… — сказал Быканыров и направился обратно в избу. — Сейчас пойдем с тобой косачей добывать. И завтрак, и обед будет у нас. Нам много не надо: одного-двух подстрелим, и хватит.
Войдя в избу, старик подбросил несколько поленьев в камелек, чтобы он не прогорел до его возвращения. Потом взял с полки патронташ и проверил каждый патрон. Сняв со стены бескурковое ружье центрального боя, он долго разглядывал, будто видел впервые, и, любовно погладив приклад, закинул за плечо.
Быканыров был очень удивлен, когда, закрыв за собой дверь, не увидел Таас Баса. Никогда этого не бывало. Всегда пес ждал его и следовал за ним неотступно.
Старик огляделся и увидел пса у конца поляны, у излома наезженной дороги. Таас Бас, фыркая и энергично встряхивая головой, что-то обнюхивал.
Старый охотник, встав на лыжи, подошел к собаке и увидел уходящий круто в сторону от дороги совсем еще свежий лыжный след.
Быканыров выбил остатки табака из потухшей трубки и, всмотревшись в след, покачал головой.
— Однако, Таас Бас, кто-то не захотел зайти к нам этой ночью, — обратился он к собаке. — Совсем близко прошел и ушел. Не захотел воспользоваться нашим гостеприимством. Что же это был за человек? Почему он не зашел к нам? Куда он пошел? — продолжал он по старой привычке разговаривать с собакой.
Таас Бас, стоя в снегу по самое брюхо, поводил ушами и, тихонько повизгивая, всем своим видом как бы призывал хозяина заняться обследованием обнаруженного следа.
След заинтересовал и Быканырова. Перебравшись на свежую лыжню, он средним шагом пошел по ней, внимательно всматриваясь вперед. Таас Бас прыгал по цельному снегу, выдерживая между собой и хозяином небольшую дистанцию.
Зоркий, опытный глаз старого таежного охотника сразу подметил и определил многое: лыжню проложил таежный человек, и скорее всего якут. Шел он на северных коротких и широких, как у Быканырова, лыжах и без помощи палок. Походка у него тяжелая и необычная, немного припадает на левую ногу. Он очень устал, так как сделал четыре остановки, несколько раз прислонялся к стволу дерева, а один раз даже опустился на снег, для того, видно, чтобы передохнуть.
Пройдя километра полтора и обнаружив, что лыжный след полукругом обегает поляну, где стоит его изба, Быканыров без труда понял, что неизвестный сделал крюк умышленно.
На втором километре старик увидел Таас Баса. Тот лежал на хорошо утоптанном месте и, высунув розовый язык, тяжело дышал.
Быканыров приблизился и также без труда определил, что неизвестный именно здесь делал привал и, возможно, спал. Он не разводил огня, но вмятые в снег ветви ели говорили о том, что на них лежал человек.
А дальше от привала в тайгу опять шел все тот же, еще более свежий след лыж.
На месте привала неизвестного Быканыров присел на корточки, вынул из кармана трубку, набил ее табаком, закурил. Взгляд его стал озабоченным, встревоженным. В голове безотчетно зароились беспокойные мысли. Что вынудило человека скрываться? Почему он, уставший, пренебрег теплом, отдыхом и предпочел спать на голом снегу, на холоде?
«И, видно, желудок у него был пуст, коль нет никаких следов еды», — подумал Быканыров и, оторвавшись от раздумий, опять обратился к своему спутнику Таас Басу:
— Зачем он спал здесь? Почему не пришел к нам? У нас хорошо, тепло… Как ты думаешь?
Пес встал и завилял хвостом. Он склонял голову то в одну, то в другую сторону и заглядывал в глаза хозяину.
— Мы должны знать, что за человек был здесь, — продолжал Быканыров. — Однако неспроста он обошел нашу избу. Однако неспроста он испугался нас. В тайге так не бывает. В тайге человек человеку тогор[2]. Видать, это худой человек. И в голове у него что-то худое. Пойдем обратно домой. Захватим припасов и пойдем по следу…