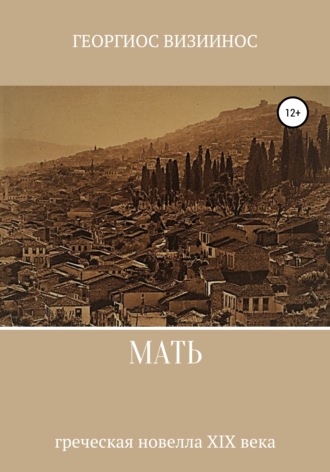
Георгиос Визиинос
Мать
– Нет-нет, что ты, мама! – не выдержал я, – я и не пытаюсь, а после всего, что ты мне рассказала, ты уж прости меня за чёрствость мою. Обещаю тебе полюбить Катерину как родную сестру и ни одним словечком не обижу её.
– Спаси тебя Господь и Богородица! – облегченно вздохнув, произнесла мама. – Ну ты же видишь, как мучилось сердце моё по несчастной, и не хочется, чтоб издевались над ней. А то я и сама не понимаю?! Но так это ж судьба такая! Значит, Богу было угодно! Да, пускай некрасивая, пускай неуклюжая, но раз уж взвалила я на себя эту ношу – куда ж мне теперь?!
Глубокое впечатление оставило в моей душе матернее признание. На многое открылись вдруг глаза, и многое мне стало понятно: и даже то, что раньше казалось пустым суеверием, а то и странной её одержимостью. Страшное несчастье такой нестерпимой болью изранило всю жизнь её – человека набожного, добросердечного и простого. День ото дня её терзала эта тайна, и в горе, и в радости её непрестанно истязало ощущение греха, душа томилась потребностью очиститься и мучилась от неосуществимости этого. В течение двадцати восьми лет, столь болезненных и невыносимых, жила и страдала несчастная женщина, потеряв всякий покой от неутихающих и щемящих сердце угрызений совести. Как чудовищно беспощаден этот нескончаемый ад!
С того момента, как услышал я эту горькую историю, я всеми силами пытался найти подходящие для утешения слова, мне очень хотелось её успокоить, представить всё прошлое непреднамеренным, невольным происшествием, убедить её в безграничной божественной щедрости и милости: не судом человеческим решает и смотрит Бог, а по помыслам нашим судит! Некоторое время я даже был уверен, что старания мои не были напрасными.
Как-то после почти двух лет разлуки мама приехала навестить меня в Константинополь, и мне показалось, что пришло самое время сделать для неё что-то особенное. Гостил я тогда в одном из самых примечательных домов города, где мне посчастливилось познакомиться с патриархом Иоакимом Вторым. Сопровождая как-то Святейшего на прогулке по тихим тропинкам тенистого сада, я рассказал ему свою историю и попросил помощи: высокий его сан, непререкаемый пасторский авторитет и удивительный дар убеждения должны были сподвигнуть мою маму забыть наконец о своих переживаниях и прекратить изводить себя мучительными воспоминаниями. Почтенный старец подбодрил меня, пообещав мне всяческую с его стороны поддержку.
Так, через некоторое время мне удалось отвести маму на исповедь к его Святейшеству. Общение между ними продолжалось очень долго, а по жестикуляции и доносившимся до меня обрывкам фраз я понял, что Патриарху пришлось употребить всю силу своего красноречия и рассудительности, чтобы добиться желаемого результата.
Восторг мой был неописуем: прощаясь с его Святейшеством, мама вышла из патриаршей приемной в таком приподнятом настроении и с легкостью, будто освободилась она разом от тяжелейшего камня, что грузом висел на душе и постоянно давил её унынием и безысходностью, а теперь в выражении её лица чувствовалась искренняя признательность и умиротворение.
Наконец мы добрались до дома, там мать вытащила из-за пазухи маленький крестик – подарок Патриарха – бережно поцеловала и, не выпуская из рук, всё продолжала его теребить, отрешённо уставившись в пустоту и ещё больше погружаясь в раздумья.
– Вот видишь, – начал было обрадованно я, решившись первым потревожить затянувшуюся тишину, – патриарх же очень хороший человек. Надеюсь, и сердце твое успокоилось!
Мать не отвечала.
– Ты ничего мне не расскажешь? – после недолгой паузы смущенно спросил я.
– Даже и не знаю, что тебе ответить, сынок! – с некоторым сомнением откликнулась мать. – Патриарх мудрый, конечно, и точно святой человек, знает о божественной воле и промысле, он столько молится о судьбах и грехах всего мира. Но ведь он же монах! Разве ж дано ему понять, что это такое, когда ты погубил своё собственное дитя?!
Глаза матери снова раскраснелись от набежавших слез, а я замолчал, так и не найдя достойного ответа.
1883 г.


