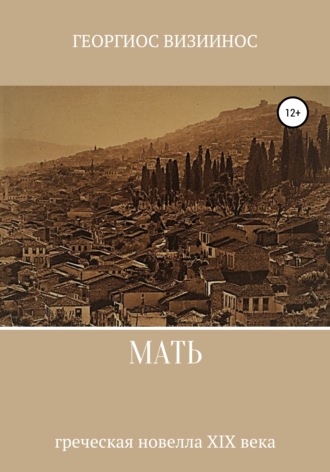
Георгиос Визиинос
Мать
После нескольких минут глубокой тишины она вновь покадила одежду и с особенной тщательностью пиалу, в которой вода была налита прямо до самых краёв.
Неожиданно подлетел мотылёк, начал виться кругами и в какой-то момент коснулся воды, от мягкого прикосновения гладь вздёрнулась легкой рябью и вновь застыла. Мать перекрестилась и почтительно поклонилась, в точности как на выносе святых даров в церкви.
– Ты тоже, сынок! – шепотом обратилась она ко мне, богобоязненно опустив голову и не поднимая на меня взгляда.
Я инстинктивно послушался.
Покружившись ещё немного, мотылёк исчез в потёмках комнаты, мама облегчённо вздохнула и бодро поднялась с колен – лицо её улыбалось.
– Это отцова душа здесь была, – сказала она с чувством, исполненным любви и восхищения, продолжая взглядом ловить мотылька, затем аккуратно взяла пиалу, сделала несколько глотков и дала мне.
Мне тут же вспомнилось, что уже неоднократно нам приходилось по утрам пить воду из той же пиалы сразу же по пробуждению. А ещё всякий раз, как такое случалось, мать на протяжении целого дня оставалась в приподнятом настроении и казалась жизнерадостной, словно каким-то особенным образом она делалась вдруг счастливой.
Напоив меня, она подошла к постели Анюты. Сестра не спала, но словно пребывала в нелепой полудрёме. В её полуоткрытых веках сквозь густые и чёрные ресницы странным и неестественным отблеском горели глаза. С особой осторожностью мама приподняла за спину исхудавшее тело дочки и, придерживая её одной рукой, поднесла пиалу к её высохшим губам:
– Ну давай же, радость моя, отпей хоть глоточек! Тебе нужно выздороветь.
Сестра не открывала глаз, но нам стало ясно, что она всё слышала и поняла значение маминых слов: тёплой, притягательно нежной улыбкой дрогнули уголки её рта. Она постаралась хоть чуточку отпить той воды, что была для неё преисполнена целебной силы. Пригубив глоточек, Анюта полностью разомкнула веки и всё тщилась сделать глубокий вдох, но вместо этого издала приглушенный стон и безжизненно повисла на маминой руке. Несчастная моя сестра! Вот и избавилась она от своих страданий!
Со смертью отца мою маму осуждали, потому как женщине положено громко рыдать на могиле мужа – она же неслышно сидела и тихо плакала. Совсем юной была, когда овдовела, и очень боялась, как бы не упрекнули её в чём: а вдруг пенять начнут за чрезмерность и излишества. А когда умерла сестра, мама не была уж сильно старше, но ей теперь было безразлично, что скажут люди за её душераздирающий плач.
Все наши соседи один за другим приходили её утешить, но горе её было огромным и скорбь безотрадной.
– Совсем помешаться может, – шептались межу собой знакомые, видя, как мать убивается в слезах между двух дорогих ей могил – мужа и дочери.
– Эх, совсем осиротеют, бедные, – брошенные теперь, и ухаживать некому.
Потребовалось время, понадобились вразумления и увещевания священника, дабы привести её в чувство, чтобы вспомнила она и о живых детях, чтобы взялась за домашние хлопоты.
Меж тем, только тогда я осознал, как основательно нас потрепала затяжная болезнь сестры. Наше денежное состояние было вчистую растрачено на врачей и лекарства. Даже множество маминых шерстяных покрывал и расшитых её собственными руками накидок были распроданы за бесценок или отданы каким-то шарлатанам, знахарям и колдунам. А бывало и так, что эти проходимцы, воспользовавшись моментом, пока жили в нашем доме, нас просто по-тихому обкрадывали. А к довершению, хозяйство напрочь развалилось, и мы полностью лишились средств к существованию.
На удивление всё это не только не испугало нашу мать, но даже придало ей уверенности – ещё большей, чем до того, как захворала Анюта: мать смогла найти в себе силы справиться с горечью и тоской на сердце и засучив, как говорится, рукава так принялась за труды, словно её руки никогда не знали достатка и благополучия в жизни.
Долгие годы она кормила и одевала нас, не помышляя ни о покое, ни об отдыхе. Жалование её было маленьким, а нужды наши огромными, но никого из нас она не допускала к своей работе и помощи не требовала.
Нередко вечерами мы семьёй собирались у камина и мечтали о будущем. Старший брат хотел продолжить отцово ремесло и считал своим долгом взять на себя обязанности главы семейства. Мне всё чаще грезились путешествия в чужие края. Но прежде всего нам нужно было выучиться в школе. Мать частенько повторяла: "Человек неучёный, что топор неточёный".
Положение наше сделалось совсем скверным, когда на страну обрушилась засуха и повсеместно выросли цены на продукты. Однако мама и не думала впадать в уныние или испытывать тревогу о нашем пропитании, наоборот, поспешила увеличить количество ртов ещё на одного человека, приведя в дом незнакомую девочку, которую, ко всему прочему, после долгих стараний ей наконец-то удалось удочерить.
Это событие заметно изменило наш уклад и порядки, привнеся странное разнообразие в монотонные и строгие семейные будни. Обряд удочерения оказался настоящим праздничным приключением. Мать впервые за многие годы надела свои прежние наряды и украшения. Нас отвела в церковь по-воскресному одетыми, сверкающими чистотой и красиво причёсанными, словно на святые таинства. После окончания литургии мы всем приходом, а были там и настоящие родители девочки, встали напротив иконы Вседержителя, и мать торжественно приняла ребёнка из рук священника, пообещав во всеуслышание, что «хочет полюбить и воспитать сие чадо, равно оно плоть от плоти её кровное».
В исключительно торжественной обстановке прошло приобщение ребенка к новой семье и дому. От самой церкви процессию возглавляли сельский старейшина вместе с мамой и девочкой, а за ними потянулись остальные. Наши собственные родственники и родные нашей новой сестры внушительной толпой сопровождали нас прямо до дверей дома. На пороге старейшина поднял девочку высоко над головами, как бы демонстрируя её всем присутствующим, затем громогласно спросил:
– Кто из сродников, своячениц иль родителей ребёнка полагают себя самих важней для девочки, чем Деспина, покойного Михаила супружница, и ихние дети?
Отец девочки выглядел совсем бледным и, потупив взгляд, уныло глядел перед собой. Его жена, уткнувшись в мужнино плечо, тихо рыдала. Мою же маму всю, казалось, трясло на нервах – а вдруг кто запротестует и враз разрушит её счастье! Однако никто не решился ответить старейшине. Тогда девочку в последний раз дали родителям на руки: они обняли, поцеловали ребёнка и удалились навсегда вместе со своими родственниками. Сельский старейшина в компании уже нашей родни был приглашён на застолье.
С того самого момента мать пестовала приёмную дочку, окутав её таким теплом и заботой, какой мы не удостаивались даже в самые лучшие годы. Меня в скором времени отправили учиться, я был далеко и часто скучал по близким. Мои братья в изнурительных трудах и нередко без сна и отдыха обучались ремеслу в подмастерьях, а чужая нам девочка чувствовала себя в нашем доме хозяйкой, словно в своём собственном.
Скромных доходов, что приносили братья, хватило бы на то, чтобы дать матери хоть недолгую передышку, но та вместо отдыха всё копила приданое для приёмной дочки и продолжала в поте лица заботиться о ней. Я о многом даже и не догадывался. Ещё до того, как мне посчастливилось вернуться, мать успела вполне позаботиться о чужом ребёнке: вырастить, воспитать и даже отдать её замуж, окружив всецело материнским вниманием, будто та была истинным членом нашей семьи.
Свадьба, с которой, кажется, сознательно поторопились, стала истинно радостной новостью для братьев – освободившись от мучительного бремени на сердце, они наконец вздохнули с облегчением. И отчасти были правы: девочка не только никогда не питала к ним подлинно сестринских чувств, но и напоследок ответила неблагодарностью женщине, что нянчилась с ней сызмальства и подарила столько нежности и любви, какой зачастую не получают и родные дети.
А потому были на то причины, когда, провожая сестру в её новый дом, братья не испытывали ни капли сожаления и очень надеялись, что и мама вынесла важный урок из всего пережитого. Но каково ж было удивление, когда однажды, почти сразу же после свадьбы приёмной дочки, мать снова приносит в семью девочку – совсем кроху, ещё в пелёнках!
– Несчастная девчушка! – произнесла с умилением мать, склонившись над дитём и бережно сжимая его в своих объятиях. – Мало того, что, ещё не родившись, отца потеряла, а тут и мать её померла – совсем сиротой сделалась. Ну и как ей теперь – не пропадать же! И с чувством еле скрываемого удовлетворения при столь несчастливых для малышки обстоятельствах она с восторгом предъявила свою добычу онемевшим от изумления братьям.
Сыновье почтение было, конечно, велико, да и авторитет матери непререкаем, но бедные мои братья оказались так сильно разочарованы произошедшим, что не постеснялись выразить своё неудовольствие: сначала уговорами, а под конец уж настаивали, чтобы мать отказалась от своих намерений. Мать не поддавалась. Тогда братья в открытую заявили, что не желают тратиться на чужого для них ребёнка. Страсти накалялись.
– А мне и нет надобности в вашей помощи! – словно отрезала мать. – Я сама буду работать и выращу девочку, как вырастила и вас. А уж когда Георгий вернётся, то и приданое ей соберёт и замуж её выдаст. А как вы думали?! Он мне это пообещал: "Я тебя, мамочка, не брошу, и дочку твою буду поддерживать!" – Вот! Так мне и сказал, дай-то бог ему здоровья!


