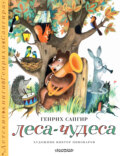Генрих Сапгир
Собрание сочинений. Том 2. Мифы
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Я всегда думала, что Андрей и Сергей похожи, как дядя и племянник, все-таки Андрей постарше. Но сейчас, когда он толкал мою коляску по белому волнообразному песку к стоящему стеной невдали океану, я чувствовала, меня везет Андрей. И, как всегда, благодарность и любовь, кто бы что ни говорил. А то, что произошло накануне или даже сегодня, казалось, было давным-давно и совсем с другим Андреем, к этому – молодому – не имеющим никакого отношения.
– Смотри, – сказал молодой Андрей, – а волны желтые, совсем не голубые.
– Зато какие! Даже страшно!
Волны, действительно, были океанские – спокойно и величественно надвигались на нас всей своей массой и распластывались далеко по песку. На линии их отката валялась всякая мелочь. Пальмовые листья, древесный сор, черные кокосы и розовая кукла без платья и головы. «Вот так нырнуть, а потом всплыть где-нибудь на просторе без платья и головы!» И мне ужасно захотелось сбежать туда к прибою и лечь там на живот. Пусть накатываются и накатываются на тебя огромные волны.
Что-то внутри меня сдвинулось, будто часы переставили. Даже пискнуло. Удивленное лицо моего спутника. Молодой, молодой Андрей.
– Я хочу туда.
– Я тебя туда свезу.
– Погоди, я сама.
– Не чуди, пожалуйста. – «Всегда вежлив, всегда, при любых обстоятельствах».
– Я серьезно.
– Я тебя подниму и донесу.
– Нет, я сама. Просто помоги мне вылезти.
«Не стал спорить». – Обопрись на меня. Крепче.
Не знаю почему, я знала. Поднимусь сама. Несмотря на то что руки и ноги, как протезы. Слушайтесь меня, деревяшки.
И вот по спине и ногам побежали холодящие мураши. Боже, я превратилась в целый муравейник. Рывком встала, кресло откатилось. Я пошатнулась, Андрей успел – поддержал меня.
Я сделала один шаг. Другой. Казалось, это не песок, а камень, который при каждом шаге ударял меня в подошвы, подбрасывая. Но я шла. Господи, я шла. Пошатываясь, неуверенно. Откуда? Куда? Океан приближался рывками. Но все еще далеко. Я старалась бежать навстречу угрожающе-огромным волнам, переставляя ноги как палки, чувствуя себя неуправляемым деревянным циркулем. Ближе. Ближе. Рядом. И я упала лицом в волну. В очень мокрую, очень соленую, горькую, ласкающую воду (волосы сразу стали тяжелыми), захлебнулась от счастья.
– Тамара! Постой! Погоди, этого не может быть! Тамара! Ты же не можешь! Упадешь! Упадешь! Ты летишь! Возьми меня с собой! – запоздало кричал совсем юный Андрей где-то рядом.
– Но ведь доктора… – осекся он.
– Дубье – твои доктора, – сказала я с удовольствием и засмеялась прямо в волну.
– Доктора – шулера, – почему-то уныло согласился он.
Желтая раковина на алом фоне: ШЕЛЛ – надпись поперек. Бензоколонка на берегу.
Раковины точно такой же формы валяются здесь повсюду на крупном белесом от солнца песке.
Раковина цвета слоновой кости, небольших размеров. От краев к выпуклому центру сходятся легкие бороздки. Левый уголок отогнут, как краешек носового платка.
Если глядеть долго, перестаешь понимать, что это. Белый купол гигантского здания? Панцирь доисторического существа? Вот она – на ладони. Может быть, знак приветствия? Открытка из другого мира? Ключ, который может открыть во мне новый источник света и любви? Подумать только, какая совершенная и непонятная глюковина – раковина!
Мы идем по предвечернему городу, я толкаю впереди уже ненужную инвалидную коляску, не оставлять же на берегу. Перед нами по кафельному тротуару в мягком свете открытых магазинов движется индус в длинной белой юбке.
Малайцы, китайцы, индусы, нищие,
магнитофоны, рубашки, джинсы,
чемоданы, баулы, зонтики,
зонтики, зонтики, зонтики, зонтики,
обувь, аптека, часы, харчевня,
часы, часы, часы, часы,
ткани, ткани, ткани, ткани,
золото, золото, золото, золото,
всякие мелочи и всякие мелочи,
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
В нашей жизни был еще один мир: экран телевизора. И это был самый загадочный и призрачный мир. Дикторы – симпатичные и красивые, гладкие мужчины и женщины заученно рассказывали нам о том, что происходит в стране, в Москве и в верхних этажах власти, как они это называли. Но дело в том, что вокруг ничего подобного не происходило. А верхние этажи власти были для нас сказкой, мифом. Время от времени до нас долетали звуки речей, торжественная музыка с высот, их показывали на экране, их просветленные лица, их красивые галстуки. Но что там совершалось на небесах, какие сшибались крылатые рати? Доносились лишь крики и звон стекла, предсмертные хрипы и шум падения грузных тел коммерсантов, расстреливаемых в упор киллерами.
Вокруг была третья жизнь, занятая самой собой. Высшие власти часто ругали, но все это как-то не касалось повседневности. Даже если не платили кому-то, то был это негодяй и вор – директор, и рыло его было всем знакомо, и кабинет его был известен.
Сначала была зима. И было холодно. Потом пришла весна. И стало тепло. В прежние годы у нас, жителей, было много денег, в магазинах зато было маловато продуктов и товаров. А то и вовсе все смывало с прилавков, как во сне. Теперь товаров стало много, а денег мало, но и это пройдет, как говорится. Вообще жизнь у нас шла полосами. Она как бы протекала сквозь нас то синим небом, то облупленной штукатуркой нежилого здания, то уставленным бутылками длинным столом – так и течет насквозь вся эта грязная посуда с объедками на скатерти, когда же наконец кончится? А то начнет кружить в вагоне метро по кольцевой, будто едешь и едешь – никогда не выходил. Но главная-то жизнь – это теперь блаженная полоса Сингапура, и все больше и шире затягивает, как новые безвредные наркотики. Да так ли уж она хороша? Не оттяпывает по ходу куски души? Этого я пока не знал.
Но вернемся назад, если вы уже не позабыли, туда – к моему мужскому, вкупе с Таней, варианту Сингапура. Итак, вечерняя, лучащаяся золотом улица продолжается:
Всякие мелочи и всякие мелочи,
Фотоаппараты и парфюмерия,
Парфюмерия и конфеты,
Парфюмерия и аптека,
Парфюмерия и часы,
Часы, часы, часы, часы,
Зонтики, зонтики, зонтики, зонтики,
Запахи, запахи, запахи, запахи,
Апельсины, папайя, бананы, дурьян,
Кухня на колесах, кухня на колесах,
Жареные бананы на больших сковородках,
Утки по-пекински, рис по-сычуаньски,
Китайцы, малайцы, индусы, машины
И – мотоциклисты! —
В красных, серебряных, голубых, золотых шлемах с блестками – и все это проносится, сверкает, кружится, завывает, глазеет, пестреет, насыщается, курит и пьет, будто огромное колесо китайского базара днем и ночью вращается вокруг нас. Только ночью все – мерцая огоньками в душной тьме. А кругом – незримый океан.
Черные силуэты больших деревьев на желтом закате. Темнота наступила сразу. Я и Таня двигались в толпе среди множества туристов, как я понимаю, не выделяясь ничем для местных. Я разменял стодолларовую зеленую бумажку на сингапурские доллары. И мы поели прямо на улице, присев за пластиковый столик. Увидев, что я отложил в сторону палочки, хозяин протянул нам вилки. Нет ничего вкуснее горячей лапши из крупных креветок с соевым соусом!
Под лихим беретиком сияли ненасытные Танины глаза. И я наблюдал время от времени в толпе странные картины – как просвет. В этом просвете – беретик то сплетался с каким-то смуглым юношей, то ее насиловал коротконогий щетиноголовый хозяин, то целая гирлянда пестрых мяукающих кошек повисала на голенькой. Хорошо, что, кроме меня, этого не видел никто. А если кому и нарисовалось и мгновенно исчезло, думаю, разумом не понял и не поверил.
– Перестань озоровать! – сказал я Татьяне.
Она засмеялась, но прекратила.
Пустая никелированная коляска свободно катилась по тротуару, рядом по обочине вез кого-то велорикша. Он с удивлением покосился на нее, не остановился. Но я-то знал, чья она.
– Здравствуй, – повернулась ко мне инвалидная коляска.
– Я тебя ищу, – отвечал я.
– Здравствуй, Таня, – сказал кто-то рядом. – Только не показывай картинок.
– А, Сергей, – поприветствовал я приятеля. – Конечно, я был не я, я так и понял.
– Конечно, не ты, – засмеялся слоненок. Но смех был каким-то напряженным.
– А ты… – обратился я и осекся… За спинкой инвалидного кресла стояла миловидная тайка – и смеялась всем: длинными глазами, челкой, белым воротничком блузки. Правда, можно было узнать мою жену, но в индокитайском варианте. Моложава, как все вокруг. Игрушечная женщинка. Я и не знал, что она может быть такой. Выздоровела каким-то чудесным образом.
– Поздравляю, – неуверенно произнес я.
– Ты будто и не рад.
Что-то во мне взорвалось. И все вокруг засверкало. Я как будто вспомнил себя, каким был, это было она. Это была снова она сто тысяч лет тому назад. До революции. До болезни. Еще здоровая или опять здоровая. Бесконечно и привычно дорогая, неужели я мог об этом позабыть? Но это же она. И, чтобы понять это, надо просто прикоснуться.
Я протянул руку и коснулся ее узкой кисти.
Вдруг черное небо обрушилось на землю очень теплым тропическим ливнем. И все закипело, потонуло в стреляющих от асфальта струях дождя. Мы успели спрятаться под навесом какой-то авиакомпании. В пустом помещении горели настольные лампы. И отовсюду на нас глядели лаковые рекламы, плакаты, мерцали экраны компьютеров. Улыбались фотомодели-красотки и настоящие мужчины заученными улыбками. И мы сами себя ощутили «по щучьему веленью, по моему прошенью» беззаботными и счастливыми. Ты показала мне: рядом, прислонясь к стеклу, стоял коричневый мишка-коала почти в человеческий рост. Не сразу понял, что чучело. Неподалеку, не обращая внимания на потоп, почти по-московски ловил такси парнишка в рубашке из синего батика. Башмаки на платформе. Видно, небольшого росточка. Глянул, равнодушно улыбнулся – и мы все вместе с коалой и туземным юношей закружились в дымящемся хороводе, в огнях под счастливым небом Сингапура.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
На краю Сингапура лев-русалка (герб города) скалится на океан. А там на рейде – сотни торговых судов на весь горизонт. Белое солнце (оно же черное, если долго смотреть) – в облачках и наливающаяся мутью половина неба. Львиный город – весь на вертикалях. Небоскребы – в тени и на солнце. Одни – в ромбических балконах. Другие – закругленные, как пароходные трубы. Небоскребы – стелы с круглой стеклянной коробкой наверху. Дом, похожий на океанский лайнер: внизу круглые иллюминаторы, высокий борт, несколько палубных этажей и выше ступеньками балконы, уставленные экзотическими цветами. Билдинг весь стеклянно-золотой, так отсвечивают окна. Ниже ярусом – солидные викторианские дворцы с колоннами, церкви, мечети, китайские храмы. И в глубину – прямые двухэтажные улицы с вывесками: латиница, иероглифы, арабская вязь. Но заслоняют все огромные натуралистичные афиши американского кино: героиня с пистолетом в мини – ноги, пожалуй, выше небоскребов.
Таким Сингапур предстал мне с Тамарой и, возможно, нашим спутникам. Мы теперь, считай, одна семья. Наскоро посовещавшись, мы решили не возвращаться пока. Тем более что, по всей видимости, мы были вовлечены в какой-то бесконечный тур. Нас подзывали гиды к автобусу, везли к очередному отелю. Там кормили, вручали ключи от наших комнат. А поднявшись в номер, мы обнаруживали наши чемоданы, уже распакованные, и одежду, аккуратно развешанную горничной в шкафу. Это было настоящее волшебство, но не волшебней всех наших прежних перемещений. Допустим, кто-то за все заплатил и просто не хочет в этом признаваться.
Одна была неловкость, к которой лично я все как-то не мог привыкнуть. Номера наши были двухместные, но, в сущности, это была жизнь вчетвером. Душными ночами (не везде был кондишен) Тамара называла меня Сергеем. И я ловил себя порой, что обнимаю не ее, а Таню, между прочим, с особым сладострастием. Или это были просто волшебные картинки нашей приятельницы? Которая вместе с Сергеем (так я думал!) занимала соседний номер. Или, подозреваю, жила тут же в этой комнате, но каким-то вторым планом, неявно. Кто знает, во что превращается и какие причудливые формы может принять праздник жизни, когда исполняются все наши желания! Впрочем, это бывает только в воображении. Но если им поменяться местами – воображению и реальности… Наверно, мы все были сумасшедшими, что нисколько не мешает нашему прыгающему повествованию.
Главное, Тамара была как прежде – когда-то, пусть неуверенно, часто присаживаясь отдохнуть, она ходила и ездила с нами всюду. Она была счастлива и не жаловалась на ноги.
Вот и теперь в храме Спящего. Во всю далекую глубину его простиралась фигура возлежащего гиганта, очертания ее терялись в полутьме за колоннами – холмы и предгорья. Подробности трудно разглядеть, всюду – подмостки, по которым расхаживают рабочие в синих комбинезонах, временами непочтительно оглашая храм деловыми возгласами. Статую, видимо, ремонтируют, подновляют.
Из полутьмы – огромный полузакрытый глаз. Око, следящее за тонкой муравьиной струйкой туристов, привычно текущей где-то там внизу от головы гулливера к пяткам. Наверно, Ему из его Вечности мы виделись нескончаемым ручейком. Ведь Ему надо сделать определенное усилие, чтобы отделить сегодня от завтра, год от года, столетие от столетия.
Туристы с гидом шаркали где-то впереди, мы с Тамарой несколько поотстали.
– Ты не устала?
– Как легко здесь дышится! Пахнет сандаловым деревом, слышишь?
– Это от курительных палочек. У тебе голова не кружится?
– Кружится… хорошо…
– Давай отдохнем? Здесь можно сесть прямо на пол.
Мы опустились у колонны. Скрестили и поджали под себя ноги, как азиаты.
– Пружинит. Удобно, – сказала Тамара. – Ты сам – и стул и сидящий на стуле, мудрый Восток.
– Восток знает многое – другое, чем мы.
– Спящий! Он же больше самого себя! Во много раз!
– Интересно, какими мы ему кажемся? Наверно, ничтожествами какими-то, букашками.
– Как приятно чувствовать себя ничтожеством. Я никто, – сказала она и посмотрела на меня потемневшими большими глазами. – И ты никто.
Мне понравилось.
– Давай будем так и звать друг друга: никто.
Она счастливо засмеялась.
– А на имя не будем откликаться – ни Сергею, ни Тане.
– Да есть ли они сами?
– Сергей! – неожиданно громко позвала Тамара.
Молодой монах в желтом укоризненно обернулся. Он прижал палец к губам и не спеша, бесшумно ступая по гладким шахматным плитам, подошел к нам. Присел на корточки. Возвел глаза и руки к далекому куполу. Неожиданно деловито спросил:
– Where are you from?
– We arrived here from Russia, – ответил я, радуясь случаю поговорить по-английски, который я знал нетвердо – иначе говоря, badly.
Монах повел себя странным образом. Он неожиданно выпрямился, отскочил, затем наставил на нас пальцы автоматом-пистолетом.
– Тра-та-та-та! – изобразил автоматную очередь.
– No, no! – заторопилась Тамара. – Not at all! Russia is not war. Russia is peace!
Монах вскинул костистую стриженую голову к уходящей вдаль храмины горе и указал нам на нее. Затем опустился на корточки и погрузился в свои медитации или во что там еще, во всяком случае, мы для него больше не существовали, хотя ты заговорила несколько повышенным тоном, явно надеясь привлечь снова внимание молодого монаха.
– Вот как здесь о нас думают.
– О них, не о нас, – поправил я.
– Не в этом дело, просто для них мы тоже определенный стереотип, – возбужденно продолжала Тамара. – Но как им объяснить, что всеми своими медитациями они не достигнут того, чему мы с тобой научились, и так легко. Любовь – вот ключ ко всем тайнам.
– Или нас с тобой этому научили, – поправил я.
– Кто?
– Может быть, Он, – я показал на Спящего.
– Мы меньше, чем ничто, мы Ему снимся, – задумчиво произнесла ты.
– И чувство наше… Возможно, тоже – Его воображение…
– Нет, оно принадлежит только нам, – твердо сказала ты и сразу переменила тему. – Смотри, они уже дошли почти до конца. Идем посмотрим на пятки Спящего.
Пятки, действительно, были великолепны. Они торчали перед нами, как две памятные плиты, колоссальные ступни черного дерева с перламутровой инкрустацией. На пальцах – дактилоскопические узоры: на каждой подушечке – красная спираль. Разматывается в бесконечность: нарастание, преображение, повторение. На подошвах были изображены картины человеческого бытия. И все мы, перед ними стоящие, боялись нарушить гулкую тишину, понимая, что все это про нас.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Мне было немного досадно, что монах так небрежно отнесся к нам. Андрей, как всегда, не понял, не врубился. И сразу пропал для меня. Я уже не могла говорить с ним, его просто не стало, рядом со мной шлепало войлочными тапочками по плитам пустое место. Я из вежливости поворачивалась к нему, что-то односложно отвечала. Из пустоты дуло разными умными словами. Но здесь я могла размышлять только о главном. А оно было перед моими глазами.
1. Вот сидят мои мать и отец за обеденным столом. На тарелке перед ними лежит сияющее яйцо. Окно забрано решеткой. Снаружи в него заглядывают дикие лица.
2. Вот мои родители сидят в гнезде, опутанном колючей проволокой, между ними птенчик с моим личиком, можно узнать.
3. Вот горящее дерево. Сами ветви его, похоже, из колючей проволоки. На дерево падают бомбы. Ангел схватил за шиворот моих родителей и выхватил их из гущи веток, они сопротивляются и дрыгают ногами в воздухе. Мама прижимает птенчика к груди.
4. Отца ангел уронил, и он с криком исчезает в пламени. Кто-то говорит: «Сводка по медчасти. Сактировать».
5. Меня и маму перенесло на дачную клумбу. Мама положила меня среди пышных подмосковных пионов. Я уже не птенчик, и цветы осыпают бордовыми и белыми лепестками мечтательную худую девочку.
6. Под высокой сосной мы, дети в белых халатах, считаем падающие сверху шишки и складываем в высокие кучи. Кучи шишек растут. Кто-то говорит: «Замуж пора».
7. Я и какой-то – дыбом волосы смотрим на яйцо, сияющее на тарелке посредине белой скатерти. Вид сверху.
8. Дыбом волосы в ярости бросает яйцо на пол. Оно разбивается. Я плачу. Кто-то говорит: «Старая сказка. Уезжай. Сохрани хотя бы себя».
9. Я убегаю от самой себя. Я маленькая в ужасе бегу по лугам и горам от большой себя, к тому же вооруженной большим ножом.
10. Догнала и зарезала себя без жалости. Меня судят. За судейским столом кто-то знакомый. Говорит: «Виновна, но достойна снисхождения». Узнаю, судья – тоже я. Отпустили на поруки. Самой же себе. Зарезанной.
11. Длинная очередь. В горе – дыра. Там фабрика. Откуда столько каолиновой глины? Кто-то говорит: «Перемолоть». «Надо ей сначала Сингапур показать, – возражает кто-то. – А если и тогда себя не сохранит, вылепите из нее ночной горшок и разбейте его без жалости».
12. Херувим с восемью крыльями, множество очей по всему телу, берет и несет меня по синему небу на остров небоскребов.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Перед торчащими ступнями Спящего столпились почтительно и недоуменно. Шли, шли вдоль великана – и в конце пути вот такие непонятные изображения.
Тамара уставилась, как в трансе (знаю я это ее состояние: глаза-точки), на концентрические круги и геометрические фигуры, начертанные на пальцах. Они напоминают картины и мобили, которые выставляла группа «Движение». В свое время Тамара рисовала нечто подобное, я помню ее синие и красные солнца на вернисажах подпольного искусства. До сих пор помнят художники ее взлет, а она, как села в инвалидное кресло, стала делать эскизы для фарфора и тканей. Я и сам тогда писал стихи, непонятные самому себе. Знатоки говорили, что стихи мои написаны в духе и стиле герметизма. Но их никто не печатал, надо было зарабатывать на жизнь и вообще определяться, общество было жестким к инакомыслящим, я устроился работать в газету и даже начинал находить особое удовольствие ночью просматривать еще не просохшие, с липнущим к пальцам оттиском, свежие листы. Мой товарищ по лито Иванов-Петренко, сатирик, говорил: «Добро века ты променял на злобу дня».
Между тем концентрические круги медленно вращались и затягивали меня в глубину, неуклонно ускоряя свое движение. Я падал, кружась по спирали все теснее и тесней. И наконец очутился в неопределенном пространстве, где все фигуры колебались, изменяясь и расплываясь. Как будто нас кто-то рисовал, не вполне уверенный, что именно хочет нарисовать.
1. Надо мной наклоняется большое сердитое лицо отца, которое переплывает в оскаленную морду овчарки. Но это морщинистое лицо нашей бабушки в белых буклях.
2. Бабушка-овечка злобно говорит: «Нас всегда воспитывали и закаляли. Мы и зимой ходили с голыми ногами по Тверской. А ты не хочешь есть манную кашу всем нам на радость».
3. Мама насильно всовывает мне в рот непомерно большую ложку, которая раздирает мне губы: «Ешь, сыночек, ешь! Это тебе полезно». Каша горячая и обжигает мои внутренности.
4. Меня моют в корыте. Чьи-то жесткие неумолимые руки. Я не хочу, не хочу. Едкое мыло разъедает мои глаза. Подняв голову, вижу вместо родных лиц грубые будто прокопченные черты прачек. Прачки поют хором: «Будь мужчиной! Будь мужчиной!»
5. Я скольжу по волнистой стиральной доске и скатываюсь в бассейн. Там на меня набрасываются толстые голые женщины. Со всех сторон – груди, руки, ноги, губы, залепляющие мне свет. И все кричат: «Мы твои мамочки!» Еле вырвался. Где я теперь?
6. Мы сидим амфитеатром – монахи. На кафедре красивая женщина. Кричит резким голосом Гитлера. Мы поднимаемся и выходим вперед. Корчимся и подпрыгиваем. Голос подстегивает нас, как хлыст. Выходит из‐за кафедры голая в высоких сапогах, неужели мама? Она обнимает меня – вся прижимается. «Будь мужчиной, сынок». От волнения теряю сознание.
7. Очнувшись, понимаю, что держу в руках большую деревянную винтовку образца 1891 года. Мы идем строем, рассыпаемся цепью в парке, бросаем деревянные ярко раскрашенные гранаты. Нами командует какой-то парикмахер с полуседой щетиной. Мне становится так хорошо, как не бывало никогда прежде. Меня никогда не убьют. Меня убивают.
8. В гробу меня бреют. Мой командир в белом отутюженном халате, заботливо склоняясь и придерживая двумя пальцами мой заостренный нос, намыливает мои щеки и снимает хлопья белой пены опасной бритвой. Слышу голос: «Теперь наконец ты станешь мужчиной, сынок».
9. С изумлением смотрю на малыша, которого показывает мне незнакомая женщина. Я, оказывается, сам отец. А это моя жена. Она передает мне ребенка. Неожиданно он вцепляется мне в лицо, раздирает с нечеловеческой силой. В ужасе отбрасываю его. Не хочу быть мужчиной.
10. Я убегаю. Моя жена и мой сын – этот, выпутываясь на бегу из пеленок, гонятся за мной. Прячусь в неровностях земли.
11. Совсем угнездился в ямке. Я такой маленький, что меня можно принять за мышонка. Я всегда знал, что я мышонок.
12. Сверху опускается хищная тень. Когти обхватывают меня и поднимают в высоту. Кто-то показывает мне города и дороги. Столько вижу людей, что не в силах с этим примириться. Летим над океаном. Вдали светится остров небоскребов. Все ближе, ближе…
Восемь штук медных накладных ногтей в пакете сунула мне в руку пожилая быстрая женщинка. Мы толпой вышли из ворот. Я показал их Тамаре. Она засмеялась и отрицательно покачала головой. Я отдал пакетик продавщице. Но она тащилась за мной вдоль крепостной стены к автобусу и настойчиво убеждала меня: «Ван доллар! Ван доллар!»
Улучив удобный момент, настырная торговка снова вложила пакетик в мою руку. Как не купить, тем более что с этих медных ногтей начинается наше повествование.
Вокруг кричащие гомонящие мальчишки осаждали туристов. Медные колокольчики, открытки, грубые деревянные статуэтки, мечи в резных деревянных ножнах. Туристы смущенно отбрыкивались и лезли в автобус. Мальчишки не унимались. Они чертили пальцами на стекле цифры, просовывали деревянные мечи в открытые двери автобуса. Всюду сверкали черные глаза этих сингапурских цыганят. «Действительно, подумал я, правду нарисовали мне пятки Спящего, всем от всех что-то надо в этой жизни. Вот и мне навязали медные когти, которыми я могу только царапать свою тетрадь вместо авторучки».
На душе было смутно. Да и Тамара была неразговорчива. Куда делись Сергей и Таня, я не понимал. Но кое-что подозревал все-таки.
Когда мы выходили из соседнего индуистского храма, по обеим сторонам нас провожали изваяния двух демонов: красный и синий. Женственно изгибаясь, обе фигуры будто текли всеми своими чертами. У красного демона волосы стояли дыбом. А синий, воздев руку, длинным неестественно изломанным пальцем указывал на рельеф, идущий по верху стены. В разных ритуальных позах садились друг на друга и сплетались мужчина и женщина, пухлые и похожие, как близнецы. Это были явно Танины картинки.