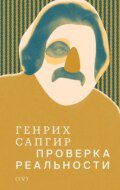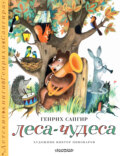Генрих Сапгир
Собрание сочинений. Том 2. Мифы
«следы снежного человека…»
следы снежного человека
следы собаки
следы шин
СИНГАПУР
мини-роман
Бабочка в полете —
Тысяча крылышек —
Одна душа.
(хокку – XII век)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Длинная трубочка, свернутая на конус из тонкого листа латуни. На конце отогнутый назад коготь. Надела на палец и стала таиландочкой. Глаза газели улыбнулись – пощекотала мне подбородок, слегка царапнула. От тебя и пахло теперь по-другому: чем-то пряным, сладким, гнилостным. Кругом по-прежнему стены, пестрая мебель. В белом окне уходит вверх зимняя Москва, будто она такая узкая и – в горах, крыши над крышами, напоминает дагестанское селение, вот только купол с крестом золотится. Старая Москва в районе Покровки.
Ты приближаешь лицо почти вплотную. Глаза шире лица.
– Увези меня в Таиланд.
По всему вечернему Бангкоку шляются длинноволосые парни и узкобедрые женщинки, их плоские лица улыбаются. Мы их видим в просвете полураскрытой двери, там, где должен быть коридор, – неестественное солнце. Я беру тебя, легкую, узкую, как таиландку, на руки, усаживаю в твою коляску и вкатываю тебя прямо в Сиам Центрум.
Витрина элегантнейшего магазина: черные шелковые платья, разрисованные рубашки из тончайшего батика, золотые зажигалки, сумочки из кожи питона – ты остановилась пораженная, даже поехала назад.
Снизу – с тротуара протягивает к тебе, к твоим коленям, остро торчащим над выдвижной ступенькой, свои изуродованные проказой руки нищий – полусидит, толстая слоновья пятка вывернута наружу гниющим развороченным мясом. Господи! Там дальше из темной улочки вдруг повеяло чем-то сладким соевым тошнотворным, запахом густым, как соус, – тропиками, Востоком.
Испуганно я потянул кресло назад – через порог в нашу квартиру. Как это у нас получается? Не знаю, мы даже не туристы, обыкновенная женатая пара, москвичи не первой молодости, к тому же у тебя отказали ноги – и мы не можем путешествовать и ходить в походы, как бывало в студенческие годы. Может быть поэтому мы научились попадать в разные места, обычно от нас удаленные, другим способом.
Когда это нам открылось, мне показалось, никакого секрета и особой сложности здесь нет. Механизм прост. Все дело в интуиции. Иногда, обычно в сумерки, мы начинаем чувствовать особую теплоту, тягу друг к другу.
Раньше я брал тебя из кресла на руки, легкая, ты крепко обнимала меня за шею: «Какая у тебя шелковистая гривка!» – и мы оказывались вдвоем на кушетке, на полу, в ванной, где придется. Обычно ты не снимала легкой юбки, просто сдвигала шелковые трусики. Очень скоро мы начинали чувствовать себя одним – единым. И вот это четвероногое и двухголовое существо могло оказаться где-нибудь на песке у моря или на крыше нью-йоркского небоскреба, например. Нас пугали сначала такие мгновенные и странные перемещения. Открываешь глаза, а ты где-нибудь в пойме Амазонки. Скорей, скорей отсюда, в жидкой грязи уже плеснуло хвостом и задвигалось… Ну, не мешкай! – где ты? – скорей уноси нас…
И вкидывает нас обратно на холодный пол нашей кухни. Или на клетчатый плед. В общем научились перемещаться по желанию, хотя и не совсем. В последнее время все больше Сингапур нам показывают или в Таиланд заманивают. Пожалуй, ни я, ни моя жена не протестуем, хотя каждый раз это случается неожиданно и не всегда во время нашей близости. Что-то там меняется в таинственном механизме, работающем с нами и в нас, но пока что ничто не угрожает.
Глаза твои заслоняют все. Узкие смуглые руки обвивают меня. С карниза вдоль окна свисает толстый ярко узорный удав.
Головка его покачивается и тянется к нам. В кресле мой смятый халат, поперек ворсистой ткани сползает узкий пояс, нет, это бледная ядовитая змейка. На комоде, на столе, уставленном темными фигурками и цветами, сбоку на полке и в алтаре – всюду свернулись, повисли, дремотно раскачиваются в сизом дыму курений ядовитые гадюки, кобры. Ароматный дым постоянно погружает их в полусонное состояние. Одна лениво скользит плоской головкой по длинному телу своей подруги.
Служитель сказал, что можно потрогать. Опережая тебя, провожу пальцем вдоль плоской черепушки, змея на ощупь зернистая сухая – точь-в-точь кошелек из змеиной кожи. Чувствуя нажим моей подушечки, она медленно приподняла голову и уставилась на нас тусклыми бусинами. Мы замерли. Ничто, буквально, пустота смотрит на нас, раздумывая, ужалить или все равно. Или все равно ужалить.
Благородная смерть поползла вниз, серый поясок от твоего китайского халатика, сползает на колесо коляски.
Но внизу вокруг медных кронштейнов с пучком курительных палочек лежат куриные яйца, и змейка передумала. Стремительно скользнула туда – и вот уже ее головка (пятна и глазки как нарисованные) натягивается на смуглый овал яйца, как чулок.
В другом зале Змеиного храма фотографируют туристов. Я медленно вкатил тебя туда, бритый молодой монах склонился смуглым выбритым до синя затылком с ложбинкой, приглашая нас к змеиным объятиям – запечатлеться. Вдруг я окаменел. Тощая всклокоченная американка яростно хохочет всеми крупными яркими, верно, вставными зубами, руки, шею и волосы обвивают змеи, настоящая Медуза Горгона. Вокруг сверкают молнии – в три блица ее фотографируют спутники. Будет что показать дома где-нибудь в Алабаме на воскресном пикнике.
Другой монах в красном – он протягивает к тебе сразу двух удавов, они ползут к тебе по воздуху и уже готовы обвиться вокруг твоих гладких темных волос. Неожиданно вся содрогнувшись, ты уклонилась от змеиных ласк и объятий. И я вспомнил: узкая, гибкая ты принимала меня, втягивала по-змеиному – и уже в памяти растягивающаяся головка гюрзы, надетая на куриное яйцо. Видимо, ты вспомнила нечто подобное – окружающее затуманилось и механизм сработал, иначе выразиться не могу.
Мы не спеша двигаемся, скользя друг по другу, я – по твоей спине, срастаясь и разъединяясь, ты разрастаешься вокруг, и теперь уже совсем – пряный куст с желтыми цветами, в который проваливаемся мы оба…
Прозвонил телефон. Рядом с нами – на постели. В белой раме белая Москва в высоту.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Весной я научился уходить один. В кармане у меня лежал магический предмет – хрустальная пробка. Я выходил из дома, будто бы за сигаретами. Ненадолго. Иначе были бы расспросы: куда, зачем, почему она не со мной, можно взять такси, если далеко. Шел по улице, там она могла меня увидеть, просто уходил в глубину двора и дальше – выломанный железный прут в ограде.
На пустыре среди гаражей я присаживался на длинной скамье, будто обглоданной каким-то чудовищным животным, перед четырьмя столбиками – прежде это был стол. Вынимал из кармана хрустальную пробку – она вспыхивала на солнце. И, поворачивая ее, медленно, всеми гранями, погружался в это мерцание – в транс.
На лужайке перед храмом стоящего Будды играли дети. В быстро сгущающихся сумерках Будда глядел с высоты. Плоское золотое лицо его было непроницаемо. Он стоял, прислонясь к наружной стене храма – голова выше храма. Желтый плащ паломника ниспадал вниз крупными складками. Детские голоса одиноко и пронзительно перекликались в сиреневеющем воздухе. Стриженая склелетообразная нищая лежала на каменных ступенях ничком.
В пролом от нашего дома выскочила черная собачонка, за ней следом вышел пожилой усатый (Я давно заметил: похож, похож на меня, – не на меня, с которым происходит, а на меня, который наблюдает). Конечно, он не видел ни храма, ни стриженой, иначе он не наступил бы на алюминиевую миску и не прошел бы сквозь простертое в молитве тело, да и в гранитные ступени он погружался почти по колено. Бегло кивнув мне, усатый свистнул собаке. Но меня здесь уже не было.
Между тем черненькая собачонка видела все отлично. Она остановилась, нет. Не пошла в стену. Усатый посвистел еще раз. Собачонка не посмела ослушаться: она обогнула нищенку и побежала вверх по ступеням к резной двери. Со стороны это выглядело так, будто собака плывет вверх по воздуху. Ошеломленное лицо хозяина застыло маской вне времени. Псина непринужденно спрыгнула с каменного крыльца на землю. Оглянувшись на меня (но меня здесь действительно не было), она подняла заднюю ногу и окропила незримый храм. Усатый решил: с ним что-то не в порядке, привиделось вроде. Я же вот тут был у железных баков. А меня здесь нет, я там. Да и что мне здесь делать, если я не гуляю во дворе со своим кокером. А нахожусь совсем-совсем в другом месте.
Передо мной мутно-желтая вода, в которой плавают широкие листы лотосов, кокосы, шелуха от бананов, смятые стаканчики из пластика и всякий легкий мусор. Я двигаюсь в лодке-катере по узкому каналу. Вокруг возникают жилища-шалаши на сваях под пальмами.
Жизнь вся наружу. На полу сидит женщина в чем-то синем, цветастом и рассматривает себя в ручное зеркало. Как у Гогена.
Стриженый костистый старик-таец, рядом дог мышиного цвета – оба стоят на помосте, надолбы которого купаются в воде. Старик улыбается мне всеми морщинами и кланяется, дог мрачно глядит. Мимо проплывает черный пустой кокос.
Мы пристаем к плавучему супермаркету. Здесь большеголовый слоненок, привязанный за ногу цепью, бестолково мотается в толпе туристов. Хоботом чистит бананы и отправляет их в рот. Я погладил его. Кустится жесткая шерсть – живое.
Сухой седой англичанин посадил себе на голову мохнатую обезьянку, что-то ласково говорит ей и щекочет ее шею. Обезьянка нежно обнимает его и осторожно целует. Она сидит на седой голове, как розовая пушистая шапка-ушанка.
– Монки, монки! – позвал я. – Хочешь апельсина? А банана? А яблока?
И тут случилось совсем неожиданное. Обезьянка прыгнула. Мою голову обволокло пушистое тельце. Маленькие коготки вцепились в мою шею. Я взмахнул рукой, чтобы согнать ее. Больно! Мартышка не хотела слезать. Со мной творилось что-то странное, почти непристойное. Слоненок тянул меня за рукав своим мягким и настойчивым хоботом. Я заскользил по мокрым доскам и даже осознать не успел, как мы опрокинулись в темную воду. Сразу ослепило.
Потом я увидел, что мы оба барахтаемся у помоста: я и слоненок, на голове моей, вцепившись мне в волосы, визжит розовая обезьянка. Рядом плещутся волосатые кокосы и пластик. Сверху тянутся руки, наклоняются лица. Но я не могу дотянуться, не могу закричать, я захлебываюсь, потому что шею мне обвивает не то пятнистая вода, не то толстая анаконда. Это неправдоподобно, но я видел такую в питомнике или где там их разводят… Господи, даже позвать на помощь не могу… Может быть, это сон или кино, но уж слишком все натурально… Затягивает в глубину. Так приятное превращается в гибельное ужасное… И так непоправимо… Там, дома, даже и не узнают, где и как я погиб – нелепо и случайно…
Все-таки я выплыл или меня вытащили из очень теплой и мутной воды. Слоненок выбрался сам. Но я уже не видел, чем все это кончилось. Потому что бежал через закатный двор к нашему дому. Вода текла с меня ручьями. Черная собачка кидалась и яростно лаяла на меня, чуя, видимо, запах гнилых фруктов и курительных палочек и не понимая, откуда я сейчас появился. Усатый хозяин ее, к счастью, разговаривал с дворничихой, которая опять что-то мела. Что они все время метут, ведь во дворе если не постоянная пыль, то грязь и лужи. Ну, прямо как там в далеком Бангкоке.
Я уже входил в свое парадное, кто-то ухватил меня за мокрый пиджак. Я обернулся: давешний слоненок – совсем близко, маленькие глубоко сидящие глазки, честное слово, улыбались.
– Привет.
– Привет, – повторил я машинально.
– А я к тебе, по поводу статьи, кутьи и тому подобной галиматьи…
– Послушай, – растерянно пробормотал я. – Почему ты не там, а здесь? И что за дикость затягивать хоботом и топить в гнилой воде?
– Что ты имеешь в виду? В воде, в виду или в аду? – недоумевал слоненок. – Я пришел, чтобы посоветоваться. И в журнале я тебя не топил, а наоборот…
В сером животном постепенно проступали знакомые черты: маленькие глазки, низкий широкий лоб и жесткая щетинка волос. Я сделал над собой усилие. Господи, это же Сергей из «Триумфа»! Действительно, пришел ко мне посоветоваться, как и что ему писать насчет нашей давнишней литературной группы «Конкрет».
– Да, да, конечно, – заспешил я. – Я знаю твое отношение к нашему кружку и с удовольствием тебе помогу.
– Где это ты под дождь попал?
– Дворник случайно окатил. Да ничего, надену сейчас сухое, – на ходу придумал я. И стряхнул незаметно кожуру пахучего плода с рукава, зацепилась кожистыми колючками.
Мы поднялись в мою квартиру.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Всю ночь мне снились простодушные промытые до костей бело-розовые старушки-американки среди белых и серых непроницаемых великанских ступ и на каменных ступенях широкой лестницы в резиденции короля Рамы Пятого.
А наутро ты страшно разозлилась на меня, просто вся изжелта побледнела. Как тайка или китаянка.
– Ты был там!
– Вовсе нет.
– Не ври мне. У тебя рубашка пряностями пахнет.
– Может, от прошлого раза.
– А это тоже от прошлого раза? – и она протянула в узкой ладони смятый белый цветок.
– Так получилось, извини, – соврал я, то есть он.
Она отвернулась.
– А как же я? Как же мы? – сказала она в стену. Ноготь раскорябывал след от гвоздя.
– А мы всегда, когда захотим, – ответила стена, то есть царапина от гвоздя. Потому что, когда она была в ярости, я для нее уже не существовал.
– Сейчас. Иди ко мне, – прошептала она стене.
И стена подняла ее на руки и уложила на ковер. Потом стена сама легла на нее – углом между ног. Было непривычно больно.
– Я сама, – сказала она глухо и подняла ноги, чтобы стена вся вошла в нее.
Луч солнца коснулся темных волос, но это был прежний зимний луч. Они лежали обессиленные. Обещанной близости так и не наступило.
Перелет не состоялся.
– Прости, просто я был там слишком недавно, – прошептали руины. Но и она была не в лучшем положении. Гладкая пластиковая головка. Что могла ответить руинам кукла!
Впервые в ее головке зародился простой и коварный план. Кукла еще не знала сама, что уже решила привести его в исполнение. Я, вернее он, из нее выветрился.
– Попробуем еще, – сказала кукла Тамара из вежливости, снова отвернувшись к стене.
Но стена обрушилась. Там была дыра. Из дыры дуло. Дыра что-то невнятно говорила, обещала, уговаривала. Даже пыталась приласкать. Но как может приласкать отсутствие чего-то. А здесь было отсутствие всего, только голос, раздражающий своим вкрадчивым тембром. Кукла Тамара еле могла дождаться, когда голос удалится и смолкнет совсем. Но наступило и это – ближе к вечеру. Не хлопнула входная дверь, как обычно, будто выругалась коротко и грубо, никто не звонил. Просто вдруг в квартире ощутилось его отсутствие.
«Уйду один!» – обиженно-раздраженно подумал я, то есть какой-то посторонний во мне. «Уйду совсем». И ушел. Даже из собственной памяти. Потому что не хотелось мне ни вспоминать, ни думать, ни понимать все, что произошло между нами.
Тем временем личинка ярости, досады и непонимания совсем окуклилась. Освоившись в своей новой хитиновой броне, куколка Тамара сняла черную эбеновую трубку и тоненьким голоском попросила Сергея. Скорая помощь приехала действительно очень скоро – наверно, взял такси.
– Андрея дома нет, – сказала кукла.
Сергей удивился и стал похож на Андрея.
– Возьми меня на руки и покажи мне Бангкок. Я сама не могу, видишь. Не бойся. Нам будет хорошо.
Сергей заморгал, как Андрей. Но протянул руки и вынул куклу из инвалидного кресла.
– Переложи меня на кушетку, – командовала кукла. – Наклонись ко мне. Ближе, ближе.
Вблизи он был страшно похож на Андрея. И Тамара поняла, что все должно получиться, хотя риск был.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Солнце прожигало огромные вечерние купы деревьев – лучи сквозь черную листву падали на скопление джонок и баржей, в которых жили семейства рыбаков, уличных торговцев, вообще бедняки. На шоссе рычали и взревывали моторы без глушителей. Бензиновый чад подымался в желтое небо Бангкока.
Я свернул в одну из узких улочек, в конце которой остановился туристический автобус. Туристы, по виду европейцы, толпились возле. Я не спеша подошел, будто гуляя, и встал рядом, на меня посмотрели, но ничего не сказали.
Гид – пожилой исчерна-тощий индус сказал:
– Now we look around the temple of China.
К храму шли через двор. По обе стороны были склады, жили люди. Женщина на камне чистила ножом рыбу. Гараж велотакси. В полутемной длинной комнате дремали синие и красные повозки с велосипедами.
Дальше жила выдра. Длинный серый с темной полосой вдоль спины зверек лежал на крыше своего домика. Что-то от кошки. Тело зверька перепоясывал кожаный ошейник с цепочкой. Внизу в глубокой цементной канаве поблескивала проточная вода.
А тут жил храм. Причудливо изогнулись зеленые драконы и лапами когтили белесое небо. Позолоченные львиные морды, яйцеобразные головы старцев с лукавыми щелочками, изгибы, извивы, завитушки, финтифлюшки – яшмовая пена направленной фантазии: мгновение – вечность. Отрицание времени.
Двигались мы или не двигались. У входа стояли два гранитных стершихся от времени круглых китайских льва. В пасти каждого свободно катался каменный шарик (шар в шаре!). Некоторые сунули руку в пасть и покатали – на счастье.
Гид продолжал бодро рассказывать: «Европейский человек представляет счастье так: любовь, деньги, свобода. Мы – иначе» —и он показал на расписанную фресками стену.
Плоский китаец, сидя на корточках, слушает флейтиста и смотрит на гейшу, изящно прислонившуюся к декоративному дереву. Другой дремлет, облокотившись на стол. Третий блаженно почесывает себе спину деревянной чесалкой. Четвертый ест рыбу.
– Всё это – счастье. Особенно – почесать себе спину. – Гид нас явно старался развлечь. – А знаете, какие самые нежелательные вещи на свете? Жить в японском доме. Получать зарплату, как китаец. И быть женатым на американке.
Между тем все незаметно для всех изменилось. Мы – туристы поднялись в воздух и распределились по стенам.
Один старый американец – седые волосы заплелись косичкой – слушает гида, присев на корточки среди круглых, как булки, облаков, и любуется молодой блондинкой в очень короткой юбке. Та вся выгнулась по изгибу стены, прислонясь к декоративному дереву, высокие ноги сжаты. Лысоватый провинциал (неизвестно откуда – все равно провинциал) задремал, облокотившись на стол. Двое молодых супругов – немцев почесывают друг другу спину деревянной чесалкой. А я ем рыбу. И откуда она взялась! Полусырая. Вкусно и странно. Но это же японская пища, насколько я понимаю!
Посредине храма стоит небо.
Несколько святых старцев с ореолами над яйцевидными кумполами благожелательно рассматривают свиток, на котором нарисованы две рыбки – одна головой к хвосту другой, капля, круг. Старцы неслышно хихикают, щелочки лукаво блестят, будто видят нечто приятное и смешное.
И я понял, мы – две забавные рыбки, одна головой – к хвосту другой. И все наши выпадения в этот мир и возвращения – одна капля. И никуда мы не уходим, и ни от чего мы не уйдем. И поплыл выше по своду, чтобы уйти хотя бы от этих насмешливых мудрецов. Туда в синий дым нарисованного неба. Мне ужасно захотелось тебя увидеть. Чтобы вместе, чтобы как эти две рыбки… неважно куда… Переворачиваюсь – теперь храм наверху – и ныряю в самую синь…
Тут я и оказался у себя, вот и окно – в стоящее дыбом Замоскворечье. Фонари лучатся на темном закате. Весна.
В глубине квартиры – в приотворенные двери было видно отражение в зеркальном шкафу: ты лежишь на кушетке навзничь, между твоих ног и тебя обнимаю… я! Вот и мой лысоватый затылок, темные волосы – даже гривка видна, и ковбойка, и спущенные джинсы…
Но тут же отражение в зеркале затуманилось – и мы исчезли, оставив меня одного в полном недоумении.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Все в нашем кругу говорили разное, а думали только о себе и поступали так или иначе только для себя, поэтому эффект получался самый неожиданный. Мы были близки, что называется, поневоле, впрочем, давно привыкли к этому. И общались после всех наших душевных выплясываний, после обид и долгого замирания – не появления, как ни в чем не бывало.
Вот она в берете, который никогда не снимает. Сидит на диване перед нами, на низком журнальном столике – бутылка. Бледная колбаса и желтое масло. Она тянется вилкой к очередному ломтику, острые колени высоко подняты, юбка ползет вверх – приоткрываются плоские бедра с синими отметинами. Она увлеченно рассказывает о последней выставке, впрочем, нет, она рассказывает о замечательном молодом священнике, который понимает (вы представляете!) в современном перформансе.
Она всегда рисует картины перед моим умственным взором. Вот и сейчас. Я вижу, она (Таня) сидит на коленях этого молодого священника, скрестив длинные худые – позади его, он – в одном белье, таком вязаном грубом, она голенькая, но в берете, и прижимается грудками. И как ей от бороды его не щекотно! Обняв ее худенькие полушария, он ерзает под ней. Оба тяжело дышат. Ничего себе, перформанс.
Подобные картины она мне показывала часто и прежде – со всеми моими друзьями, признаюсь, и со мной тоже. Я, правда, ей не говорил, что вижу. Но она понимала, она всё понимала. Вообще-то она пришла к моей жене. И мне приходилось что-то врать насчет того, что Тамара спустилась вниз, что кто-то что-то тем более срочно…
– Да она из дома обычно без тебя не выходит! – удивляется Татьяна. И смотрит сквозь меня своими острыми карими глазками. Я делаюсь стеклянный. И мне неловко и как-то хрупко.
– Она с моим двоюродным братом, – изворачиваюсь я не очень умело. Она смотрит на меня так, я совсем таю в воздухе. Но что-то, видимо, остается. – У меня есть брат, очень похож, просто не различишь, художник по костюмам. Она поехала с ним на вернисаж. (Брата я только что придумал, но вдруг понимаю, что он у меня есть, просто мы давно не общались.)
– И на все вернисажи она с тобой ездит. У вас что-то происходит, признайся. Вы – такие домоседы. А теперь и не приглашаете. Никто даже трубку не берет. Куда вы все деваетесь? – допытывается дотошный беретик. Крупная родинка на левом крыле довольно милого носика вызывающе уставилась на меня.
Теперь она показывает мне такую картину: здоровенный пожилой дядька насилует ее сзади прямо на полу. И написана эта откровенная непристойность широкими смачными мазками. Мазня. Я все-таки беспокоюсь: ведь я, пожалуй, знаю, куда девалась Тамара, но где же теперь я? По всем физическим законам я не могу быть сразу в двух местах. А вот она – беретик – видимо, может. И может быть, попробовать выяснить, кто это был… Может быть, действительно, Игорь… . Чушь… – я вздыхаю.
– Что ты меня поймешь, я не сомневаюсь, – продолжаю я неуверенно. – Но все-таки надо нам объясниться. Мы все, во всяком случае, кое-кто из нашего кружка, живем в неопределенном времени и месте. Мы теряем себя и находим в самых неожиданных местах. И все отделываемся шуточками. Но мы уже достаточно об этом говорили – говорю я этой, глядя на ту, которая задыхается под здоровяком, смуглым, волосатым и совершенно лысым.
– Ты уже давно говоришь, как пишешь, и пишешь, как говоришь. Но это что-то новенькое. Ну, выкладывай – беретик смеется глазами. Но я вижу, что посерьезнела и собралась. Потому что вставила неприличную картину в массивную золотую раму и куда-то задвинула.
– Ну вот еще – информация к размышлению. В свое время, и ты тоже, учти, мы все дали обещание Абсолюту достигать высот и падать в глубины без лекарств и наркоты. Чтобы без насилия над природой. Но не без того, что ты мне сейчас показала.
– Но это же просто фон, – усмехнулся беретик не знаю чему.
– Скорее всего ты мне показываешь свои мысли, но бог со всем этим. В первое время мы собирались и рассказывали о новых ощущениях. О сыром дуновении весны хотя бы. О том, как на глазах разворачиваются в почках зеленые новорожденные. Такие свежие. Будто клеем смазанные. И пахнут так, что улетаешь.
– Это ты о себе, учти.
– А потом вы все стали приходить к нам все реже. Никто ни о чем не рассказывает. Никого нигде нет. Поостыли. И мы тоже. Но, признаться, у нас с Тамарой появился Сингапур.
– У нас у каждого свой Сингапур.
– Нет, нет, мы не стали снова баловаться. Ни ЛСД, ни жидкий героин, ни кристаллический, ничего подобного. Сначала мы улетали, когда мы были вместе. Но недавно я научился уходить один.
– Мастурбировал?
– Вроде того. Воображал.
– Ну и сильное у тебя воображение.
– Не ярче твоего. Развлекаешься.
– Видят и глазам не верят, ну это кто видит… Вот ты, например.
– А теперь…
– Теперь она ушла одна. Это ясно.
– В том-то и дело, что не одна. Со мною. Я сам себя видел.
– Не брата?.. Нет, все-таки ты пачку номбутала сжевал. А что, бывает. Спрятался сам от себя и употребил. Как старый пьянчужка.
– Таня, ты – нам близкий человек. Серьезно. Ушла она, будто бы со мной. Уже поздно. Целый вечер нет. Может быть там с нами случилось что-то. Хотя что я говорю! Я здесь. Можешь меня потрогать.
– Но ты же видишь… – беретик абсолютно серьезен.
– Да, ты умеешь создавать среду.
– А что же ты не последовал за ней? Ведь ты умеешь.
– Не очень-то приятно столкнуться с самим собой нос к носу. К тому же я не уверен…
– Я думаю, куда ей деваться, в Сингапур отправилась. Ну, мы тебя найдем, подружка – и Татьяна хлопнула полную стопку. Пила здорово, вровень, как говорится. И ничего.
– Водка не помешает, – снова остро глянула сквозь. И засмеялась, будто увидела нечто забавное за моей спиной.
– Да тебя я увидела. Тебя. А теперь смотри, со стула не слети.
На ковре я увидел себя – на Татьяне, голой в одном беретике. Как в зеркале, не совсем в зеркале. Там у той Татьяны губы были, как накрашенные. Бесстыдные. Над моим плечом они извилисто улыбались. Я видел, мне было хорошо. Мне. Действительно. Было. Хорошо. Она извивалась, как ящерица. Я еще успел подумать со стороны или будто со стороны: «Почему у меня с ней ничего не было? Что нам помешало? Она такая магическая, она – совершенство».
– Ты горячий, как лошадка, – говорила та Татьяна, поглаживая его, то есть меня, по обнаженной спине.
– Слушай, а ты – я тебя так чувствую… – и не успел я это сказать, как почувствовал, вернее, он почувствовал, да и вы все, мы почувствовали…
Плывет, поворачивается белый мраморный Будда с алыми губами. Губы неуловимо улыбаются, почти порочно. Из-под мягких век белый зрачок – в себя. —
И закатный свет – у входа, дворик, зелень, деревья. Я еще не Он. Но я уже почти Я. Я – символ, знак, колесо вечного движения. В пустоте полудня рисую свой иероглиф, который вписывается в вечно живую книгу космоса. Кто-то сказал. Я ответил. Кто-то сказал? Я ответил? Всё кончилось.
Мы вышли наружу. Храм был тридцатых годов этого века. Для туристов ничего особенного. Колониально-выставочный стиль. На белом фасаде – три красные свастики.