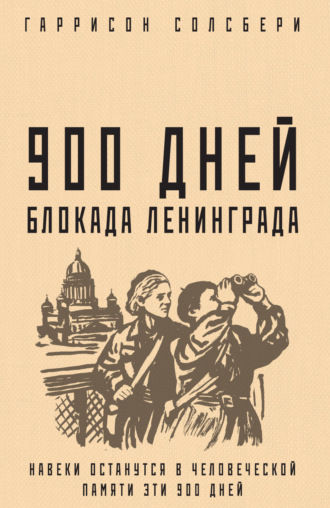
Гаррисон Солсбери
900 дней. Блокада Ленинграда
Когда русские дипломаты выходили из кабинета, Риббентроп догнал их; торопливо, хриплым шепотом, бессвязной скороговоркой прозвучали его слова: «Передайте Москве, что я был против нападения».
Они вышли на улицу. Было уже совсем светло. Защелкали фотоаппараты, стрекотали кинокамеры. Вернувшись в посольство, они пытались вызвать Москву. Четыре часа ночи (в Москве 6 часов утра). Телефонная связь прервана. Пробовали отправить посыльного на телеграф. Ему отказали. Но сзади посольства имелись ворота, Бережков проскользнул в них на маленьком автомобиле «опель-олимпия», добрался до главного почтамта, подал телеграмму.
– Москва? – удивился почтовый служащий. – Вы разве не слышали, что произошло?
– Все равно посылайте! – сказал Бережков. – Пожалуйста, сделайте.
Но телеграмма так и не дошла до Москвы.
Что же происходило в Кремле, когда при всех гитлеровских искажениях и уловках война была официально объявлена? Ответить на этот вопрос до сих пор нелегко.
Директива № 1 Наркомата обороны за подписью маршала Тимошенко и генерала Жукова была объявлена лишь в 7 часов 15 минут утра; уже 4 часа шло немецкое наступление. А в ленинградский Главный штаб она поступила в 8 утра. И приказ был сформулирован странно. В нем не говорилось, что фактически Германия и Россия находятся в состоянии войны. Казалось, те, кто составлял документ, вовсе не были в этом уверены. Неудивительно, что советские вооруженные силы были сбиты с толку.
Советским командирам приказали атаковать и уничтожить противника, вторгшегося на советскую территорию, но переходить при этом на германскую территорию запретили. Производить над территорией противника воздушную разведку и налеты можно было, но не более чем на 100–160 километров. Разрешили бомбить Кенигсберг и Мемель, но летать над Румынией или Финляндией без специального разрешения запрещалось.
Если это война, то, видимо, ограниченная. Когда ленинградское командование узнало о запрещении полетов над Финляндией, оно утратило дар речи: ведь уже сбит (один, во всяком случае) немецкий самолет, базировавшийся в Финляндии.
Полковник Бычевский встретил в коридоре Главного штаба начальника разведки П.П. Евстигнеева. Они давно вместе служили в Ленинграде.
– Читал приказ? – спросил Евстигнеев.
– Читал. Как думаешь, Петр Петрович, финны будут участвовать?
Евстигнеев сердито бросил:
– Еще бы. Немцы метят на Мурманск и Кандалакшу, а Маннергейм мечтает о реванше. Их авиация уже действует.
В Москве адмирал Кузнецов нервничал все больше. Уходит время. Две главные заботы – возможность высадки десанта в Прибалтике, в тылу советских войск, и воздушные налеты немцев на военно-морские базы Балтийского флота. Кремль молчит. Это тревожило больше всего. Звонок Маленкова был последним из Кремля. Маленков говорил неприветливо; раздраженно выразил недоверие, когда Кузнецов доложил о налетах немцев на Севастополь. И никаких указаний из Кремля, никаких указаний от наркома обороны. Правда, на собственную ответственность он приказал флотам противостоять нападению немцев, но только «оказывать противодействие противнику» недостаточно. Пора дать приказ вооруженным силам нанести противнику ответный удар как можно скорей и эффективней.
Но даже он, самый независимый из советских командиров, не смел дать подобный приказ на свою ответственность.
«Флот не мог действовать один, – замечает Кузнецов. – Необходим согласованный план и совместные действия всех вооруженных сил».
Он знал, его флоты подготовлены и сумеют достойно ответить на вызов. Но что на самом деле происходит в Либаве, Таллине, на Ханко и на балтийских подступах к Ленинграду?
Настало утро, прекрасное, солнечное, свежее. Около десяти утра. Кузнецов больше не мог ждать. Он сам пойдет в Кремль и доложит о сложившейся ситуации. Улица Коминтерна. Движение небольшое, народу в центре немного, все уже отправились за город. Нормальная мирная жизнь. Иногда лишь стремительно промчится машина, распугивая пешеходов.
И вокруг Кремля тишина. Багряно-красным пламенем горели недавно посаженные цветы в Александровском саду. Дорожки заново расчищены и посыпаны красноватым песком в ожидании воскресного гулянья. На скамейках уже сидели, греясь на солнце, бабушки с внучатами.
Часовые у Боровицких ворот, в парадных белых кителях и синих брюках с широкими красными лампасами, лихо отдали честь, заглянули в машину и сделали знак проезжать. Машина адмирала помчалась по склону, свернула во внутренний двор у Дома правительства.
Кузнецов поглядел внимательно вокруг. Нет машин. И нет людей. Все опустело, тишина. Выехала одна машина, остановилась, пропуская адмирала через узкий проезд.
«Руководство, видимо, заседает где-то еще, – решил Кузнецов.
– Но почему все еще нет официального сообщения о войне?» Где же руководители? Что происходит?
Всю дорогу он размышлял об этом, а вернувшись в Наркомат военно-морского флота, спросил дежурного: «Кто-нибудь звонил?»
«Нет, – ответил дежурный. – Никто не звонил».
Весь день Кузнецов ждал. Но правительство молчало. И молчал Сталин. Вечером наконец позвонил Молотов. Спросил, как дела на флоте.
Что слышал Сталин
Беломраморный с позолотой огромный Георгиевский зал в Кремлевском дворце был переполнен. 31 декабря 1940 года здесь собрались военные. Уже две недели в Москве шло совещание командиров, стоявших во главе армии, эти несколько сот человек обсуждали неотложные вопросы. Командующий Западно-Сибирским военным округом М.И. Калинин вспоминает, что всех тогда волновал один главный вопрос: нападет ли Германия и когда это может произойти?
«Очевидно было, что фашисты спешат, – вспоминает М.И. Калинин, – они все, что могли, делали, чтобы проверить нашу силу».
Официально ничего не говорилось о Германии до самого новогоднего вечера, на котором должен был выступить Сталин. «Он этот случай использует и предупредит, что до войны с Германией, быть может, остаются считаные месяцы», – думали многие командиры. И об этом они тихо говорили между собой, прогуливаясь по дворцовому паркету, разглядывая белые мраморные таблички, на которых золотом были высечены имена георгиевских кавалеров. Георгиевский крест (в Англии ему соответствовал Викторианский крест) был высшей военной наградой в царские времена. Давно пал царский режим, но имена российских героев полностью сохранились.
Вдруг зал охватило волнение. Появился Сталин. Выйдя откуда-то из внутренних помещений дворца, он стоял перед залом и привычно хлопал в ладоши, по русскому обычаю, пока длилась овация.
Наконец аплодисменты стихли, все ждали, затаив дыхание. Сталин загадочно улыбнулся и сказал: «С Новым годом! С новым счастьем!»
Еще несколько обычных приветствий, и, поручив маршалу Клименту Ворошилову вести прием, Сталин ушел. Ворошилов также поздравил всех с Новым годом, чуточку теплее, и на этом прием закончился.
Командиры в недоумении вышли из Кремля. Была снежная ночь. Многие отправились в Центральный дом Красной армии на веселую встречу Нового года – с водкой и таким количеством тостов, что запомнить их способен далеко не всякий.
«Пока, видимо, нельзя говорить об этом», – решили М.И. Калинин и его товарищи. Они больше ни о чем не спрашивали, давно усвоив, что Сталин непостижим и задавать вопросы – занятие не только бесполезное, но часто опасное.
Военное совещание продолжалось до 7 января. Затем командиры менее высокого ранга вернулись к месту службы, а для командиров более высокого ранга проводились военные учения с 8 по 11 января. За этим последовала конференция в Кремле – с участием Сталина и Политбюро. Перед этой аудиторией Сталин на этот раз упомянул о растущих симптомах надвигающейся войны, однако не говорил, когда она может, по его мнению, начаться. Он говорил о возможности войны на два фронта – с Германией на западе и Японией на востоке, о том, что Россия должна быть к этому готова. Полагая, что война будет маневренной, он предлагал увеличить мобильность пехотных частей, сократить их численность; предупредил, что война будет массовой, поэтому важно сохранить превосходство в людях и технике над возможным противником из расчета два к одному или три к одному. Использование подвижных моторизованных частей, оснащенных автоматическим оружием, потребует особой организации баз снабжения и больших технических резервов. Некоторых слушателей удивили подробные рассуждения о том, как мудро поступило царское правительство, заготовив на случай войны запасы сухарей. Сухари – очень хороший продукт, говорил он, особенно если их запивать чаем.
Другие слушатели крайне встревожились, когда Сталин сказал (а остальные преданно его поддержали), что превосходство из расчета по крайней мере два к одному требуется для успешного наступления не только в районе главного прорыва, но и по всему фронту военных действий. Реализация такой доктрины потребует невиданных людских ресурсов, техники, тылового обеспечения. Советские командиры соглашались, что подавляющее превосходство необходимо в районе прорыва, но не понимали, зачем такие огромные скопления войск на спокойных, второстепенных участках.
Еще больше их тревожило, что планы и подсчеты, которые должны были усилить Красную армию, дать ей возможность противостоять германской угрозе, предполагалось завершить лишь к началу 1942 года. Но война, быть может, не захочет столько ждать.
По коридорам Кремля и Наркомата обороны ползли слухи, и все же чувствовалось, что действия, предпринятые после совещания, продиктованы вовсе не кризисом, не чрезвычайными обстоятельствами. Среди командного состава новые перестановки. На должность начальника штаба вместо маршала Мерецкова назначили генерала Жукова главным образом потому, что доклад Мерецкова о маневрах, сделанный 13 января в Кремле, не понравился[29].
Генерала М.П. Кирпоноса перевели из Ленинграда в Киев, а генерала Маркиана Попова – с Дальнего Востока на место Кирпоноса в Ленинград.
По мнению советских маршалов, переживших войну, в январе 1941-го главная ошибка была в том, что Сталин не хотел верить в близость войны и не отдал приказа о подготовке срочных планов.
Конкретной информации о намерениях Германии накопилось у Сталина вполне достаточно, и ее количество заметно росло. Первым намеком на то, что может произойти в будущем, явилось донесение, которое Кремль получил в июле 1940-го от советского разведывательного управления (НКГБ). В нем сообщалось, что нацистский Генеральный штаб запросил у германского министерства путей сообщения данные о возможности перебросить по железной дороге войска с запада на восток. Именно в это время Гитлер и его Генштаб начали серьезно рассматривать вопрос о нападении на Россию; к 31 июля 1940 года составление военных планов уже шло полным ходом[30].
Нет указаний на то, что Сталин или еще кто-нибудь из высших советских руководителей обратили внимание на первые предупреждения разведки. Лишь после недружественных переговоров между Молотовым и Гитлером в Берлине в ноябре 1940 года, когда выявились германо-советские разногласия по поводу сфер влияния и раздела мира, среди советских военных начались разговоры об изменении в отношениях с Германией и о том, что это может привести к войне. Маршал А.М. Василевский, сопровождавший Молотова в Берлин, вернулся с уверенностью, что Германия нападет на СССР. Его мнение разделяли многие военные. «Молотов, конечно, сообщил Сталину о всеобщей уверенности, что рано или поздно Гитлер нападет, – думал Василевский, – но Сталин не поверил». Осенью 1940 года Главное командование дважды представляло правительству мобилизационные планы стратегического развертывания советских вооруженных сил в случае нападения немцев, но они не возымели действия. Еще в сентябре 1940 года советские командиры на западной границе говорили о гитлеровском «дранг нах остен», о том, что Гитлер носит в кармане портрет Фридриха Барбароссы. Анализировались военные учения, основанные на предполагаемом нападении немцев, но при этом политработники осуждали генералов за «германофобию».
Для военных было небезопасно открыто высказывать свои мысли о Германии, пока Сталин упорно надеялся, что Гитлер будет выполнять советско-германский пакт. После переговоров Гитлера с Молотовым Сталин и Молотов стали отмечать, что Германия не так точно и тщательно, как прежде, выполняет связанные с пактом обязательства. Однако серьезного значения этому не придавали.
18 декабря Гитлер утвердил план «Барбаросса», план вооруженного нападения на Россию. На следующий день в полдень он принял нового советского посла В.Г. Деканозова, который почти месяц ждал в Берлине возможности вручить свои верительные грамоты. Гитлер очень любезно принял Деканозова, извинился, что «был очень занят военными делами» и не мог встретиться раньше. Через неделю, в первый день Рождества, советский военный атташе в Берлине получил анонимное письмо с предупреждением, что немцы готовятся напасть на Россию весной 1941 года. К 29 декабря в руках советской разведки были основные сведения о плане «Барбаросса», его масштабах и намеченном времени осуществления.
К концу января в Москву из Берлина вернулся японский военный атташе Ямагучи. О своих впечатлениях он рассказал сотруднику советской военно-морской дипломатической службы. Немцы, сказал он, весьма недовольны Италией, им нужно другое поле деятельности.
«Не исключаю возможности конфликта между Берлином и Москвой», – заявил, в частности, Ямагучи.
Маршалу Ворошилову доложили об этом 30 января 1941 года.
К концу января Наркомат обороны был достаточно встревожен, стали составлять общую директиву для пограничных частей и флотов, при этом впервые Германия упоминалась как возможный противник в будущей войне.
Примерно в то же время Главное политуправление Красной армии обратилось к Жданову, который возглавлял идеологическую работу партии, с предложением об усилении в армии основ пропаганды. Если слишком подчеркивать «всепобеждающую силу» Красной армии, постоянно убеждать, что она слишком сильна и никто не осмелится на нее напасть, создается чрезмерная уверенность. Надо подчеркивать, настаивал Главпур, что необходима бдительность, готовность, сознание того, что существует опасность нападения. Но Сталин категорически запретил такой подход, боясь, что немцы его сочтут подготовкой к нападению.
В самом начале февраля в Наркомат военно-морского флота стали почти ежедневно приходить сообщения о прибытии немецких военных специалистов в болгарские порты Варна и Бургас и о подготовке к размещению береговых батарей и зенитных частей. Седьмого февраля об этом доложили Сталину. В то же время ленинградское командование сообщило о передвижении германских войск в Финляндии, о переговорах немцев со шведами насчет переброски германских войск через шведскую территорию.
Где-то около 15 февраля в советское консульство в Берлине явился немец, рабочий типографии. Он принес немецко-русский разговорник, который у них печатали огромным тиражом. Там были такие фразы: «Где председатель колхоза?», «Вы – коммунист?», «Как фамилия секретаря партийного комитета?», «Руки вверх, или буду стрелять!», «Стой!», «Сдавайся!».
Ясно было, что имелось в виду.
Посольство в Берлине отмечало, что в немецкой печати все больше появляется заметок о «военных приготовлениях» на советской стороне германской границы. Такие же зловещие сообщения появлялись перед нападением Германии на Польшу и Чехословакию.
Но казалось, ни одно из этих донесений не в силах было нарушить олимпийское спокойствие Сталина. В День Красной армии, 23 февраля, Наркомат обороны по указанию Мерецкова издал приказ, в котором Германия была названа возможным противником и пограничным районам предлагалось произвести необходимую подготовку. Но к этому времени на место Мерецкова назначили Жукова; новый начальник Генерального штаба не особенно много сделал во исполнение приказа Мерецкова. Решено было создать 20 новых механизированных корпусов, увеличить количество частей ВВС, но толку было мало, поскольку отсутствовали необходимые для этого танки, самолеты и прочая техника.
В ежедневных бюллетенях Генерального и Главного морского штабов стали появляться заметки о приготовлениях Германии к войне против России. В конце февраля и в начале марта почти ежедневно совершались разведывательные полеты германских самолетов над Балтикой. Органы госбезопасности получили сведения, что нападение Германии на Британские острова отложено на неопределенное время – до конца войны против России.
Немецкие самолеты так часто летали над Либавой, Таллином, островом Эзель и Моонзундским архипелагом, что адмирал Кузнецов дал разрешение Балтийскому флоту без предупреждения открывать заградительный огонь. Приказ Кузнецова был утвержден 3 марта. А 18 марта над Либавой появились германские самолеты, и по ним был открыт огонь. Появлялись нацистские самолеты и в небе под Одессой. После одного из таких инцидентов адмирала Кузнецова пригласили в Кремль. Сталин был вдвоем с начальником НКВД Берией. Кузнецова спросили, чем вызван приказ обстреливать германские самолеты. Он пытался отвечать, но Сталин, прервав его и сурово отчитав, заставил отменить приказ. И 1 апреля приказ был отменен, опять германские самолеты вовсю летали над советской территорией. Ведь приказ Кузнецова был нарушением приказов Берии, запрещавших генералам в пограничных районах и вообще всем военным частям обстреливать немецкие самолеты[31].
А разведданные между тем накапливались. В марте органы госбезопасности получили сообщение о встрече румынского диктатора маршала Антонеску с германским представителем Берингом; на встрече обсуждался вопрос о войне с Россией. 22 марта НКГБ была получена достоверная, как они считали, информация о том, что «Гитлер дал секретное указание отложить выполнение приказов, касающихся СССР». 25 марта в НКГБ было составлено специальное донесение на основе данных о концентрации германских сил на востоке. Сообщалось, что в направлении СССР переброшено 120 немецких дивизий.
У НКГБ имелся поистине выдающийся источник. Опытный разведчик Рихард Зорге, немецкий коммунист, уже несколько лет находился в Токио под видом корреспондента германских газет.
Исключительные способности и проницательность отличали этого советского разведчика. Сумев обрести дружбу и доверие германского посла в Токио Германа Отто, Зорге получил доступ к наиболее секретной информации, военной и дипломатической. У него были законспирированный радиопередатчик, хорошо развитая агентурная сеть. Поток донесений о Германии и Японии, поразительно точных, направлялся в Москву. В 1939 году он передал 60 сообщений, в общей сложности 23 139 слов, а в 1940-м – около 30 тысяч.
Его первое донесение в Москву о германских приготовлениях к военному наступлению на восток было передано 18 ноября 1940 года. Месяц за месяцем поступали донесения, содержавшие все больше данных: в Лейпциге формируется новая резервная армия из сорока дивизий (сообщение 28 декабря 1940 года); восемьдесят немецких дивизий сосредоточены на советских границах; двадцать дивизий, участвовавших в нападении на Францию, переброшены в Польшу. 5 марта Зорге сумел передать в Москву поразительное сообщение: снятую на микрофильм телеграмму Риббентропа Отту, германскому послу в Японии, где говорилось, что нападение Германии произойдет в середине июня.
Но доходила ли до Сталина, Жданова и других членов Политбюро эта масса данных советской разведки и особенно ведомства, контролируемого Берией? Некоторые видные советские военачальники, яростно ненавидя Берию, намекали, что он эти сведения утаивал или искажал. Возможно. И Деканозов, советский посол в Берлине, будучи одновременно приближенным Берии, вполне мог по его указанию приукрашивать, искажать или скрывать факты. Другой приспешник Берии, Богдан Кобулов (один из шести сотрудников госбезопасности, казненных вместе с Берией 23 декабря 1953 года), был в Берлине советником посольства и руководил разведывательной службой. Есть сведения, что Деканозов действительно приуменьшал факты, подтверждавшие германские приготовления к войне. Андрей Вышинский, пособник Берии, был назначен в Наркомат иностранных дел главным помощником Молотова. Именно он мог сыграть свою роль в том, что причин для тревоги не усматривали. Тем не менее эти люди не могли скрыть от Сталина донесения военной разведки.
Генерал Ф.И. Голиков был начальником разведки в Генеральном штабе с середины июля 1940 года до начала войны. И он утверждал: все донесения о немецких планах были переданы Сталину; донесения эти ясно показывали, что готовится нападение.
Иные критики заявляют, что Голиков, передавая донесения, отмечал, что их «достоверность сомнительна» или они, может быть, получены от «агентов-провокаторов». Но Сталина, при его подозрительности, вероятно, именно «сомнительные» донесения могли особенно заинтересовать.
Факты свидетельствуют, что Сталин, Жданов и другие получали донесения разведки, но всегда неверно их истолковывали: как провокацию или как подтверждение, что прямой угрозы пока нет. И таким образом как бы подтверждалась правота Сталина, говорившего, что Германия нападет не раньше осени 1941 или весны 1942 года.
«Генеральный штаб, конечно, не ожидал, что война начнется в 1941 году, – к такому выводу пришел маршал Воронов, который в годы войны возглавлял советскую артиллерию. – Это мнение исходило от Сталина, который, вопреки здравому смыслу, верил в пакт о ненападении, заключенный с Германией, полностью на него полагался и отказывался видеть очевидную опасность, которая нам угрожала».
Нужна сильная воля, чтобы игнорировать все свидетельства. Месяц за месяцем шел поток тревожных донесений от советского военного атташе во Франции генерал-майора И.А. Суслопарова. Немцы систематически ограничивали деятельность советского посольства и в феврале 1941-го перевели его из Парижа в Виши, оставив лишь консульство в Париже.
В апреле Суслопаров сообщил в Москву, что немцы собираются напасть на Россию в последние дни мая. Чуть позже он информировал, что нападение на месяц отложено из-за трудностей, связанных с весенней непогодой. К концу апреля Суслопаров получил данные о предстоящем нападении от своих коллег из Югославии, Америки, Турции, Китая, Болгарии. Все эти данные были к середине мая отправлены в Москву.
В апреле чешский агент по фамилии Сквор сообщил, что немцы перебрасывают войска к границе, что дано указание чешскому заводу «Шкода» приостановить поставки в СССР. На этом донесении Сталин написал красными чернилами: «Этот осведомитель – английский провокатор. Выясните, кто занимается этим подстрекательством, и накажите его».
До Москвы быстро дошло сообщение об инциденте в болгарском посольстве в Берлине. Руководитель германского отдела западной печати, некто Карл Бремер, напившись, крикнул: «Еще месяц, и наш дорогой Розенберг будет хозяином России, а Сталин умрет. Мы русских разобьем еще быстрее, чем французов». И.Ф. Филиппов, корреспондент ТАСС в Берлине, почти сразу же узнал об этом инциденте и о том, что Бремер за безответственную болтовню арестован.
Сообщения шли не только из советских источников. Уже в январе заместитель государственного секретаря США Самнер Уэллс предупредил советского посла в Вашингтоне Константина Уманского, что Соединенные Штаты располагают информацией, согласно которой немцы к весне планируют начать войну с Россией.
3 апреля Уинстон Черчилль пытался предупредить Сталина через британского посла в Москве сэра Стаффорда Криппса, что, по сведениям британской разведки, немцы проводят перегруппировку войск для нападения на Россию. Передать сообщение оказалось затруднительно для сэра Стаффорда, поскольку советско-британские отношения были натянутыми; предписано было вручить сообщение Молотову или Сталину; в конце концов Криппс передал его Вышинскому, а сообщил тот наверх или нет, неизвестно[32].
В конце апреля Джефферсон Петтерсон, в то время первый секретарь американского посольства в Берлине, пригласил первого секретаря советского посольства Бережкова на коктейль. В уютном доме Петтерсона в Шарлоттенбурге были гости, среди них – германский летчик, майор, только что якобы прибывший в отпуск из Северной Африки. В конце вечера он отозвал Бережкова:
«Петтерсон меня просил кое-что вам сообщить. Дело в том, что я здесь не в отпуске. Моя эскадрилья отозвана из Северной Африки, вчера мы получили приказ о переводе на восток в район Лодзи. Может быть, в этом нет ничего особенного, но мне известно, что многие другие части тоже недавно переброшены к вашим границам. Не знаю, в чем тут дело, но лично я не хотел бы, чтобы между нашими странами что-нибудь произошло. Конечно, я об этом говорю строго конфиденциально».
Бережков был поражен. Никогда ни один германский офицер не передавал такой сверхсекретной информации. Посольство не раз получало из Москвы указание избегать провокаций. Боясь попасть в ловушку, Валентин Бережков не пытался продолжить разговор, только сообщил о нем в Москву.
Донесение Бережкова каплей влилось в поток аналогичных донесений из советского посольства в Берлине. Ведь начиная с марта в посольство поступала информация о возможных датах нападения – 6 апреля, 20 апреля, 18 мая, 22 июня. Все эти дни – воскресные.
В посольстве решили, что разные даты умышленно распространяются, чтобы отвлечь внимание.
От внимания посольства не ускользнуло, что после нескольких лет перерыва опять стали появляться в германской прессе отрывки из книги «Майн кампф» с продолжением из номера в номер. Перепечатывались отрывки, посвященные проблеме «жизненного пространства и необходимости экспансии на восток». Что это, подготовка немецкого общества к грядущим событиям? Такой вывод совпадал с другими данными, попадавшими в руки советских дипломатов.
Март и начало апреля стали периодом напряженных отношений между Германией и Россией. Как раз в это время Югославия, при молчаливой поддержке Москвы (или, может быть, не вполне молчаливой), бросила вызов Германии, а немцы поспешно и решительно устремились закончить войну в Греции и полностью оккупировать Балканы. Когда Москва подписала договор с Югославией – 6 апреля, в день нападения Гитлера на Белград, – реакция немцев была столь неистовой, что Сталин встревожился[33].
Он для виду закрыл дипломатические миссии в оккупированных немцами странах (Бельгии, Греции, Югославии, Норвегии, Дании), признал даже кратковременное пронацистское правительство Рашида Али в Иране. Потом использовал отъезд японского министра иностранных дел Мацуоки (только что заключившего с Молотовым договор о дружбе), чтобы продемонстрировать свое отношение к немцам. На Казанском вокзале во время церемонии проводов Мацуоки 13 апреля Сталин взял за плечи графа Шуленбурга и заявил: «Мы должны оставаться друзьями, вы должны все сделать для этого». Затем, обратившись к германскому военному атташе полковнику Гансу Кребсу, он воскликнул: «Мы с вами останемся друзьями в любом случае!»
Воспользовавшись тем же воодушевляющим событием, он обнял Мацуоки и провозгласил: «Мы тоже азиаты!»
Шуленбург отлично разглядел дипломатию Сталина и сразу телеграфировал в Берлин. Может быть, на поведение Сталина повлияло донесение НКВД, переданное в апреле ему и Молотову, где была кратко изложена беседа Гитлера и югославского принца Павла. Гитлер, сообщалось в донесении, сказал принцу Павлу, что начнет в конце июня военные действия против России. Может быть, страх перед растущей враждебностью Германии заставил Сталина ускорить поставки немцам, в апреле поставки значительно увеличились: 208 тысяч тонн зерна, 90 тысяч тонн нефти, 8300 тонн хлопка, 6340 тонн меди, железа, никеля и других металлов, 4000 тонн резины. Впервые русские стали транспортировать резину и другие материалы, заказанные немцами, через Транссибирскую железную дорогу в специальных поездах-экспрессах. Многие из этих материалов были куплены за границей и, конечно, потом использовались нацистами в их войне против России.
К этому времени поток сообщений, микрофильмов, донесений от Зорге, поступавших в НКГБ, стал достигать внушительных размеров. Во время отсутствия посла Отта (сопровождавшего министра иностранных дел Мацуоки в Берлин и Москву) полковник Кречмер, немецкий военный атташе в Токио, получил извещение о намерении Германии напасть на Россию. Зорге отправил донесение, датированное 11 апреля, в котором говорилось: «Представитель Генерального штаба в Токио сообщает, что сразу после окончания войны в Европе начнется война против Советского Союза».
Весь апрель ежедневные сводки Генерального и Главного морского штабов СССР сообщали о продвижении германских войск к советской границе. 1 мая, информируя пограничные округа, сводка Генерального штаба следующим образом характеризовала ситуацию: «Весь март и апрель вдоль западной границы немецкое командование производило ускоренную переброску войск из центральных районов Германии к границам Советского Союза».
Такие сосредоточения войск особенно хорошо просматривались в районе Мемеля через советско-германскую границу с выдвинутой вперед балтийской базы в Либаве.
Движение на центральном участке границы вдоль реки Буг недалеко от Львова было настолько очевидно, что начальник пограничной охраны просил Москву разрешить эвакуацию семей военнослужащих. Но эвакуацию категорически запретили, а командира отчитали за «панику».
Все учащались полеты германских самолетов над советской территорией; 2 апреля в Наркомат иностранных дел пригласили германского поверенного в делах Типпельскирха, и ему был заявлен решительный протест. Русские заявили, что с 28 марта по 18 апреля немецкие самолеты нарушили советскую границу 80 раз, в том числе и 15 апреля, когда возле Ровно заставили приземлиться немецкий самолет и в нем обнаружили фотоаппарат, засвеченную пленку и топографическую карту СССР. Немцев предупредили о возможности «серьезных инцидентов», если полеты не прекратятся; им напомнили, что советский приказ пограничным войскам не обстреливать немецкие самолеты может быть отменен.
В Москве тем временем все настойчивее распространялись слухи о советско-германской войне (с помощью всех туристов и дипломатов, прибывавших в Москву через Германию). В связи с этим немецкие дипломаты и военные просили Берлин дать какое-нибудь объяснение, пусть даже не очень убедительное, чтобы можно было противостоять слухам. Мощная сеть тайных советских осведомителей сообщала об этих слухах в НКГБ.
Наконец, поступило окончательное, в сущности, подтверждение немецких планов от Рихарда Зорге. Он сообщил 2 мая из Токио по радиопередатчику:


