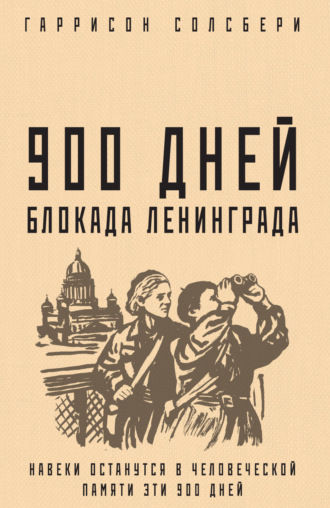
Гаррисон Солсбери
900 дней. Блокада Ленинграда
22 июня на финской границе все было спокойно. Никаких военных действий не велось. А на юго-западе уже грохотали немецкие танки.
Ни одной дивизии, ни одного полка, ни одной воинской части не было к югу и юго-западу от столицы.
А что, если немцы прорвутся через эти новые границы, расположенные так далеко на западе? Что тогда?
Теперь все решения временного Ленинградского военного совета имели целью преодолеть эту новую, непредвиденную опасность. Отныне в руках Военного совета было сосредоточено все: оборона, общественный порядок, государственная безопасность, право распоряжаться жизнью и смертью.
Эти решения, принятые в первые часы, вероятно, во многом помогали понять успехи и неудачи германских войск, рвавшихся к Ленинграду.
И даже мертвые бы встали
Люди на улицах, в парках, в магазинах, на заводах с настороженным вниманием слушали речь Молотова. Он говорил спокойно, в своей обычной сдержанной манере. Лишь иногда дрогнувший голос выдавал напряжение. Он сказал:
«Граждане и гражданки Советского Союза! Советское правительство и его глава тов. Сталин поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 ч. утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города – Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие… Нападение на нашу страну произведено несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении и советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора. Нападение на нашу страну совершено несмотря на то, что за все время действия этого договора германское правительство ни разу не могло предъявить ни одной претензии к СССР по выполнению договора…
Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего советского правительства, вокруг нашего великого вождя тов. Сталина.
Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».
Некоторые удивились, почему Молотов, а не Сталин говорил с народом. И конечно, никто за пределами очень узкого круга в глубине Кремля не знал правды: Сталина охватила болезненная депрессия, в которой он еще долго потом пребывал.
Но теперь люди осознали, что началась война. К часу дня, через несколько минут после речи Молотова, стали расти очереди, особенно в продовольственных магазинах. Выстроились также очереди у сберкасс: вкладчикам потребовались деньги. В гастрономах женщины покупали теперь все подряд: консервы (а русские их не особенно любят), масло, сахар, сало, муку, крупу, колбасу, спички, соль. За 20 лет советской власти ленинградцы по собственному горькому опыту знали, чего можно ждать во времена кризиса. Они кинулись в магазины покупать все, что можно. Они предпочитали продукты, которые можно хранить, но были не слишком разборчивы. Один покупатель взял пять килограммов икры, другой – десять.
В сберкассах люди, сжимая в руках старенькие, истертые сберкнижки, снимали со своего счета каждый рубль, который там имелся. Многие сразу же отправлялись в комиссионные магазины, превращая там толстые пачки бумажных денег в бриллиантовые кольца, золотые часы, изумрудные серьги, восточные ковры и медные самовары.
Уже собрались возле сберкасс шумные толпы, они требовали денег сейчас, немедленно. Тогда появились отряды милиции, к трем часам сберкассы закрыли, денег в них больше не было. Потом они открылись лишь во вторник (поскольку понедельник там выходной день). А когда они снова открылись, властями был установлен лимит: выдавать на одного человека по 200 рублей в месяц.
Продовольственные и промтоварные магазины были открыты, а также комиссионные. У многих были припрятаны дома пачки бумажных рублей, люди хватали свои деньги и покупали все, что само по себе могло представлять ценность.
В воскресенье ленинградские домохозяйки полностью очистили магазины, которые были поменьше. За последнее время это был второй случай, когда пришлось делать запасы продовольствия, они так же кинулись по магазинам зимой, в период войны с Финляндией. Делать запасы – старый русский обычай. Никто из живших в Ленинграде со времен Первой мировой войны не мог особенно полагаться на способность властей обеспечить нормальное снабжение продовольствием. История предыдущих войн – а подчас и мирных периодов – это история нехваток и мытарств.
Повысился спрос на водку, вечером ее запасы были исчерпаны, во многих кафе и ресторанах также. Причем водку раскупали не для того, чтобы сразу выпить. Ее запасали.
На предприятиях и в учреждениях были организованы митинги. В это воскресенье работали многие крупные заводы, среди них «Электросила», «Красный выборжец», «Скороход», – в городе не хватало электроэнергии, ее расход становился более равномерным, когда работали по воскресеньям.
Около 9 утра позвонили из Смольного на эти заводы секретарям партийных организаций, на многих до 11 часов состоялись закрытые партийные собрания. Затем, после выступления Молотова по радио, на всех предприятиях состоялись всеобщие митинги.
В это воскресенье Ольга Берггольц была в своей ленинградской квартире. Странное это было жилье – кооператив, построенный в начале 30-х группой молодых (теперь, казалось, очень молодых) инженеров и деятелей культуры. Официально здание на улице Рубинштейна именовалось «Дом-коммуна инженеров и писателей». Но все ленинградцы прозвали его «слезой социализма».
Дом необыкновенный, словно памятник страстному стремлению инженеров и писателей на заре революции покончить с уродливыми приметами буржуазного существования.
В «слезе социализма» устранено было все, что могло напоминать об устаревших, отживших свое обычаях. Не было кухонь. Отсутствовали швабры. Во всем здании не было места, чтобы приготовить еду. Никаких прихожих с вешалками. Пальто оставлять лишь на общих вешалках.
Дом был создан, чтобы люди жили в коллективе на высших коллективистских началах. Применен был псевдорациональный стиль с претензией на подражание Ле Корбюзье. Ленинградцы шутили, что в «фаланстере на Рубинштейна» иметь семью не разрешается.
С тех пор шутки давно утратили новизну, и в равной мере ее утратили теории коммунального проживания. Но и Ольга Берггольц, и большинство жителей дома относились к нему с безрассудной нежностью, несмотря на его нелепость. В каком-то смысле это связано было с юностью, с тем энтузиазмом, который, казалось, теперь был в другом веке, у других поколений и других людей.
Дело не только в том, что коммунальная жизнь оказалась унылым чудачеством, какое трудно было себе заранее вообразить. Дело во всем остальном, что случилось в 30-х годах.
Ольга Берггольц – поэт, дитя революции, женщина талантливая, смелая. Голубые ясные глаза смотрят на мир правдиво и печально. Оттого что пройдена тяжелая школа российской жизни. На высоком челе – печать страданий. Благородная ее доброта закалилась в горе и несправедливости.
В день похорон Ленина, в воскресенье 27 января 1924 года, в четыре часа дня Ольга Берггольц, еще школьница, стояла с подругой у старого дома возле Нарвских ворот, где жила тогда. В тот момент по всей России гудели заводы, паровозы, сирены, колокола в память Ленина.
Когда вернулась тишина, казалось, все еще вибрирует в воздухе замирающее эхо гудков. Она повернулась к подруге и объявила: «Вступлю в комсомол и стану профессиональной революционеркой. Как Ленин».
В 30-х годах это смелое решение проходило суровую проверку. Умерли две ее дочери, одна за другой. А затем произошло то, что она и впоследствии называла «тяжким опытом» 1937–1939 годов: тюрьма, лагеря. Одна из бесчисленных жертв бесконечных сталинских чисток.
До тюрьмы она была лирическим поэтом, писала стихи и рассказы для детей. В тюрьме повзрослела как человек и поэт. И теперь, 22 июня, Ольга Берггольц записала свои мысли, свою поэму, которая в течение многих лет не была (и не могла быть) опубликована. Это была попытка выразить свое понимание страны, Родины, самой себя.
Я и в этот день не позабыла
горьких лет гонения и зла,
но в слепящей вспышке поняла:
это не со мной – с Тобою было,
это Ты мужалась и ждала.
Нет, я ничего не позабыла!
Но была б мертва, осуждена,
встала бы на зов Твой из могилы,
все б мы встали, а не я одна.
Я люблю Тебя любовью новой,
горькой, всепрощающей, живой,
Родина моя в венце терновом,
с темной радугой над головой.
Он настал, наш час,
и что он значит —
только нам с тобою знать дано.
Я люблю Тебя – я не могу иначе,
я и Ты по-прежнему – одно.
В Ленинграде в эти часы, узнав о немецком нападении, многие пытались заново поставить вопросы перед своей совестью, подвергнуть глубокой и трудной проверке подлинную природу своих чувств.
Не все могли, как Ольга Берггольц, забыть жестокость, страдания, зверство, разбитые мечты и утраченные иллюзии прошедшего десятилетия, не все были способны понять, что самое главное в этот решающий час – Родина и любовь к ней. Были и те, кто тайно или, может быть, не столь уж тайно радовался нападению немцев. Им казалось, что немцы освободят Ленинград и Россию от власти ненавистных большевиков.
Вряд ли кто-нибудь когда-либо узнает, сколько было таких инакомыслящих, но, конечно же, тысячи людей в этот момент не считали наступление немцев трагедией. Противоречивыми были мысли Дмитрия Константинова, который потом стал командиром Красной армии и участвовал в тяжелейших боях под Ленинградом. Он – один из тех, кто в этот воскресный день еще не обрел ясного понимания. Ужасна мысль о войне. Однако последние десять лет забыть невозможно – казни, ссылки, аресты, террор. А информаторы, страх, ночной стук в дверь? Сколько людей томится сейчас в сталинских тюрьмах и лагерях? Возможно, 20 миллионов.
Принесет им война освобождение? Этот новый ужас! Не последует ли за ним что-нибудь хорошее? Может быть, он избавит Россию от ярма большевиков и появится возможность новой, нормальной, человеческой жизни?
Ответа не было. Он хорошо был осведомлен об ужасах современной войны, о зверстве Гитлера, его расистских теориях, о безрассудных претензиях «Майн кампф». Кто больше зла принесет России – Сталин или Гитлер? Кто знает.
Вечером Константинов пошел с другом в Малый оперный театр, они до конца досмотрели оперетту «Цыганский барон», однако треть мест пустовало. Во время антракта публика гуляла в фойе, но без обычного оживления. Люди молчали или говорили шепотом.
После спектакля Константинов и его друг прошлись до Троицкого моста. Было, конечно, вполне светло, но у машин теперь появились тускло-голубые фары. На трамваях и в подъездах домов – синие лампочки.
Тихо, величаво текла Нева мимо великолепных зданий, омывая гранитную набережную.
Невеселым был разговор Константинова с другом. Конечно, они пойдут в армию бороться за свою страну. Что несет будущее?
В коммунальной квартире, где жила Елена Скрябина, был как бы представлен «весь Ленинград», разные группы его населения. Обитавшая напротив Скрябиной Любовь Николаевна Куракина была женой осужденного «врага народа». Муж ее, партийный работник, преданный партии коммунист, уже два года сидел в тюрьме. Любовь Николаевна – непоколебимая коммунистка. Ее стойкие убеждения слегка пошатнулись в связи с арестом мужа, но вечером в воскресенье с полной силой взыграли вновь. Забыв о нанесенной обиде, она произнесла перед соседями страстную речь о непобедимости СССР.
Другая соседка, Анастасия Владимировна, слушала, сидя на высоком сундуке, эту торжественную речь и саркастически улыбалась. С нескрываемой ненавистью относилась она всегда к советскому режиму, а с началом войны появилась впервые надежда избавиться от большевиков.
Елена Скрябина разделяла многие чувства «Владимировны». Однако была достаточна умна и опытна, чтобы понять: будущее простого и легкого выхода не сулит. Как большинство соотечественниц, она любила Россию, не могла желать ей поражения от извечных врагов. Но при этом знала, что лишь такое поражение могло бы вполне покончить с жестоким, нелепым, порочным режимом.
Для Дмитрия Щеглова, писателя и убежденного коммуниста, вопрос так не стоял. В субботу ночью он вернулся из столицы Карело-Финской республики Петрозаводска, где шла премьера его новой пьесы «Сокровище Сампо». В купе поезда командиры Красной армии, полковник и майор, говорили о большом скоплении немецких войск в Финляндии. Разговор этот его встревожил. Поэтому, когда жена, работавшая в театре, позвонила ему в воскресенье и сообщила о войне, он не особенно удивился. Жена его как раз шла в театр на партийное собрание. Щеглов посидел немного, пытаясь решить, как действовать. Было тихо. Мерно тикали часы. Может быть, это последняя спокойная минута, подумал он. Дочка, войдя в комнату, спросила: «Что же нам делать?»
Щеглову все уже было ясно.
«Жить по-прежнему», – сказал он твердо, еще не зная, что в ближайшие десять дней поступит в народное ополчение.
Иван Канашин и Андрей Пивень, молодые ребята из поселка Гряд Ленинградской области, восприняли событие по-другому, чем Елена Скрябина. Весь их класс после 12 часов собрался в Центральном парке. Там же собрался и весь поселок. Депутат Григорий Васильевич Волконский произнес патриотическую речь.
После его выступления ребята стали взволнованно совещаться. Что надо делать? Куда идти? Им было по 17 лет, в Красную армию рано. Куда же все-таки? Они отправились в ближайший городок покрупнее – Малую Вишеру, в уверенности, что там их запишут добровольцами. Пошли в комитет комсомола. В очереди перед ними стояли десятки молодых ребят. Брали только 17-летних. В чем будут состоять обязанности, никто не знал. Но Андрей Пивень, Коля Гришин, лучший футболист школы, Миша Васильев и Ваня Канашин записались. Им велели идти домой, собрать кое-какие вещи, попрощаться и во вторник доложить о прибытии. Родители поплакали, а у ребят настроение было безоблачным, они шли служить Родине.
Но вполне обоснованными, глубоко трагичными были сомнения, колебания, муки, неопределенность настроения многих ленинградцев.
С момента его основания 16 мая 1703 года Ленинград, Петроград, Санкт-Петербург – как ни назови – был особым городом, а жившие в нем люди – особыми людьми. Характер Северной столицы вполне определился задолго до революции 1917 года, его чертами во многом определялся сам дух революции.
До 1917 года революция созревала в Санкт-Петербурге сотни лет. В 1825-м – трагическое выступление молодых знатных офицеров, мечтавших в рамках царизма ввести просвещение, преобразовать царизм в европейский парламентаризм, – обреченное на неудачу движение декабристов, первоначальная попытка Северной столицы заставить Романовых отказаться от средневековой тирании.
Декабристы потерпели неудачу (и пошли в ссылку, вместе с молодыми женами, в самые отдаленные и суровые места империи, на мрачные рудники Петровского завода к востоку от Иркутска), но пример их вдохновлял новые поколения петербургской молодежи.
К этому добавлялась легенда о гибели Пушкина, байронический облик которого был идеалом для русской молодежи. Пушкин стал мучеником по той же причине, что и декабристы. Вряд ли хоть один юнец в Питере (как называли Северную столицу) верил, что царь Николай I не участвовал в провоцировании ссоры, которая привела Пушкина к роковой дуэли и смерти.
Шел XX век, десятилетия сменяли десятилетия… И каждое несло Санкт-Петербургу новых мучеников, новых революционеров, новых кумиров. Список стал таким длинным, что всех перечислить невозможно, – Александр Герцен, Белинский, Добролюбов, Чернышевский, молодые участники и участницы «Народной воли». Анархисты, Бакунин, террористы, молодой Александр Ульянов, старший брат Ленина, писатели, такие, как Тургенев, Достоевский, Толстой, Чехов. Не все жили и работали в Питере, но в его духовный облик они внесли свой вклад.
Город рос. Это было российское окно в Европу – центр самого передового, богатого, культурного, самого революционного общества страны, развивающийся центр индустрии. Здесь родилась новая русская промышленная аристократия, выросли дымные трубы Путиловского сталелитейного завода. Здесь обосновались крупнейшие иностранные предприниматели. Сименс и Галс, Торнтон, Лангесиппен, Лаферм, Грапп, Джеймс Бек, Штиглиц, Максвелл, Франк, швейные машины Зингера, международная фирма уборочных машин, Маккормик…
На Невском проспекте огромные объявления оповещали о достоинствах швейных машин Зингера. В красивых помещениях располагалась «Компания по страхованию жизни на справедливых условиях». Поблизости от нее – магазины Беггеля и братьев Мори.
Это здесь была основана при Петре и развивалась при Екатерине Академия наук. Цвет русской науки Ломоносов, Менделеев, Сеченов, Павлов жили и работали здесь.
Санкт-Петербург был имперским городом, именно в нем воплотилась империя. Он был создан с имперским размахом. Эта суть отразилась в его архитектуре, зданиях. Петр, Екатерина, их последователи сознательно и самозабвенно стремились воздвигнуть на Неве столицу, великолепнейшую в мире. В большой степени это им удалось.
Вдоль длинных невских набережных огромные ансамбли, вереницы дворцов. Разветвленная сеть каналов, крупных и малых. Фонтанка, Мойка, Екатерининский канал, Невский проспект, дворцы Строганова, Аничкова, Инженерный замок, Таврический дворец, Марсово поле, Летний сад, а подальше – великолепие Петергофа и Екатерининского дворца в Царском Селе. Величавая, удивительная столица Питер!
Для того чтобы построить ее на унылых болотах, надо было загубить жизни тысяч работников, посланных сюда Петром; она была воздвигнута на обветшалом, лживом, жестоком фундаменте, где перемешались царский деспотизм и худшие формы угнетения на заре промышленного капитализма. Бедность, голод, нищета, проституция, болезни от недоедания – все несчастья, проистекающие от неграмотности, царили в трущобах и рабочих кварталах Петроградской и Выборгской сторон.
На этой почве и в результате неслыханного разложения двора Николая II во времена Распутина и Первой мировой войны родилась русская революция.
Она родилась в Петрограде, все ленинградцы об этом знали и этим гордились. Она возникла из страданий Петрограда, из его духовной сути, из всей обстановки. И возникла, так сказать, стихийно. Никто ее не организовал. Это не был результат заговора (хотя в России поколения молодых людей годами вынашивали планы революции, дело тут было не в них). Она родилась из отчаяния людей, из протеста женщин, день за днем напрасно стоявших в очередях за хлебом. Наконец в марте 1917-го (26 февраля по старому стилю) чувства негодования перелились через край.
За три дня вся система российского царизма лопнула, как проколотый воздушный шар. Лишь горстка потемневшей пыли осталась на ладони.
И вторая революция, революция большевиков, произошла в Петрограде. Сюда вернулся Ленин и у Финляндского вокзала в апрельский день 1917 года провозгласил максимальные требования – революция, никакой поддержки Временному правительству, вся власть Советам, – требования, которые так взволновали, испугали, удивили его доморощенных последователей, вроде Сталина и Молотова, молодых участников большевистского движения, в сущности понятия не имевших о большевизме, пока Ленин не обрисовал его стремительными, броскими штрихами.
Здесь Ленин готовил государственный переворот, шел к власти через голову Керенского и умеренных, которые так же, как царизм, рухнули почти без сопротивления.
Когда в час ужасной угрозы со стороны Германии в марте 1918 года Ленин «временно» перевел советское правительство в Москву, это стало трагедией Петрограда, которую до сих пор глубоко переживали его жители.
По-прежнему советской столицей была Москва, хотя с тех пор до нынешнего дня, 22 июня, прошло свыше двадцати лет. Нелегкие это были годы для Ленинграда. Уже перед смертью Ленина в 1924 году начались перемены. Москва стала центром, а затем изменились тенденции революции, ее содержание. Может быть, это было неизбежно и все равно бы произошло, даже если бы столицу и не перевели в Москву. Но полной уверенности, что случилось бы то же самое, не было ни у кого в Питере.
На протяжении двух столетий продолжалась борьба за душу России, за власть над огромной славянской страной.
С одной стороны – московское «мещанство», жадное, грубое, напористое, во главе с консервативным православным духовенством и московским цепким купечеством. Московские мещане – люди крепкие, тяжеловесные, пьющие водку; они выбились из крестьян, тесня своих ближних; они консервативны, не хотят перемен, обособленны, со страхом и ненавистью относятся к Европе. И к Санкт-Петербургу они относятся с ненавистью и страхом, потому что для них он олицетворяет все новое, прогрессивное, обладающее изящным вкусом и – опасное.
А с другой стороны – Санкт-Петербург, очарованный блеском Парижа и Рима (даже если сердце еще отдано Волге), его стиль, заимствованный у Запада, – вселенский, индустриальный, сугубо иностранный (в обществе даже говорили не по-русски, а по-французски); Санкт-Петербург, сверху вниз глядевший на отсталую, грязную, пыльную Москву, как на захолустье, от которого ушел. И Москва для него была символом бюрократизма, отсталости, неотесанности, вульгарности, провинциальности.
Перемены, которые последовали в жизни Ленинграда с переводом столицы в Москву, немного пугали. Питер двести лет распоряжался Москвой, а теперь настала очередь Москвы.
Так и случилось, пришло возмездие – месть правителя, какого Россия не знала со времени Ивана Грозного – параноика и диктатора.
Через год или два после смерти Ленина появились первые признаки – обострение борьбы между Сталиным и старой большевистской гвардией, в которую входил и Григорий Зиновьев, руководитель партийной организации Ленинграда, один из ближайших соратников Ленина, стоявший на втором или третьем месте среди самых влиятельных в то время деятелей России.
В 1927 году Зиновьева сняли, и Ленинград увидел, что боялся Москвы не без оснований. Перемены сначала были все же не слишком велики. Сталин занимался первым пятилетним планом и затеял трагическую, кровавую коллективизацию в деревне. Ленинград стоял в стороне от этой тяжелой борьбы. К тому же вырос новый талантливый руководитель, Сергей Киров, сторонник Сталина и в то же время человек обаятельный, способный, завоевавший сердца ленинградцев и завоевавший поддержку членов ЦК, которых напугала и ужаснула деспотичная жестокость Сталина. Даже ходили слухи, что на «съезде победителей», знаменитом партийном съезде в январе 1934 года, когда, казалось, остались позади худшие напасти индустриализации и коллективизации, Киров на выборах в Центральный комитет получил большее число голосов, чем Сталин.
А в декабре 1934 года произошло событие, которому суждено было на долгие годы отравить жизнь Ленинграда.
В этот день, войдя в кабинет Кирова в Смольном, некий молодой человек по имени Леонид Николаев застрелил его.
Это событие навлекло на Ленинград такой террор, какого мир не видывал ни во время Парижской коммуны, ни после нее. Тысячи людей были арестованы, их расстреливали, или ссылали в концентрационные и трудовые лагеря, или помещали в так называемые «изоляторы». Этих людей было множество, их впоследствии называли «убийцы Кирова». В основном арестовывали молодых, мыслящих и всех, кто когда-либо в прошлом не проявлял достаточной симпатии к режиму. Загнаны в эту сеть были, конечно же, и Зиновьев, и большинство старых большевиков, составлявших оппозицию Сталину.
Фактически убийство Кирова явилось краеугольным камнем террора 30-х годов. Именно в день убийства Кирова НКВД были даны особые полномочия, которых у него никогда прежде не было: без судебного разбирательства осуждать и казнить любого гражданина СССР.
После этого убийства режим сплошного террора залил кровью всю Россию и продолжался вплоть до начала Второй мировой войны (хотя начиная с 1939 года об арестах сообщать перестали – давно научились обходиться без судебных формальностей, – и многие, даже в России, не вполне осознавали, что ликвидация людей продолжается).
Но нигде так не свирепствовал террор, как в Ленинграде. Здесь в 1937–1938 годах совершались ужаснейшие репрессии. Сметены были сотни руководящих партийных работников и ответственных должностных лиц – среди них четыре секретаря городского и областного комитетов партии, четыре председателя горисполкома, руководитель горкома комсомола и десятки других видных партийных деятелей.
Кропотливо, по крупицам восстановлена история чистки, происходившей лишь на одном ленинградском заводе – Путиловском сталелитейном. Сначала удар обрушился на тех, кто каким-то образом был связан с прежней руководящей группой, во главе которой стоял Зиновьев. Завод едва переименовали в Кировский, как вдруг заместитель директора, секретарь партийного комитета и начальники десятка цехов были одновременно исключены из партии и уволены с работы. В январе 1935 года свыше 140 человек было уволено и затем арестовано под тем предлогом, что они в прошлом были как-то связаны с царским режимом, с бывшими промышленниками, дельцами, владельцами магазинов или кулаками. Тут же арестовали еще 700 человек, подведя их под категорию «классовых врагов».
Производительность труда понизилась. Вина за любое невыполнение плана и любую ошибку возлагалась на «врагов государства» – тех, кого разоблачили, и тех, кого разоблачат в ближайшее время.
Директор завода Карл Мартович Отс, уважаемый человек, один из видных руководителей советской промышленности, пытался поддерживать какой-то порядок и защищать сотрудников от стихии арестов и обливания грязью. Безнадежное дело. Однажды перед отправкой в армию производилась проверка танка Т-28 и оказалось, что в нем не хватает орудийного затвора. Последовали требования разоблачить «вражеских диверсантов». Отс знал, что виноват механик, просто забывший поставить затвор, и на свою ответственность не разрешил поиски диверсанта. Но это было то же самое, что пытаться удержать ведром песка морской прибой. На заводе провели очередную чистку среди членов партии, в результате погибло еще несколько сотен людей.
Немного замедлился темп арестов в 1936 году, но стремительно возрос в 1937-м. Стихия эта смела и Отса. А его только что назначили директором крупного Ижорского завода, в его честь была установлена блестящая дощечка в приемной Кировского завода. Вместе с ним исчезли: М.И. Тер-Асатуров, сменивший его на посту директора Кировского завода, руководители бухгалтерии, цехов, производивших танки, отдела кадров, инструментального цеха и десятков других. Не говоря уже о бывших рабочих Кировского завода, которые достигли высоких руководящих постов, – Алексее Петровском, председателе горисполкома; Иване Алексееве, секретаре Невского райкома, а затем секретаре Новосибирского горкома.
Большинство руководителей крупных промышленных организаций расстреляли, среди них и Отса, Тер-Асатурова, И.Ф. Антюхина, возглавлявшего трест «Ленэнерго». Почти вся ленинградская промышленность лишилась директоров и большинства руководящих работников. Ленинградское военное командование уничтожили, расстреляли командующего Ленинградским военным округом генерала П.Е. Дыбенко и командующего Балтийским флотом адмирала А.К. Сивкова.
Утвердили новое партийное руководство, для этой цели из Нижнего Новгорода (Горького) отозвали Жданова. Это был человек энергичный, стремившийся сделать карьеру, но Ленинград так никогда и не полюбил его. Между тем с началом Второй мировой войны Жданов много значил для Ленинграда и еще большую роль предстояло ему сыграть здесь в ходе войны.
С Ленинграда начались аресты. Именно в Ленинграде они затем приобрели характер жуткой паранойи. Уже тогда стало очевидно – и давние подозрения ленинградцев подтвердились затем после смерти Сталина – убийство Кирова не являлось актом, который самостоятельно совершил какой-то обездоленный, психически ненормальный человек. Что-то очень, очень странное таилось в этом убийстве. На деле сам Сталин инспирировал или по крайней мере замыслил это убийство, которое осуществили его сотрудники из НКВД. И эти сотрудники НКВД, создавшие условия, при которых убийство стало возможным, затем были в числе первых жертв репрессий.
Все это показывало власть Москвы над Ленинградом и ощутимо выдавало, что Ленинград вызывает у Сталина если не злобу, то страх. Террор, пошлость избитых фраз, вульгарная грубость, которые Сталин внес в жизнь советской страны, породили в начале войны в Ленинграде атмосферу необычной духовности и критической внутренней самопроверки.
В среде ленинградской интеллигенции конец сталинского правления вызвал бы целую гамму чувств – от мрачного удовлетворения до полного восторга, мало кто отнесся бы к этому иначе. Но не настолько они были простодушны, чтобы не понимать, какой нелегкий выбор предстоит сделать. Они, правда, еще не испытали ужасов нацизма, но Гитлер, взамен ужасов сталинского режима, отнюдь не являлся той альтернативой, которую стоило предпочесть.
Вот почему 22 июня можно было предвидеть, что, за редким исключением, Ленинград и ленинградцы, сомкнув ряды, встанут на защиту великого города с любовью и патриотизмом, которые всегда были в высшей степени им свойственны.
В конце концов, это их город, их Россия, а для тех, кто исполнен был революционного духа, – их революция, не Сталина.
Год или два назад их великий поэт Анна Ахматова писала во время неслыханной трагедии:
Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.
Все уж сказано, все сделано. Ленинград будет бороться – изо всех сил. И надеяться, что с победой придут лучшие дни.
Вполне естественно, что так думал в тот воскресный день и директор Эрмитажа Иосиф Орбели. Он захлопнул дверь кабинета, поднялся по лестнице к длинному коридору, сбоку от которого находились залы.
Шагал быстро, не оглядываясь по сторонам, спешить ему было некуда, просто хотелось, чтобы досада улеглась. Два часа звонил в Москву, в Комитет по делам искусств, пытался получить указания или разрешение на эвакуацию Эрмитажа. В том, что музей надо эвакуировать, Орбели не сомневался. Немецкие бомбардировщики уже бомбили десятки городов и в любой момент могли появиться над Ленинградом. На миг он остановился, поглядел на Неву. За шпилем Петропавловской крепости повис, будто разбухшая серая колбаса, один из первых поднявшихся в воздух аэростатов. И Орбели решил. Велел сторожу закрыть музейные залы и больше посетителей не пускать. Затем пошел в кабинет, вызвал сотрудников. Из Москвы все еще не звонили. Ну что ж, он будет действовать сам, без Москвы. Сорок самых дорогих картин – Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Рубенса – надо снять со стен, перенести в подвалы под каменные своды. Составить план эвакуации. Если нельзя начать упаковку сегодня, тогда с самого утра в понедельник.


