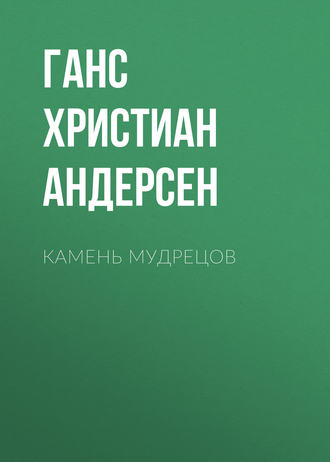
Ганс Христиан Андерсен
Камень мудрецов
Все птички, услышав о том, затосковали и умолкли на целых три дня, а чёрная лесная улитка почернела пуще прежнего – не от горя, а от зависти.
– Ведь, это мне, – сказала она: – следовало бы воскурять фимиам, – я, ведь, дала ему идею первой знаменитой песни, которую переложили на барабан! Я плюнула на розу и могу даже представить свидетелей!
А домой, на родину, не дошло даже и весточки о судьбе поэта: птички горевали и не раскрывали рта целых три дня, и скорбь их оказалась такой сильной, что к концу трёхдневного срока её они даже забыли, о чём горевали! Вот как!
– Ну, теперь пора и мне отправиться в путь! – сказал четвёртый брат.
Он тоже был весёлого нрава, как и предыдущий, притом же он не был поэтом, значит, ничто и не мешало ему сохранять свой весёлый нрав. Оба эти брата были душой и весельем всей семьи; теперь из неё уходило и последнее веселье! Зрение и слух вообще считаются у людей главными чувствами; на их развитие обращается особенное внимание, три же остальные чувства считаются менее существенными. Не так думал младший брат; у него особенно развит был вкус – в самом широком смысле этого слова. А вкус и в самом деле играет большую роль: он, ведь, руководит выбором всего, что поглощается и ртом, и умом. И младший брат не только перепробовал всё, что вообще подаётся на сковородах, в горшках, в бутылках и других сосудах, – это была грубая физическая сторона дела, говорил он – но и на каждого человека смотрел, как на горшок, в котором что-нибудь варится, на каждую страну, как на огромную кухню, и это являлось уже тонкою, духовною стороной его миссии. На эту-то сторону он теперь и собирался приналечь.
– Может быть, мне и посчастливится больше братьев! – сказал он. – Итак, я отправлюсь в путь, но какой же способ передвижения избрать мне? Что, воздушные шары изобретены? – спросил он отца, – тот, ведь, знал о всех изобретениях и открытиях прошедшего, настоящего и будущего.
Оказалось, что воздушные шары ещё не были изобретены так же, как пароходы и паровозы.
– Ну, так я отправлюсь на воздушном шаре! – решил он. – Отец-то, ведь, знает, как они снаряжаются и управляются, и научит меня! Людям эти шары ещё неизвестны и, увидя мой, они примут его за воздушное явление! Я же, воспользовавшись им, сожгу его, – отец должен снабдить меня несколькими штучками грядущего изобретения, так называемыми «химическими спичками».
Всё это он получил и полетел. Птицы провожали его дальше, нежели старших братьев: им любопытно было поглядеть, что выйдет из его полета. К этим птицам приставали по пути всё новые и новые, – птицы очень любопытны, а шар показался им новою диковинною птицей. И у младшего брата составилась такая птичья свита, что хоть убавляй! Птичья стая неслась чёрною тучей, точно египетская саранча; даже света дневного из-за неё не было видно. Наконец, шар залетел далеко-далеко.
– У меня хороший друг и помощник – Восточный ветер! – сказал младший брат.
– To есть два – Восточный и Западный! – сказали оба ветра. – Мы попеременно направляли твой шар, а то как бы ты попал на северо-запад!
Но он и не слыхал, что они ему говорили, да и не всё ли равно! Птицы больше не сопровождали его: когда их собралось уж очень много, две-три из них соскучились лететь.
– Нет, эту вещь слишком раздули! – объявили они. – И он, пожалуй, ещё Бог весть что вообразит о себе! Да и незачем лететь за ним! Всё это пустое! Просто неловко даже!
И они отстали; за ними и все другие. Все нашли, что это – пустое.
А шар спустился в одном из самых больших городов, и воздухоплаватель очутился на высочайшей точке – на башенном шпице. Шар опять поднялся на воздух, хоть этого и не следовало; куда он улетел – сказать трудно, да и не всё ли равно, раз он не был ещё изобретён?
Итак, младший брат восседал на башенном шпице, но птицы уже не слетались к нему: и он им надоел, и они ему. Все дымовые трубы в городе дымили и благоухали.
– Это всё алтари, воздвигнутые тебе! – сказал ветер, – он хотел сказать гостю что-нибудь приятное.
А тот сидел себе преважно и посматривал вниз на улицы и прохожих. Один шёл и чванился своим кошельком; другой – ключами на задних фалдах, хоть ему и нечего было отпирать ими; третий – своим кафтаном, а его уж ела моль; четвёртый – своим телом, а его уж точил червяк!..
– Суета сует! Да, пора мне сойти вниз, помешать в котле жизни, да отведать, каково на вкус его содержимое! – сказал он. – Но я ещё посижу тут немножко: ветер так чудесно щекочет мне спину; очень приятно! Я посижу здесь пока ветер дует с той стороны. Надо же мне отдохнуть немножко. Хорошо подольше понежиться утром в постели, когда предстоит трудный день, говорят ленивцы, а леность – мать пороков, но, ведь, наша семья не заражена никакими пороками, говорю я, и то же скажет о своей семье любой прохожий! Я посижу тут только пока ветер дует с той стороны, – он мне по вкусу!
И он остался сидеть, но сидел-то он на флюгере шпица, и тот всё вертелся с ним, а он думал, что дует всё тот же ветер; он продолжал сидеть и мог сидеть так без конца!
А в Индийской стране, в за́мке на солнечном дереве, стало так пусто и тихо, когда братья разошлись один за другим.
– Им не повезло! – говорил отец. – Никогда не принесут они домой сверкающего драгоценного камня, никогда я не обрету его! Они ушли, погибли!..
И он склонялся над книгой Истины, впиваясь взглядом в страницу, на которой хотел прочесть о жизни после смерти, но по-прежнему ничего не видел на ней.
Слепая дочь была его утешением и отрадой; она так искренно была к нему привязана, так любила его и, ради его счастья, она горячо желала, чтобы драгоценный камень был найден и принесён домой. Но о братьях она очень горевала; где они и что с ними? Как ей хотелось увидать их хоть во сне, но, удивительно, даже во сне она не могла с ними свидеться! Но вот, однажды ночью ей приснилось, что она слышит их голоса; они зовут её, они кричат ей из пучины житейского моря, и она пускается в путь, уходит далеко-далеко и в то же время всё-таки как будто не выходит из отцовского дома. Братьев она так и не встречает, но в руке чувствует какое-то пламя, которое, однако, не жжёт её… В руке у неё сверкающий драгоценный камень, и она приносит его отцу! В первую минуту по пробуждении ей показалось, что она всё ещё держит камень в руке, но оказалось, что рука её крепко сжимала прялку. В долгие бессонные ночи она беспрерывно пряла, и на веретене была намотана нить тоньше той, что прядёт паук; человеческим глазом нельзя было и разглядеть её. Но девушка смачивала нить своими слезами, и нить становилась крепче якорного каната.







