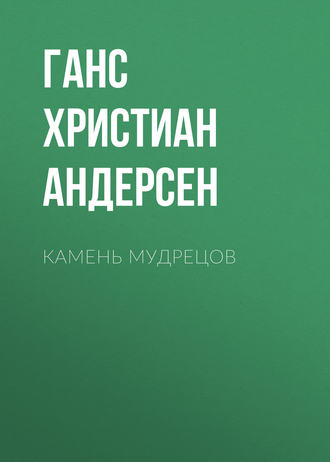
Ганс Христиан Андерсен
Камень мудрецов
– Да, надо мне хорошенько взяться за дело! – подумал он и взялся.
Но пока он доискивался истины, явился дьявол, отец лжи и сам ложь. Он бы с удовольствием выцарапал провидцу оба глаза, но это был бы уж слишком резкий приём, дьявол обыкновенно приступает к делу более тонко. Он оставил провидца отыскивать истину, да разглядывать добро, но пока тот разглядывал, вдунул ему сучок сперва в один глаз, а затем и в другой, ну, а это не послужит в пользу никакому зрению, даже самому острому! Потом дьявол принялся раздувать сучки в брёвна, и тогда – прощай зрение! Провидец очутился на торжище жизни слепым, и не хотел довериться никому. Теперь он стал иного мнения о свете, отчаялся во всём и во всех, даже в самом себе, а раз человек дошёл до такого отчаяния – он пропал.
– Пропал! – запели дикие лебеди, улетая на восток.
– Пропал! – защебетали ласточки, тоже направлявшиеся к востоку, к солнечному дереву.
Недобрые вести дошли до дому.
– Провидцу, как видно, не повезло! – сказал второй брат. – Авось мне, с моим чутким слухом, посчастливится больше!
У него из всех чувств особенно изощрён был слух; он слышал, как растёт трава, – вот до чего дошёл!
Сердечно распрощавшись с семьёй, отправился применить к делу свои богатые дарования, осуществить свои добрые намерения и второй брат. Ласточки провожали его далеко-далеко, а лебеди указывали путь. Наконец, он очутился среди людской толпы.
Вот уж правда говорится, что «хорошенького – понемножку». Слух у него, был, ведь, до того богат, что он слышал, как растёт трава, различал биение человеческого сердца в минуты радости от биения его в минуты горя, слышал вообще каждое биение всех сердец, так что свет представился ему огромною мастерскою часовщика, где тикают и бьют часы всех сортов, и маленькие, и большие. Сил не было вынести эту стукотню! А он всё-таки слушал в оба уха, пока мог, но, наконец, совсем обезумел от людского шума и гама. Ещё бы! Чего стоили одни уличные шестидесятилетние мальчишки – годы тут, ведь, не причём – горланившие во всю мочь! Ну, да это-то ещё было только смешно, но потом, на смену простому крику и гаму, являлась сплетня и, шипя, ползла по всем домам, улицам, переулкам и дальше по большой дороге. Наконец, громогласно раздавалась ложь и верховодила всем, а шутовские бубенчики звенели, как будто были церковными колоколами. Нет, это было уж слишком! Он заткнул себе уши пальцами, но всё продолжал слышать фальшивое пение и злые речи. Языки людские не знали удержу, мололи всякий вздор, болтали без умолку о выеденном яйце, так что добрые отношения между людьми трещали по всем швам. Шум и гам, трескотня и стукотня, и внутри, и снаружи – ужас! Ничьих сил не хватило бы вынести всё это! Просто с ума можно было сойти. И второй брат запускал пальцы в уши всё глубже и глубже пока, наконец, не прорвал барабанной перепонки. Теперь уж он стал глух ко всему, даже к добру, истине и красоте. Он присмирел, стал подозрительным, не доверял никому, под конец – даже себе самому, а это большое несчастье. Не ему было отыскать и принести домой драгоценный камень! Он и махнул на свою задачу рукой, махнул рукой на всех и всё, даже на самого себя, а уж хуже этого нет ничего. Птицы, летевшие на восток, принесли о том весть на родину его, в за́мок солнечного дерева, но письма от него никакого не пришло, да и почта-то в те времена ещё не ходила.
– Теперь я попытаю счастья! – сказал третий брат! – У меня есть нюх!
Не особенно-то изящно он выражался, но таков уж он был, таким надо его и брать. Он отличался весёлым нравом и был поэтом, настоящим поэтом. Он мог спеть всё, чего не мог высказать. О многом он догадывался куда раньше, чем другие.
– Уж такой у меня нюх! – говорил он, и правда, обоняние было у него развито в высшей степени; это чувство играло, по его мнению, весьма важную роль в царстве прекрасного. – Одному приятен аромат яблони, другому аромат конюшни! – говорил он. – Каждая область ароматов в царстве прекрасного имеет свою публику. Одни люди чувствуют себя, как дома, в кабачке, дыша воздухом, пропитанным копотью и чадом сальных свеч, запахом сивухи и табачным дымом, другие предпочитают одуряющий аромат жасмина, или умащают себя крепким гвоздичным маслом, – а это хоть кого прошибёт! Третьи, наконец, ищут свежего морского ветерка, свежего воздуха, взбираются на вершины гор и смотрят оттуда вниз на мелочную людскую сутолоку!
Да, вот как рассуждал он. Казалось, он имел уже случай пожить в свете между людьми и узнать их, а на самом-то деле эти познания были результатом его внутренней мудрости, – он был поэтом. Господь одарил его поэтическим чутьём при самом рождении.
И вот, он простился с родными и, выйдя за черту отцовских владений, сел на быстроногого страуса, который мчится куда быстрее коня, а потом, увидав стаю диких лебедей, пересел на спину к самому сильному, – он любил перемену. Перелетев море, он очутился в чужой стране, где расстилались огромные леса, сверкали глубокие озёра, возвышались высокие горы и роскошные города. И куда он ни являлся – всюду словно восходило солнышко, каждый кустик, каждый цветочек начинал благоухать сильнее, почуяв приближение друга, защитника, который оценит и поймёт аромат их. Даже зачахший, всеми забытый, розовый куст расправил ветви, развернул листики, и на нём распустилась чудеснейшая роза. Всякому она бросалась в глаза, даже чёрная, скользкая лесная улитка, и та заметила её красоту.
– Я хочу отметить этот цветок! – сказала улитка. – Ну, вот, теперь я плюнула на него, – большего я уж не могу сделать.
– Вот что бывает на этом свете с прекрасным! – сказал поэт, сложил о том песню и пропел её, как умел, но никто даже и не прислушался.
Тогда он дал барабанщику два скиллинга и павлинье перо, и велел ему переложить песню для барабана, да пробарабанить её по всему городу, по всем улицам и переулкам. Тогда люди услышали песню и объявили, что поняли её, – в ней, дескать, замечательно глубокий смысл! Теперь поэт мог продолжать слагать и петь свои песни. Он пел об истине, добре и красоте, и его слушали и в кабачках, где чадили сальные свечи, и на свежем воздухе в поле, в лесу и в открытом море. Казалось, что этому брату повезло больше, чем первым двум, но дьявол этого не потерпел, живо явился и начал воскурять перед ним фимиам самый крепкий и благовонный, какой только может изготовлять из всех существующих на свете сам дьявол. А уж он мастер добывать такой удушливый фимиам, от которого закружится голова у любого ангела, не то что у бедного поэта. Дьявол знает, чем пронять человека! Поэта он пронял фимиамом, – бедняк совсем утонул в волнах его, забыл свою миссию и родину, всё, даже себя самого, – всё поглотил дым фимиама!







