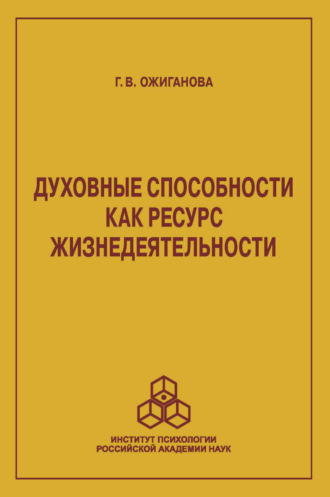
Галина Ожиганова
Духовные способности как ресурс жизнедеятельности
Критерием выделения высших способностей является духовное основание, близость к духовному Я, являющаяся результатом ухода от Я эгоцентричного (по аналогии с движением от наличного Я к духовному Я у Т. А. Флоренской или с восхождением по ступеням развития личности у Б. С. Братуся – от эгоцентрического уровня к высшему духовному). О существовании духовного Я, в первую очередь, свидетельствует голос совести (Флоренская, 1996; Хайдеггер, 2006).
Таким образом, психологические исследования духовных способностей, включающих выделенные нами высшие способности (моральные, рефлексивные, саморегулятивные, творческие, трансцендентные) и способность к саморазвитию, на наш взгляд, значительно расширят предметное поле современной психологической науки, позволят открыть новые ракурсы изучения интеллектуальных и творческих способностей, а также обогатить содержание традиционного психологического понятия «способности человека».
1.4. Методологические основания научного исследования духовности и духовных способностей
Современное общество все чаще сталкивается с вопросом, что такое духовность. Оно пытается осмыслить этот феномен то в связи с небывалым экономическим и технологическим ростом и пресыщением материальными благами, ведущим к деградации духовности, к внутреннему опустошению, утрате жизненных смыслов и ориентиров; то, наоборот, в связи с финансовым кризисом, когда люди, оказавшись за бортом успешной социальной жизни, сталкиваются с проблемой эффективного совладания в трудных ситуациях и возникает острая необходимость использовать духовные ресурсы и способности. В этих условиях человек вынужден погружаться внутрь себя, прибегать к рефлексии своих жизненных целей, установок, возможно, к пересмотру ценностно-нравственных позиций и, главное, приходить к пониманию, что бытие не ограничивается только материальным самообеспечением, а существует и сфера духовной жизни, связанная с духовными способностями личности.
Повышенный интерес к исследованию внутреннего духовного мира человека наблюдается в последнее время у ученых-психологов, которые стремятся включить духовную тематику в предметное поле психологической науки.
В настоящее время, согласно В. В. Знакову (Знаков, 2005), выделяются четыре направления психологического изучения духовности – религиозное, культурологическое, психологическое и философско-психологическое, в которые вписываются отечественные исследования:
1. Религиозное направление. Изучается духовная жизнь, связанная с религиозной направленностью личности, – например, высший уровень развития человека в рамках христианской психологии (С. Л. Франк, Б. С. Братусь, Т. А. Флоренская и др.).
2. Культурологическое направление. Духовная культура рассматривается как высшее проявление человеческого духа: духовное богатство личности связано с приобщением к сумме культурных ценностей, созданных человечеством; ведется изучение духовной активности субъекта, связанной с опредмечиванием идей, с творчеством; уделяется внимание этическим, юридическим, эстетическим нормам, выработанным на основе высших образцов человеческой культуры (В. В. Знаков, В. Ф. Петренко, В. А. Пономаренко и др.).
3. Психологическое направление. Исследуются ситуативные и личностные факторы, способствующие возникновению у человека духовных состояний, связанных с осознанием и переживанием высших духовных ценностей (В. А. Пономаренко, А. О. Прохоров, В. Д. Шадриков и др.). К этому же направлению можно отнести недавно появившиеся работы, связанные с изучением духовности в качестве предмета психологического исследования, которые ориентированы на раскрытие психологической сущности, характеристик и структуры духовности, на выявление психологических основ духовного развития и становления личности и т. д. (И. М. Ильичева, Н. А. Коваль, Н. В. Марьясова и др.).
4. Философско-психологическое направление. Изучаются духовные влечения субъекта, связанные со стремлением к постижению истины, основанные на религиозных, эстетических, этических ценностях, воспринимаемых им как абсолютные, при этом духовность рассматривается как принцип саморазвития и самореализации человека, обращение к высшим ценностным инстанциям конструирования личности. К этому направлению Знаков относит таких исследователей, как Г. А. Балл, Е. И. Исаев, В. И. Слободчиков, К. Ясперс и др. Философско-психологический аспект духовности в том или ином ракурсе рассматривается в работах отечественных психологов К. А. Абульхановой, Р. М. Грановской, В. П. Зинченко, В. А. Кольцовой, Д.А. Леонтьева и др.
Выделение этих четырех направлений исследований свидетельствует о сложности и многогранности самого феномена «духовность» и в связи с этим – о высокой проблематичности его изучения в рамках психологической науки из-за отсутствия четко сформированного понятийного аппарата, который мог бы отразить в единстве и целостности разнообразие проявлений духовности.
Представляется необходимым обосновать возможность включения духовной проблематики в психологическую науку и наметить предпосылки интегрального подхода изучения сложного уникального психологического феномена, коим является духовный мир, духовность личности, раскрывающаяся в духовных способностях.
Итак, рассмотрим методологические основания возможности изучения феномена духовности в рамках современной науки. Отметим, что в настоящее время для этого возникли объективные условия.
Сегодня научное знание приобретает не только новые черты и формы, но и, по мнению ряда ученых, новый идеологический фундамент: «мы являемся свидетелями новых радикальных изменений в основаниях науки. Эти изменения можно охарактеризовать как четвертую глобальную научную революцию, в ходе которой рождается новая постнеклассическая наука», – пишет В. С. Степин (Степин, 2000, с. 625).
В современной науке ведущую роль начинают играть междисциплинарные и проблемно-ориентированные формы исследовательской работы. Междисциплинарная ориентация постнеклассической науки обусловлена сложностью, сверхсложностью и уникальностью исследуемых системных объектов. При узкодисциплинарном подходе их изучение в рамках отдельных дисциплин осуществляется лишь частично, фрагментарно. Системность сложных объектов подлежит выявлению лишь при интегративных подходах, в рамках междисциплинарных исследований.
В. С. Степин отмечает тенденцию сращивания в единую систему деятельности теоретических и экспериментальных исследований, прикладных и фундаментальных знаний, усиление прямых и обратных связей между ними, углубление взаимодействия принципов и представлений картин реальности, формирующихся в различных науках. Объединение их усилий позволяет составить из фрагментов целостную общенаучную картину мира.
С точки зрения А. Л. Журавлева, «реализация принципа междисциплинарности нередко, а иногда и даже незаметно для самих исследователей, постепенно становится одним из критериев оценки уровней фундаментальности, масштабности и современности того или иного исследования, причем независимо от отрасли науки» (Журавлев, 2007, с. 17).
Степин выделяет и другую важную особенность сегодняшнего научного знания, обусловленную тем, что «объектами современных междисциплинарных исследований все чаще становятся уникальные системы, характеризующиеся открытостью и саморазвитием. Такого типа объекты постепенно начинают определять и характер предметных областей основных фундаментальных наук, детерминируя облик современной, постнеклассической науки» (Степин, 2000, с. 627). Уникальность, историчность, эволюция и вариабельность системного комплексного объекта диктуют необходимость использования особых способов его описания и научного изучения, что приводит к изменению идеалов и норм исследовательской деятельности. Уникальные развивающиеся системы требуют новых методологических установок и создания особых исследовательских стратегий и методов.
Итак, постнеклассический период характеризуется тем, что в поле зрения науки наряду с явлениями воспроизводимыми, повторяемыми и регулярными включаются также и разного рода отклонения от привычных правил, выходящие за рамки выработанных и устоявшихся в науке норм, феномены уникальные и необъяснимые с точки зрения сциентизма. Естественнонаучный подход, основанный на узкодетерминистской традиции научного материализма, является недостаточным, чтобы уловить некоторые глубинные, фундаментальные принципы бытия.
В результате изучения различных сложно организованных, сверхсложных и уникальных систем, способных к самоорганизации и саморазвитию (от физики и биологии до экономики, истории, социологии и психологии), в дополнение к краеугольным принципам классической науки, – таким, как простота, устойчивость, детерминированность, – приходят идеи многомерной сложности, вероятности, изменчивости. Формируется нелинейное мышление, связанное с новой эрой науки – допущением существования «картины мира», включающей такие признаки, как неравновесность, вариативность, необратимость, многослойность.
С другой стороны, интегративная направленность современной науки позволяет преодолевать фрагментарность знания и, включая новые методологические установки, двигаться в сторону унификации, создания целостной картины мира, к достижению уровня панорамного мышления, позволяющего увидеть и постичь универсальность и единство во всем многообразии проявлений бытия.
Еще одна особенность современной науки связана, согласно Степину, с тем, что научное познание включается в социокультурный и исторический контекст и соответственно соотносится с определенными ценностями и мировоззренческими установками. Таким образом, речь идет об относительности и исторической изменчивости не только онтологических постулатов, но и самих идеалов и норм познания. Например, в настоящее время меняется содержание категорий пространства и времени (берется в расчет историческое время системы, рассматривается иерархия пространственно-временных форм), категорий возможности и действительности (речь идет о множестве возможных линий развития в точках бифуркации), категории детерминации (принимается, что предшествующая история определяет избирательное реагирование системы на внешние воздействия) и пр. (Степин, 2000).
Выделяя постнеклассический тип научной рациональности, Степин отмечает, что постнеклассическая наука позволяет расширить возможности рефлексии по отношению к самой научной деятельности, а также соотносить получаемые знания об объекте не только с особенностью средств и операций деятельности, но и с ценностно-целевыми структурами. При этом устанавливается и объясняется связь внутринаучных целей с вненаучными, социальными ценностями и целями.
Новый тип современного знания характеризуется учетом факторов субъективности, уникальности, гуманистической направленностью, пересмотром классических критериев истинности и научности, что ведет к изменению идеала ценностно-нейтрального исследования: «Объективно истинное объяснение и описание применительно к „человекоразмерным“ объектам не только допускает, но и предполагает включение аксиологических факторов в состав объясняющих положений…» (там же, с. 631–632).
Резюмируя актуальные тенденции развития научного знания, можно сказать: «Современная наука – на переднем крае своего поиска – поставила в центр исследований уникальные, исторически развивающиеся системы, в которые в качестве особого компонента включен сам человек. Требование экспликации ценностей в этой ситуации не только не противоречит традиционной установке на получение объективно-истинных знаний о мире, но и выступает предпосылкой реализации этой установки. Есть все основания полагать, что по мере развития современной науки эти процессы будут усиливаться. Техногенная цивилизация ныне вступает в полосу особого типа прогресса, когда гуманистические ориентиры становятся исходными в определении стратегий научного поиска» (с. 635).
Обозначенные изменения парадигмы современного научного познания не замедлили сказаться на развитии психологии.
Принцип междисциплинарности, способствующий интеграции знания, изначально присущ психологической науке. Сегодня он приобретает особую актуальность для психологических исследований в связи с разработкой новых концепций и направлений в естествознании, прежде всего – в физике (квантовая теория, концепция неравновесной термодинамики), благодаря новым высоким достижениям в области нейробиологии и генетики, а также сближению культур Запада и Востока и, следовательно, притоку новых знаний, в особенности философско-экзистенциального характера.
Важнейшую роль в реализации принципа междисциплинарности в психологии играет усилившаяся в последнее время культурологическая ориентация научных исследований, позволяющая включать в предмет психологического изучения философию, религию, искусство, обычаи и культурные традиции разных народов. Она предполагает движение исследовательской мысли как по горизонтали (синхроничность – одновременное протекание событий, анализ одного временного периода), охватывая отдельно взятую культуру, а также всевозможные виды компаративных психологических исследований различных культур, так и по вертикали (диа-хроничность – развернутость событий во времени) – историко-психологическое изучение культурных слоев различных эпох, народов и цивилизаций, в том числе древних. При изучении сложных форм человеческого поведения, к которым, безусловно, относятся духовные проявления, в современной науке все большее значение приобретают кросс-культурные психологические исследования, использующие холистический подход (Мацумото, 2003).
В фокус научного исследования попадают древние системы психологического знания, – например, отраженные в памятниках древнерусской культуры. Учеными проводится реконструкция духовного облика людей прошлых эпох. Так, на основе «Повести временных лет» (XI в.) изучаются высказывания о личностных качествах человека в связи с прогнозированием его поступков. Отмечается, что «в сознании безымянного автора текста оказалась отрефлекси-рованной идея о связи личностных свойств и личностных реакций в типичных… обстоятельствах» (Климов, Носкова, 2002, с. 268–269).
По мнению В. А. Кольцовой, в русле историко-психологических исследований культурологическая направленность имеет особую ценность и открывает возможность для включения в научный анализ широких пластов психологического знания, содержащегося в житейских психологических представлениях, в мифологии, отраженного в религии и искусстве. Кольцова отмечает, что «исследование различных вненаучных форм развития психологического познания служит убедительным подтверждением их огромной роли в изучении психического мира человека», что «отказ от изоляционизма науки, исторически исчерпавшего себя, и реализация ее культурологической ориентации обеспечивают «открытие новых горизонтов и точек роста научного знания» (Кольцова, 2004, с. 389).
При этом особую важность в связи с психологическим изучением духовности и духовных способностей приобретает духовнорелигиозная психология, – например, представленная в работах русских философов Н. А. Бердяева, Б. П. Вышеславцева, И. А. Ильина, В. С. Соловьева, С. Л. Франка и др., а также зарубежная духовнофилософская мысль, особенно древневосточные системы знания, содержащие ценную информацию о психопрактиках, ориентированных на самосовершенствование человека. Так, благодаря реализации принципа междисциплинарности и все усиливающейся культурологической направленности научных исследований создаются условия для обогащения психологической науки.
Интегративные тенденции в психологии на разных уровнях подробно анализируются А. В. Юревичем. Представляется весьма перспективной предлагаемая им модель интеграции, согласно которой в равной степени легитимные и адекватные основные психологические подходы, прошедшие естественный отбор в истории психологической науки, объединяются в единую систему психологического знания на основе наведения между ними «мостов» и «переходов» (Юревич, 2003).
Системность объекта исследования, связанная со сложностью, уникальностью, открытостью и саморазвитием, также присуща психологии: ведь человек, по мнению Б. Ф. Ломова, – это «сложнейшая из известных науке систем, обладающая уникальными характеристиками, и прежде всего способностью к саморегуляции… Трудно назвать другую систему – объект научного исследования, – сопоставимую по уровню сложности с человеком» (Ломов, 1999, с. 59). В связи с изучением человека речь идет даже не о системной сложности, а скорее, о полисистемности и, может быть, сверхсистемности. Так, согласно В. Франклу, «человек – это больше, чем психика: человек – это дух» (Frankl, 1967, p. 63).
По мнению Д. А. Леонтьева (Леонтьев, 2007), в психологии наблюдается отход от классической модели и движение в сторону признания уникальности человека и его сознания как объекта изучения, что диктует необходимость разработки гуманитарной методологии, в русле которой личность рассматривается как активный субъект, самосозидающий и самодетерминируемый, который способен быть источником и причиной своих действий.
Анализируя тенденции развития современной психологической науки, Леонтьев отмечает следующие векторы ее трансформации: от поиска знания к социальному конструированию; от монологизма к диалогизму; от изолированного индивида к жизненному миру; от детерминизма к самодетерминации; от потенциализма к экзистенциализму; от количественного подхода к качественному; от констатирующей стратегии к действенной. Выделенные векторы явно свидетельствуют о движении в сторону новой гуманитарно-ориентированной методологии.
Согласно В. Ф. Петренко, в современной психологии все большее значение приобретает гуманитарная субъект-субъектная парадигма, которая, по сути, является интерпретационной, понимающей. Он пишет: «В гуманитарной парадигме познаваемое – другой человек. не является жестко детерминируемой системой, подчиняющейся строгим законам, а обладает внутренним развитием. и свободой воли и выступает не равным, не тождественным самому себе в каждый новый момент времени. Чем более развитой является система, тем больше степеней свободы она имеет» (Петренко, 2007, с. 126), т. е. человек реализует любую из существующих многочисленных возможностей в каждый момент времени.
Таким образом, «человек обладает возможностью как выбора, так и открытия новых творческих форм сознания, которые заведомо не могли быть известны исследователю» (там же). Поэтому применительно к исследованию личности некорректными являются модели, основанные на принципе жесткого детерминизма. Автор предлагает описание через картину мира человека систему ценностей или мотивов, которые он использует в своем планировании «потребного будущего» или в процессе принятия решения (там же). Таким образом, учитывается субъективность, уникальность, неисчерпаемость внутренних возможностей и свободы развития человека.
Изучение уникальности сложно организованного развивающегося системного объекта обусловливает формирование новых методологических установок, подходов и особых методов исследования в психологии. В этой связи можно назвать такое направление, как холистическая психология (К. Уилбер, Р. Уолш, Г. Хант и др.), в рамках которой, по мнению В. И. Кабрина, «восстанавливается уверенность ученых в возможности непосредственного понимания живого психологического опыта и непосредственной работы с ним (медитация, управляемое воображение, различные виды рефлексии в альтернативных состояниях сознания); возвращаются представления о „тонкой“ – эйдетической, смысловой, ноэтической – организации мира и интимной причастности ей человека» (Кабрин, 2007, с. 406). Кабрин, сам являясь сторонником холистического подхода, говорит о необходимости целостного, нередуктивного понимания душевной жизни в связи с релевантностью объяснения специфики психического в контексте духовно-душевно-телесного соответствия.
Предлагая и обосновывая важность транскоммуникативного подхода, он реабилитирует понятие «трансцендентность», остававшееся долгое время за пределами научного психологического изучения. Трансцендентный фактор получает легализацию в рамках современного научного знания. Например, он может проявляться в безразмерности или сверхмерности психологического пространства (мотивационного, воображаемого, мыслимого), в трансцендентности психологического времени (взаимной трансформации прошлого, настоящего, будущего, предвосхищении и чувстве вечности) по сравнению с измеряемым физическим временем (Кабрин, 2007). Таким образом, возникают предпосылки не только изменения (расширения) содержания категорий пространства и времени, но и появления новых понятий и категорий в поле зрения психологической науки.
О новой эпохе в развитии научного познания, его новых тенденциях и направленности говорят и зарубежные ученые.
Важным шагом в создании новых подходов, противостоящих материалистическому редукционизму, стала сантьягская теория. Согласно ее создателям У. Матуране и Ф. Вареле, познание – это не отражение независимо существующего объективного мира, а постоянное конструирование мира в процессе жизнедеятельности. Они предлагают рассматривать познание не как представление мира «в готовом виде», а скорее как непрерывное сотворение мира через процесс самой жизни (Матурана, Варела, 2001). Они считают, что мир, который видит каждый из нас, – это не Мир. Мир – это то, что конструируется нашими совместными усилиями. Таким образом, благодаря сантьягской теории, акцентируется изучение не внешне проявляемого поведения, объективно наблюдаемого ученым, а исследование внутреннего, сознательного опыта, состояний сознания.
Оценивая вклад теории, предложенной Матураной и Варелой, в развитие научного знания, Ф. Капра пишет: «Нежелание ученых иметь дело с субъективными феноменами – часть нашего картезианского наследия. Фундаментальное декартово разделение между разумом и материей, между „я“ и миром привело нас к убеждению в том, что мир может быть описан объективно, т. е. без какого-либо упоминания о наблюдателе-человеке. Такое объективное описание стало идеалом для всей науки. Однако спустя три века после Декарта квантовая теория показала, что для описания явлений атомного масштаба идея объективной науки неприменима. А совсем недавно благодаря сантьягской теории познания стало ясно, что познание как таковое – это не отражение некоего независимо существующего мира, а „рождение“ мира в процессе жизнедеятельности» (Капра, 2004, с. 64–65).
Следовательно, развитие научного знания, стремление изучать и объяснять сверхсложные объекты и феномены – например, такие, как сознание – привело к пониманию того, что «сфера субъективного всегда неявно присутствует в научной практике, но, как правило, не является ее явной целью. В науке же о сознании, наоборот, даже часть исходных данных – это субъективные, внутренние переживания. Накопление и систематический анализ данных такого рода требует аккуратного изучения субъективного личного опыта» (там же, с. 65).
Итак, обозначилась ориентация современной науки на изучение факторов субъективности и уникальности, охватывающих целый круг сложных психологических феноменов, процессов и состояний, которые связаны со сферой сознания, самосознания, бессознательного, сверхсознания, c альтернативными состояниями сознания, а также с внутренним опытом, диапазоном скрытых возможностей и способностей человека, включая субъективную картину мира и ценностно-смысловые ориентиры, определяющие поведение человека.
Новые тенденции в современной психологии позволили вплотную подойти к научному изучению такой сложнейшей проблемы, как духовность.
Очевидно, что при изучении духовности в рамках психологической науки неизбежен принцип междисциплинарности: сложность предмета диктует необходимость интеграции таких отраслей знания, как религиоведение, культурология, философия, история, социология, этика, эстетика, психология и др. (макроуровень), а также интеграции самих психологических дисциплин: психология личности, психология способностей, психология сознания и др. (микроуровень).
Такие возможности открывает современная постнеклассическая парадигма, создающая условия для плодотворных научных исследований психологии духовности и позволяющая выделить следующие предпосылки интегрального изучения духовного мира личности и ее духовных способностей:
• реализация междисциплинарного подхода в исследованиях, что ведет к составлению целостной картины изучаемого явления;
• изучение объектов, представляющих собой сложные системы, системность которых можно отразить лишь при интегративных подходах, в рамках междисциплинарных исследований;
• выделение в качестве объекта исследования уникальных, открытых, сверхсложных саморазвивающихся систем, фрагментарное изучение которых не позволяет адекватно отразить их суть;
• пересмотр классических критериев истинности и научности в связи с изучением уникальности сложно организованного развивающегося системного объекта и признание необходимости новых методологических установок, подходов и методов для его исследования, возможности введения новых понятий и категорий;
• изменение идеала ценностно-нейтрального исследования: выделение аксиологического фактора в качестве легитимного каузального конструкта и включение его в число объясняющих положений исследования. Это позволяет проводить наряду с количественными исследованиями качественные, уточнять, углублять и дополнять научное представление об изучаемом сложном уникальном феномене и в результате интегрировать достижения идиографического и номотетического подходов.
Итак, постнеклассическая парадигма, характеризующаяся четкой гуманистической направленностью, создает условия для изучения человека во всей его сложности и уникальности, позволяет включить исследования многообразного духовного мира личности в научное пространство. При этом открываются возможности использования интегрального подхода, гуманитарно-ориентированной методологии, модели интеграции, при помощи которых становится доступным научное изучение психологии духовности и целостное отражение многомерности, уникальности, открытости и саморазвития системы духовной жизни личности посредством понятий «духовный интеллект» и «духовные способности».
Постнеклассическая парадигма современной науки позволяет рассматривать такую сверхсложную и уникальную систему, как духовный мир личности, и изучать феномен духовности на основе принципа междисциплинарности, а также интегрального, холистического подхода. В этой связи, на наш взгляд, особое значение приобретает психологическое изучение духовных способностей, отражающих различные аспекты духовности и таким образом – всю сложность и многосторонность изучаемого феномена духовности. Кроме того, объемность психологического понятия «способности» позволяет создать некую целостную картину при изучении духовности в рамках психологии.
В настоящее время духовные способности активно изучаются зарубежными исследователями, которые при этом широко используют понятие «духовный интеллект». Обратимся к рассмотрению концепций духовного интеллекта.






