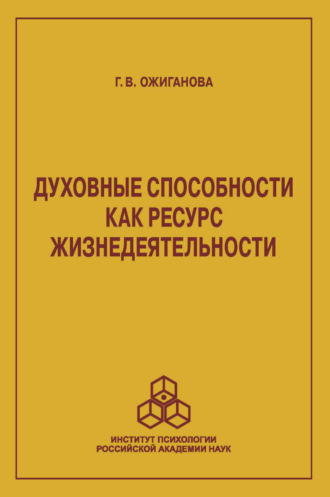
Галина Ожиганова
Духовные способности как ресурс жизнедеятельности
В. Д. Шадриков выделяет специальные духовные способности и рассматривает их в качестве способностей человека как субъекта деятельности и отношений в единстве с нравственными качествами человека как личности. Он считает, что духовные способности неотделимы от нравственности и добродетельного поведения (Шадриков, 1998).
Итак, в российской науке складывается представление о духовности как некоей способности человека, неразрывно связанной с нравственностью, ценностями, жизненными смыслами, что создает благодатную почву для развития темы духовных способностей.
Можно сказать, что возрождение интереса к проблемам сознания в научной среде в конце прошлого столетия послужило стимулом для разработки вопросов духовности и создало предпосылки для психологического исследования таких новых для психологии понятий, как «духовный интеллект» и «духовные способности».
1.3. Духовность и духовные способности как предмет психологического исследования в отечественной психологии
Современная психологическая наука, развиваясь и расширяя свое предметное поле, проявляет все большее внимание к проблемам духовности.
В. В. Кольцова считает, что «введение в психологию проблемы духовности как особого высшего измерения человека, открывает возможности для нового понимания ряда ключевых психологических проблем – личности, общения, отношений человека к миру, другим людям и себе, психического здоровья и др.» (Кольцова, 2004, с. 317).
Так, проблема духовности может рассматриваться в психологии в контексте высших устремлений личности, ее направленности на решение предельных вопросов, связанных со смыслом человеческого существования и ценностями. Теоретические основы разработки этой проблемы были заложены в прошлом веке в трудах классиков зарубежной психологии (А. Маслоу, В. Франкла, Э. Фромма и др.) и русских философов (Н. А. Бердяева, Б. П. Вышеславцева, Н. О. Лосского, С. Л. Франка и др.) и продолжают развиваться в современной психологии. Рассмотрим представления о духовности в отечественной психологии.
Согласно Н. В. Марьясовой, духовность личности проявляет себя в системе отношений человека к миру, в которой ведущими смыслами выступают высшие духовные ценности – польза человечеству, альтруизм, движение к Богу, – позволяющие субъекту создавать специфически осмысленный текст своего бытия (Образ Мира). Она считает, что духовность является важным личностным образованием, которое выступает незаменимым фактором, определяющим процесс становления личности, и может рассматриваться как сущностное свойство человека, выполняющее такие функции, как ориентировочная, направляющая и смыслообразующая. Марьясова связывает духовность с определенной направленностью личности, которая обусловливает приоритет высших, духовных ценностей над витальными. Высшие переживания и высшие ценности выступают экзистенциальным признаком духовности, обеспечивающим «полную самоактуализацию» человека (в терминологии А. Маслоу) (Марьясова, 2004).
Рассматривая духовность в связи с религиозными аспектами человеческого бытия, Б. С. Братусь ставит вопрос о «потере» души научной психологией, о том, что «„душа“ при изучении ее учеными обернулась для них „психикой“, т. е. редуцированным пространством, из которого вычли метафизическое измерение и свет высшего смысла» (Братусь, 2000).
Он поднимает в связи с этим важную проблему, обусловленную морально-ценностным аспектом духовности. «Это проблема нормы, нормального развития человека. Критерием определения нормы стал психический, порой психофизиологический уровень развития, характер самого функционирования психики, ее адаптивность, приспособленность к миру, степень широты и качества удовлетворения потребностей и т. п. Образно говоря, стало главным, не куда человек стремится идти, а правильна ли и хороша ли его походка; не о чем он думает, куда направляет свои мысли, а эффективно ли работают его мыслительные процессы; не о чем он памятует, а какое количество единиц информации обрабатывает и запоминает. Разумеется, и это надо еще раз повторить, – нельзя сколь-нибудь принижать значимость этого функционирования, значимость аппарата психики, открытых учеными законов развития памяти, восприятия, мышления, эмоций и т. д. Но если это ставить во главу угла – не как средство, а как саму по себе цель развития, то жизнь человека теряет высшее измерение и редуцируется, сводится лишь к психическому процессу.
Ставшая „тенью тени“ душа перестает освещать психику, быть для нее источником света Христова, и немудрено, что в этих потемках легко оступиться, спутать добро и зло, не заметить черты между ними, поскольку действия в сторону того и другого могут осуществляться с помощью одних и тех же структур и способов функционирования психофизического и психологического аппарата. И если эти структуры, способы, формы эффективны, успешны, приносят удовлетворение, повышают самооценку, хорошо адаптируют к миру сему, – то они признаются нормальными, вне зависимости от того, к пользе или ко вреду души ведут осуществляемые действия и проявления» (Братусь, 2000).
В определении духовности в современном психологическом словаре прежде всего отражается высшее измерение человека: «Духовность – это высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, на котором основными мотивационно-смысловыми регуляторами ее жизнедеятельности становятся высшие человеческие ценности» (Психологический словарь on-line). Таким образом, духовность связана: а) с высшим уровнем развития человека; б) с высшим уровнем саморегуляции; в) со зрелостью личности; г) с ориентацией на высшие ценности.
Изучая проблему духовного Я понимающего мир субъекта, В. В. Знаков рассматривает психологические аспекты духовных состояний в их соотношении с глубинными структурами личности, с ценностными переживаниями, с высшими ценностями. Духовные состояния, по его мнению, возникают в акте понимания при сопоставлении понимаемого с ценностными представлениями субъекта, при соотнесении существующего (реального) с тем, что должно существовать (идеальным) (Знаков, 2005). Здесь в понимании духовности также отмечаются высшие уровни бытия человека, обусловленные высшими ценностями, идеалами.
Д. А. Леонтьев также предлагает рассматривать духовность как высший уровень развития человека, обусловленный саморегуляцией, присущей зрелой личности, и ориентацией на общечеловеческие и трансцендентные духовные ценности. Он подчеркивает, что истинная духовность определяется не декларативным знанием о том, как надо себя вести, а реальными действиями, поступками, поведением человека, не расходящимся с теми ценностями, о которых он говорит. «Из этого вытекает ключевое понятие, необходимое для понимания человеческой духовности как реального феномена, – понятие саморегуляции, понимаемой как система механизмов управления человеком собственным поведением. При некоторой условности и ограниченности этой трактовки, понятие саморегуляции – единственное объяснительное понятие, которое позволяет так концептуализировать на психологическом уровне ключевое для понимания духовности измерение „высокое-низкое“» (Леонтьев, 2005).
Он выделяет основные черты духовности как механизма саморегуляции, приводя слова А. Н. Леонтьева: «Во-первых, основанное на духовности действие всегда представляет собой поступок, т. е. „действие, судьба которого определяется не из наличной ситуации“» (Леонтьев, 2004, с. 202). Например, «подвиг – это действие парадоксальное, неоправданное с точки зрения низших биологических регуляторов, но уникальное, ценное и предельно осмысленное с точки зрения высших человеческих ценностей, интересов и внеситуативных регуляторов» (Леонтьев, 2005).
Во-вторых, согласно Д. А. Леонтьеву, «понятие духовности относится к поведению, побуждаемому не потребностями, а ценностями» (там же): поведение на уровне духовности определяется высшими ценностями, но не одной или несколькими, а целым веером ценностей, создающих возможности выбора. Эти ценности не иерархичны по отношению друг к другу и одинаково значимы, поэтому поведение человека не является предопределенным, его выбор оказывается свободным, альтернативным.
«Таким образом, – продолжает Д. А. Леонтьев, – духовность в самом первом приближении выступает как один из базовых „экзистенциалов“ зрелой личности, наряду со свободой и ответственностью (Франкл, 1990; Леонтьев, 1993). Измерение духовности открывается по мере личностного становления и созревания как возможность. Суть этого способа существования заключается в выходе за пределы иерархии узколичных потребностей в пространство, где ориентиром для самоопределения служит широкий спектр общечеловеческих и трансцендентных духовных ценностей. Неиерархические взаимоотношения между ними создают не предопределенность свободного выбора; сами эти ценности выступают в качестве смыслового основания «свободы для». Человек перестает быть изолированным индивидом, решающим эгоцентрические задачи эффективной адаптации к среде, и подключается к созидательной энергии надындивидуальных общностей или высших сил, выходя за свои собственные пределы и открываясь взаимодействию с миром на новом уровне» (Леонтьев, 2005). Таким образом, духовность в понимании Леонтьева связана со зрелостью личности, осуществляющей свободный и осознанный выбор жизненного пути, принимающей на себя ответственность за свои поступки и поведение в согласии и соответствии с высшими ценностями, выходя за пределы эгоцентрического Я.
Духовность часто ассоциируется с общественным и творчески-созидательным характером жизнедеятельности человека, с его включенностью в мир культуры.
В исследовании Н. А. Коваль духовность раскрывается как результат процесса приобщения личности к общечеловеческим ценностям и духовной культуре; служит ценностным стержнем личности; духовность отдельно взятой личности превращается в социальную ценность через самореализацию в окружающем мире. Она рассматривается автором как личностное образование, проявляющееся в таких феноменах, как духовное поле и духовное пространство индивида.
Согласно Н. А. Коваль, духовность как личностное образование существует в ортогональном двухвекторном пространстве. Одно измерение этого пространства охватывает понятие духа, сверхъестественной божественной сущности, теологическое толкование человеческой активности, религиозную идеологию служения Богу. Другой вектор связан с духовным развитием личности, нравственно-творческой деятельностью, служением человека истине, добру и красоте, внутренней направленностью, высвобождением личностных сил и свободной энергии человека, созидательно-преобразую-щими действиями человека, особым „духовным состоянием“ психики как формы отражения окружающей человека действительности, интеллектуальной субстанцией, светской ориентацией в служении человеку (Коваль, 1997).
Важными представляются идеи Коваль о формирующих факторах духовности, что связано с необходимостью особой среды – духовного пространства, в котором происходит взаимообмен духовными ценностями. Такое духовное пространство является значимым условием духовного становления личности. Духовное развитие в этой среде проявляется во все возрастающей духовной зрелости, обусловленной расширением представлений о духовности, активным применением духовных понятий, усилением влияния подлинно духовных факторов на поведение индивида, что ведет к растущей самореализации личности в процессе деятельности на благо людей. В ее исследовании на основании критериев духовного развития личности выявлена типология отношения к духовности в зависимости от того, насколько активно личность участвует в создании, распространении, утверждении духовных ценностей: созидающий, постигающий и индифферентный типы (Коваль, 1997).
Проблема духовного развития личности рассматривается И. М. Ильичевой. Она выдвигает следующие положения:
• духовное развитие совершается как активное отношение человека к своей жизнедеятельности в онтогенезе, к становлению своей объективной реальности;
• самосознание является фундаментальным условием саморазвития личности и достижения духовности;
• разнообразные связи человека с окружающим миром и другими людьми приводят к со-бытийности, в ходе которой возникает и разрешается противоречие между обособлением и отождествлением, что является движущей силой духовного развития;
• рефлексия является условием духовного развития, так как делает возможным осмысление собственной жизни и судьбы;
• фундаментальным условием духовного развития индивида является ответственность (Ильичева, 2006).
Духовность может определяться как феномен культуры и искусства, ассоциируясь с творчеством. В философском определении творчества, выдвинутом Г. С. Батищевым, оно наделено такими свойствами духовности, как ориентация на высшие ценности, бескорыстная самоотдача, служение Абсолюту; подчеркивается над-утилитарный характер творчества; отмечаются его трансцендентные возможности: «оно призвано преодолевать какие бы то ни было преходящие и конечные мерила («масштабы»), подниматься над любыми парадигмами, выходить за все пределы» (Батищев, 1997, с. 442).
Согласно Батищеву, «истинное творчество есть объективно ориентированное ценностное, над-функциональное служение, есть выполнение человеком своего космического призвания. Это открывает бесконечную перспективу конкретизации творческого призвания человека через посредство расширения и обогащения его аксиологического горизонта, через углубление его со-причастности беспредельной объективной диалектике» (там же, с. 441). В процессе творчества намечаются «перспективы исследования скрытых возможностей человека, но не ради безответственного и корыстного их использования, а ради ценностно ответственного совершенствования, в гармонии с критериями культуры общения и объективной диалектики вообще» (с. 444).
Духовность (религиозность) предстает как источник творчества в понимании А. А. Мелик-Пашаева. Он пишет: «Творчество как реализация „внутренней активности души“ воплощается в пространстве объективных факторов, материальных и иных причинно-следственных связей, принимает на себя их отпечатки, считается с ними, использует или преодолевает (или не преодолевает) их, но не ими вызывается к жизни и не ими определяется в своей существенной, содержательной направленности. В глубине его всегда присутствует дух, который „веет, где хочет“» (Мелик-Пашаев, 2011, с. 4).
В отечественной психологии духовность рассматривается также в связи с рефлексией, например, исходя из гуманитарно-культурологически ориентированного подхода, позволяющего изучать рефлексию как компонент духовной культуры (Коваль, Семенов, 1997; Семенов, Ставцев, 2001); профессиональной культуры (Аникина и др., 2002; Войтик, Семенов, 2001; Лаптева, Семенов, 2010), психологической культуры (Савенкова, Семенов, 2005).
Основываясь на указанном подходе, стало возможным исследовать влияние духовности на профессионализм: «Процесс духовного становления и самоопределения будущего профессионала может быть рассмотрен как рефлексивная деятельность субъекта, направленная на активное и творческое осмысление реальности, усвоение общечеловеческих ценностей на уровне их осознания и глубинного понимания. Достижение высших ступеней профессионального роста с необходимостью предусматривает высокую степень духовного развития в ходе сложного и противоречивого процесса приобщения к духовной культуре, ее понятиям, усвоения и реализации духовных ценностей» (Семенов, 2012, с. 134).
Так, И. Н. Семенов обращается к изучению различных аспектов духовного развития в русле психологии рефлексии в связи с преобразованием субъектом своей жизненной позиции по отношению к обществу, культуре, общечеловеческим ценностям (там же). Он провел эмпирическое исследование рефлексивности духовного самоопределения личности студентов, считая, что важным аспектом духовного развития будущего профессионала является рефлексивное взаимодействие в сознании человека его самосознания и мировоззрения. Это исследование было направлено на выявление особенностей вектора духовного развития будущего профессионала в зависимости от социокультурной среды. Используя рефлексивную модель, на основе кластерного и смыслового анализа экспериментальных данных Семенов выделил у испытуемых с высоким и умеренным уровнями развития духовного компонента самореализации четыре вектора духовного развития личности, проявляющихся в определении духовности через следующие группы понятий:
1. Гносеологическая группа, объединенная категорией познания, рационального осмысления окружающей реальности (самопознание, развитие, самость, размышление, изучение, исследование, уяснение, истинность и т. д.).
2. Аксиологическая группа. Испытуемые, интерпретирующие духовность, в своих определениях отдавали предпочтение понятиям, связанным с общечеловеческими и культурными ценностями (нравственность, истина, добро, красота, гуманизм, альтруизм, культурность и т. д.).
3. Социально-нормативные понятия, отражающие понимание духовности как гармоничного отношения с социальным окружением, освоения и присвоения социальных норм (общество, моральность, нормы, общежитие, сосуществование, цивилизация, социумность).
4. Понятия религиозного характера. Ряд испытуемых в своих определениях духовности отдавали предпочтение группе понятий, связанных с религиозностью (Бог, религия, божественность, духовенство, святость, религиозность).
В этом исследовании было также установлено, что на развитие рефлексивной способности к осмыслению духовных ценностей и воплощение их в деятельности, направленной на преобразование окружающей действительности, влияет и макросреда (регион, город), в рамках которой происходит духовная самореализация.
В ходе анализа экспериментальных данных были выявлены особенности тенденций в духовном развитии учащихся провинциального и столичного вузов. Наиболее ярко проявились различия по двум векторам духовного развития испытуемых – гносеологическому и религиозному. Было установлено, что в условиях провинциального города, где в большей степени присутствует приверженность к исконным традициям (сильны православные идеалы духовности в религиозном ее понимании, оказывающие воздействие на духовное развитие самоопределяющегося профессионала), наиболее ярко проявляется религиозная ориентация в процессе духовного самоопределения. В культурной же среде столицы, более разнообразной, насыщенной новациями, в большей степени выражены гносеологические тенденции в духовном самоопределении (Семенов, 2012, с. 139–140).
В ходе исследования был разработан и проведен тренинг рефлексивности для испытуемых с низким уровнем развития духовного компонента самореализации личности, направленный на более углубленное, рефлексивное осознание места духовных ценностей и работу над расширением мировоззрения (упражнения на повышение рефлексивности усвоения и принятия духовных ценностей; упражнения с элементами игрорефлексики; проблемные дискуссии на тему различных векторов духовного развития и их взаимосвязи). Результаты рефлетренинга свидетельствовали об эффективности рефлексивно-психологического обеспечения духовного развития студентов – будущих профессионалов.
Таким образом, данное исследование показало, что духовность может ассоциироваться с рефлексивностью, саморазвитием, ценностями, моральными нормами, религиозными представлениями, а также с повышением профессионализма.
Связь духовности с профессионализмом рассматривается В. А. Пономаренко. Он считает, что профессионализм – это высшая категория качества, которая не может быть раскрыта только служебными признаками профессии, а нуждается в установлении духовной основы. Пономаренко предлагает возвести духовное содержание профессии в ранг высшей ценности, так как знания, умения, навыки – это «прививаемые» рефлексы к способностям обучаемого – будущего профессионала, а духовность, которой он сам насыщает профессию, имманентно присуща ему (Пономаренко, 2004).
Обсуждая духовно-интеллектуальные основы профессионализма военного летчика, он пишет, что психологической причиной аварийности нередко являются «не собственно факты ошибок в управлении, а более высокие уровни: духовная обедненность личности обучаемого, шаблонность педагогических форм подготовки, неразвитость моральных и нравственных основ поведения при планировании уровня риска для подчиненных» (там же).
Безусловно, профессионалом считается человек, достигший высокого уровня мастерства благодаря накоплению знаний, умений и навыков, максимальному развитию способностей и профессионально важных качеств, обусловленных требованиями определенной профессии. Но, как подчеркивает В. А. Пономаренко, «психологической добавкой к профессионально важным качествам специалиста опасной (и любой другой – Г. О.) профессии является осознание, что профессиональные знания, умения, навыки не есть центральное звено личности, а лишь средство развития своих общечеловеческих возможностей и сущностных сил. Вот почему для опасных профессий профессионализм – категория человеческого бытия, представляющая систему личностных, мировоззренческих, деловых, профессиональных, моральных и нравственных качеств человека. Стержнем нравственного императива здесь является мораль подвижничества, для которой самосохранение не стоит на первом плане» (там же). Представители опасных профессий обеспечивают безопасность жизни и здоровья прежде всего другим людям, что и составляет нравственную основу их профессионализма.
Согласно Пономаренко, профессионализм связан с потребностью человека в преодолении себя, с возможностью пойти на риск ради блага других. Он говорит о нравственных ступенях развития летчика, которые ведут его к вершинам нравственной ценности защиты чужой жизни. Эти ступени связаны с такими качествами, как совесть, самодисциплина, жизнелюбие и воля.
Пономаренко считает, что личность профессионала сначала должна созреть внутри себя, во внутреннем человеке, и лишь затем на этой основе ею обретается социально значимая и профессиональная мотивация. Он пишет, что для летчика-профессионала «духовное пространство» – не метафора, а реальность его взаимоотношений с совестью, что состояние духа – основа надежности профессионала – достигается прежде всего благодаря самосовершенствованию, саморегуляции и саморазвитию.
Итак, В. А. Пономаренко, отмечая связь духовности с профессионализмом, в первую очередь, выделяет ее ценностно-нравственный аспект, подчеркивая необходимость ориентации на духовно-нравственное самосовершенствование в процессе становления профессионала.
Нам кажется, что сегодня эта тема особенно актуальна в связи с наблюдающейся депрофессионализацией в современном российском обществе и духовно-нравственной деградацией, когда главной ценностью и идеалом становится «человек успешный» – материально обеспеченный и обладающий высоким социальным статусом (властью над другими людьми и т. д.), ориентированный на само-возвеличивание благодаря богатству и власти, т. е. эгоцентричный.
Подчеркнем, что связь духовности и профессионализма необходима не только в опасных профессиях, но и во всех других, – например, учителя, врача, строителя и пр., – так как недобросовестное выполнение профессиональных обязанностей ведет к разрушению духовной основы личности и общества: обману, коррупции, агрессивности.
Кроме того, важно отметить, что необходимые для становления профессионала интеллектуальные способности (общие и специальные), имеющие духовную подпитку в виде таких духовно-нравственных качеств, как добродетельность, ответственность, сознательность, порядочность, добросовестность, разумность, высокая нравственность, а также таких ценностей, как истина, добро, красота, справедливость, гуманизм, альтруизм и др., развиваются и проявляются иначе, чем в случае отсутствия духовной опоры.
Таким образом, изучение содержания понятия «духовность» приводит к теме духовных способностей. Рассмотренные интерпретации понятия духовности в отечественной психологии, позволяют выявить такие аспекты в его определении, как ценностно-нравственный, рефлексивный, саморегулятивный, творческий, трансцендентный, а также ракурс, связанный с саморазвитием (ведущим к зрелости личности).
Эти аспекты, по нашему мнению, могут служить основой для выделения соответствующих духовных способностей: моральных, рефлексивных, саморегулятивных, творческих, трансцендентных, а также способности к саморазвитию.
Понятие способностей в современной психологии, в первую очередь, соотносится с интеллектуальными свойствами личности, а также с ее возможностями быть успешной в специфичных видах деятельности, требующих развития специальных способностей. Способности как индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого и ведущие к успешности выполнения деятельности (определение Б. М. Теплова), в основном исследуются изолированно от других качеств личности.
Выделение духовных способностей может свидетельствовать о целостном подходе к рассмотрению человека, когда интеллектуальная и духовная сферы личности пересекаются, ведь «способности не существуют вне определенных отношений человека к действительности» (Теплов, 1982, с. 134).
Рассмотрим, как введение понятия «духовные способности» в предметное поле психологической науки может повлиять на ракурс рассмотрения таких понятий, как интеллектуальные и творческие способности.
Традиционным в психологии способностей является изучение общих и специальных способностей. Спирмен выделил общую способность, обусловливающую успех любой интеллектуальной работы (фактор G), и специальные способности (механические, арифметические и лингвистические), специфичные для определенной деятельности (фактор S). Существуют факторные модели интеллектуальных способностей (Д. Векслера, Д. Равена, а также Р. Амтхауэра и др.), эксплицитно или имплицитно выделяющие общий интеллект (фактор G по Спирмену) и специальные интеллектуальные способности (основные групповые факторы, по терминологии Спирмена): пространственные, числовые, вербальные. Эти модели пользуются большой популярностью в современной научной среде.
Помимо изучения интеллектуальных способностей, исследуются творческие способности, чаще всего определяемые в русле концепций Дж. П. Гилфорда и Е. П. Торренса как дивергентные способности.
Существует также направление изучения способностей, связанных с определенной профессиональной деятельностью: музыкальной, спортивной, педагогической, летной и пр.
Это многообразие направлений и исследований, тем не менее, не исчерпывает всего содержания понятия «способности человека».
В последнее время все больший интерес у ученых вызывает изучение не только познавательных способностей, определяющих успешность индивида в профессиональной сфере и в достижении высокого социального статуса, но и исследование духовного потенциала субъекта (В. В. Знаков), духовных способностей (В. Д. Шадриков), а также проявлений мудрости (Л. И. Анцыферова, М. А. Холодная, П. Балтес, У. Стаудингер). Так, когнитивно-ориентированный подход в изучении способностей может дополняться личностно-ориентированным, субъектно-деятельностным и др.
Таким образом, психологические исследования духовных способностей позволят открыть новые перспективы развития исследований традиционных психологических понятий интеллектуальных и творческих способностей.
По мнению В. Д. Шадрикова, «универсальность человека с духовными способностями обращает его внимание на такие стороны воспринимаемого мира, на которые обыкновенный человек никогда не обратит внимания, но именно необычный взгляд на действительность и раскрывает ее для духовного человека в новых ракурсах, проявляется в неожиданных выводах и творениях. Духовность проявляется в том, что действительность познается не только рационально, но и эмоционально, через переживания. Для духовно богатого человека все значимо, все находит чувственный отклик» (Шадриков, 1998, с. 56).
Отсюда следует, что духовные способности, связанные с ценностно-смысловой сферой субъекта, предполагают также такие свойства, как эмоциональность, вдохновенность, возможность выхода в иную плоскость или пространство при восприятии проблемных ситуаций, открытость новому опыту, чувство новизны, яркое воображение, самобытность, что говорит о включении креативного аспекта личности, творческих способностей. Духовные способности позволяют подняться на высшую ступень творчества, благодаря масштабности личности духовного субъекта, глубине восприятия им жизни, в основе чего лежит духовный опыт. Следовательно, духовные способности представляют общее, интегративное понятие, включающее в себя понятие «творческие способности».
То же самое относится и к понятию «интеллектуальные способности». Очень важным для психологической науки, на наш взгляд, является вывод В. Д. Шадрикова, касающийся влияния духовных состояний на саму организацию мыслительной деятельности, определяющей интеллектуальные способности. Он пишет: «Если сама способность мыслить есть свойство мозга, его особой организации, то мы можем сказать, что организация мозга во многом определяется состоянием (физиологическим и духовным), следовательно, в разных состояниях мозг может представлять разные сущности. И поэтому духовное состояние определяет и иную сущность мозга, другие его функциональные (интеллектуальные) возможности позволяют по-иному мыслить» (там же, с. 20).
Можно сказать, что, с одной стороны, духовные состояния, связанные с духовными способностями, влияют на интеллектуальные способности, обусловливают их особым образом, открывая возможности их высших проявлений и сверхинтеллектуальной деятельности, с другой – духовные способности выступают как высшая ступень общих способностей, свидетельствуя о высшем уровне развития человека.
Шадриков отмечает: «В духовных способностях индивид возвышается над обычными способностями. Духовные способности вырастают из общих способностей. Это высшая стадия развития способностей. Духовные способности – это способности духовного состояния, которое формируется на основе духовных ценностей личности» (там же, с. 28).
Итак, духовные способности могут рассматриваться как высшие способности человека, и выделенные нами такие духовные способности, как моральные, рефлексивные, саморегулятивные, творческие, трансцендентные и способность к саморазвитию, можно отнести к высшим способностям, что вытекает также из проведенного анализа концепций духовности, признаваемой всеми авторами высшим измерением человека.






