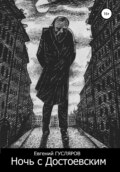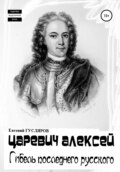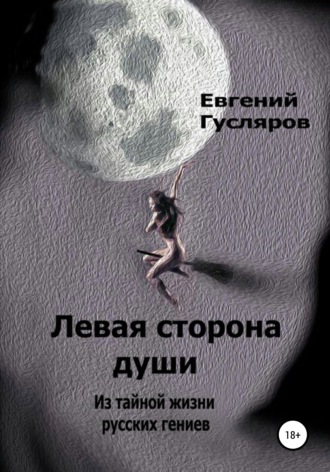
Евгений Николаевич Гусляров
Левая сторона души. Из тайной жизни русских гениев
Самоубийство Пушкина
Наступил последний тридцать седьмой год Пушкина. Разительно отличается этот Пушкин от того, которого узнали мы по тем дуэльным эпизодам, которые только что описали. У нас есть возможность увидеть бывшего бесшабашного дуэлянта и задиру глазами близких ему людей, например, за полгода перед его смертью. Невесёлое это зрелище. Его сестра поражена была тогда «его худобой, желтизною лица и расстройством его нервов».
«В сущности, Пушкин был до крайности несчастлив…» – напишет, знавший, о чём говорит, известный нам граф В.А. Соллогуб.
Где-то в середине того неблагословенного тридцать шестого года свидетели жизни Пушкина, каждый по своим причинам, начинают беспокоиться небывалыми проявлениями его характера, до сей поры несвойственными ему настроениями.
«Вспоминаю, как он, придя к нам, ходил печально по комнате, надув губы и опустив руки в карманы широких панталон, и уныло повторял: “грустно! тоска!..”».
«…ему хотелось рискнуть жизнью, чтобы разом от неё отделаться».
«…сам сообщил… о своём намерении искать смерти».
«Он искал смерти с радостью, а потому был бы несчастлив, если бы остался жив».
Барон Геккерн, нидерландский посланник, чьим приёмным сыном был убийца Пушкина Дантес, хоть и смертный враг нам, но нельзя по этой причине отнимать у него свойственную умным дипломатам проницательность. Вот и он говорил: «Ему просто жить надоело, то-то он и бесится и смерти ищет…»
Тема примирения со смертью пришла в его стихи. Он стал думать о ней торжественно.
Но как же любо мне
Осеннею порой в вечерней тишине
В деревне посещать кладбище родовое…
Именно в это время он озаботился закрепить за собой участок кладбищенской земли в Михайловском.
Где дремлют мёртвые в торжественном покое.
Там неукрашенным могилам есть простор…
Поразительный разговор состоялся у него за три дня перед последней дуэлью. Не с кем-нибудь, а c самим царём. Не кому-нибудь, а самому царю рассказал он своё дело с Дантесом. Выходит совсем невероятное – Пушкин рассказал царю о предстоящей дуэли. Они вместе обсуждали возможные исходы этой дуэли, и что будет, если роковой случай ожидает именно Пушкина. И вот ещё что плохо укладывается в голове – Пушкин в этом последнем разговоре с царём завещал ему позаботиться о судьбе своих детей. И царь обещал ему эту заботу. Не проще ли ему было позаботиться о том, чтобы эта дуэль не состоялась?
Нет, но ведь это просто наваждение какое-то. У всех на виду Пушкин мечется в поисках смерти, только глубокое христианское убеждение в тяжком грехе самоубийства не даёт ему решимости пустить себе пулю в лоб, а никому до этого дела нет. Позже Гоголь самым натуральным образом покончит самоубийством, уморив себя голодом, и тоже все спохватятся только потом, станут каяться, слёзно и хором. Отчего же это у русских открываются глаза только на мёртвых своих гениев и пророков?
Ещё две детали. Когда-то в молодости я написал целую книжку о Пушкине. В тогдашней самонадеянности своей я хотел найти чего-нибудь новенького в его жизни. Книжка называлась «Суеверный Пушкин». Не знаю, открыл ли в ней хоть что-то новое, но одно я точно уяснил. Пушкин был всегда и глубоко суеверен. Он знал все приметы, знал все приёмы, которые помогали бы гасить их недоброе действие. «Он боялся примет, потому что они всегда исполнялись над ним», – пишет Владимир Даль. Уже сам факт этого напряжённого суеверия говорит о том, что он жил постоянным ожиданием беды. Столь же неприютно люди чувствуют себя на войне, накануне боя… Так вот, в последний свой день он демонстративно нарушал все обереги. Он, например, не надел кольца с бирюзой, которое подарил ему Нащёкин. Бирюза, по суеверным поверьям, оберегала от насильственной смерти, и Пушкин никогда не расставался с этим кольцом. Отправляясь на дуэль, уже выйдя на крыльцо, он вдруг вернулся в дом, чтобы надеть шубу. Прежде, если забывал, например, часы, просил кого-нибудь вынести их, а то и вообще откладывал поездку до завтра. А тут вернулся сам…
Не могло быть это случайным. Казалось, он сознательно накликал на себя беду…
Дуэль тридцать первая (27 января 1837). С Жоржем Дантесом.
В этот день в 16-ть часов пополудни на Черной речке под Петербургом состоялась последняя дуэль Пушкина.
Причина: В ноябре 1836 года Пушкин получает анонимный пасквиль, где его неизвестные «кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев», возводят в ранг заместителя великого магистра рогоносцев. Об авторстве этой гнусности Пушкин не сомневался. Дело в том, что уже год за женой поэта ухаживал недоброй памяти барон Жорж Дантес, приёмный сын нидерландского посланника в Москве, радушно принимаемый в доме Пушкиных. Поэт посылает французу вызов. Есть одна знаменательнейшая деталь в дальнейших происшествиях. Вот Пушкин с секундантом сели в сани и отправились к месту дуэли по направлению к Троицкому мосту. На дворцовой набережной они встретили в экипаже Натали Пушкину. Данзас узнал её, надежда в нём блеснула, встреча эта могла поправить всё. Но жена Пушкина была близорука и не увидела мужа, отправившегося в свой смертный путь, а Пушкин смотрел в другую сторону. Близорукая Натали просмотрела своего великого мужа и в переносном и в самом прямом смысле.
В этой дуэли стреляли оба участника. Оба не промахнулись. Пушкин скончался от ранения 29 января 1837 года, а Дантес дожил до глубокой старости. Всё ему оказалось на пользу. Один из внуков Дантеса, Леон Метман, вспоминал позже: «Дед был вполне доволен своей судьбой и впоследствии не раз говорил, что только вынужденному из-за дуэли отъезду из России он обязан своей блестящей политической карьерой, что, не будь этого несчастного поединка, его ждало бы незавидное будущее командира полка где-нибудь в русской провинции с большой семьёй и недостаточными средствами».
Об этой дуэли написана такая уйма материалов, что, прочитав их все, чувствуешь себя так, будто ты тоже свидетель этой незабываемой драмы. Так что и самому можно составить собственный дневник. Дневника читателя. Это я и попытаюсь сейчас сделать.
В среду 27 января 1837 года…
Петербург. Чёрная речка. 27 января 1837 года. Среда. Половина пятого пополудни.
На Чёрной речке ветер. Лютует. Швыряет в глаза мелкий игольчатый снег. Рвёт шинели. Хлещет горячими жгутами верховой позёмки вздрагивающих лошадей. Тужится опрокинуть два возка, притулившихся к опушке елового леска. Мелкие деревца рассеяны по песчаной косе ровно и часто, как зубы в щучьей пасти. Ветер взвывает одичалым псом, напоровшись на чёрный оскал лесистого берега.
Снегу намело в тот день – уйма.
На Чёрной речке – сугробы. Двое партикулярных и двое военных, прибывших сюда, ищут затишья у лесной опушки. Здесь укромнее, но снег глубже. С утра погода было помягчела. В камер-фурьерском журнале отмечено было два градуса. Ниже нуля, естественно. Сейчас морозец заметно окреп. Жуковский утверждает, что ко времени дуэли было уже пятнадцать градусов.
Косые равнодушные лучи. Меж сугробами залегли глубокие округлые тени. Ветер, однако, достает и сюда, порывами.
По мягким скрипучим сугробам, чтоб не мешкотно было стрельбе и барьерному ходу стали протаптывать тропинку в двадцать шагов. Такая короткая дорога к вечности. Поземка по-собачьи ловко зализывает мелкую эту царапину на белой шкуре зимы.
Десять шагов отмерил в свою сторону Данзас, десять – д,Аршиак. У Данзаса рука на белой перевязи. Знак участия в Турецкой кампании. Дантес мрачно топчется следом за д’Аршиаком, иногда бросая выпуклый, угрюмо-бесцветный, холодный взгляд своих свинцовых, но всё же прекрасных глаз в сторону Пушкина. Утопают в снегу по колена.
Пушкин, укутанный в медвежью шубу, опустился в сугроб. Смотрит на все эти приготовления с видом усталым и равнодушным. Кто теперь угадает, что он чувствовал в это время?
Только воспалённые, медленные и как бы отсыревшие глаза с ясно обозначившимися кровяными прожилками на белках говорят о напряжении преддуэльной ночи и смертных хлопотах дня.
Ветер треплет страшно отросшие бакенбарды. Преждевременные глубокие морщины, давно уже легшие на лицо поэта, резко обозначились сейчас. Это сейчас как бы рельеф его души.
Из всех желаний осталось только одно – нетерпение. По трагически тяжкому, небывалому равнодушию во взгляде Пушкина, можно догадаться – исход ему не важен, – нужно только покончить дело.
Это нетерпение тлеет в подёрнутых пеплом мертвенной истомы зрачках, выражается в напряжении реплик, которые вынужденно бросает он в ответ на вопросы, от жестокой нелепости и ненужности которых он нервно вздрагивает всем телом. Так лошадь в знойный день пытается согнать назойливого слепня.
Данзас спрашивает его.
– Как тебе кажется, удобным ли будет это место для поединка?
– Ca m est fort egal. Seulement tachez de faire tout cela plus vite (Мне это совершенно безразлично, только постарайтесь сделать всё возможно скорее. – фр.).
Данзасу кажется, что Пушкин отчитывает его и с горестным лицом идёт на проторенную дорожку. Снимает свою полковничью шинель, отороченную собольим мехом, и бросает её под ноги. Это барьер Дантеса. Подзывает д’Аршиака. Вместе отмеряют десять шагов. Тут бросает свою шубу д’Аршиак. Барьер Пушкина.
Стали заряжать пистолеты, раскрыв полированные плоские ящики, уложенные на шинель Данзаса. Это пистолеты системы Кюхенрайтера с тяжёлыми гранёными стволами.
– Подгоняли ли вы пули, месье? – спрашивает Данзас д’Аршиака.
– Пули сделаны в Париже, я думаю с достаточной точностью.
– Однако надо проверить.
Данзас насыпал в стволы медною мерой порох. Обжал тускло мерцавшей стальной пулелейкой казённые пули и только потом стал забивать их шомполом в стволы… Иногда помогал себе маленьким серебряным молотком. Зарядить надо было сразу четыре пистолета, на случай если поединок по первому разу окончится ничем. Пушкину всё казалось, что секунданты некстати медлят.
– Et bien! est – ce fini? (Все ли, наконец, кончено?)
…Вот, наконец, секунданты, оставив пока заряженные пистолеты в закрытых ящиках, опять идут к дуэлянтам. Данзас крупными своими шагами отмеряет по пять шагов от каждого барьера. Начало боевой дистанции отмечено с той и другой стороны саблями. Данзас для того вынул из ножен свою, д’Аршиак вонзил в утрамбованный снег саблю Дантеса. Клинки с темляками на эфесах вздрагивают под ударами ветра. Противников развели по местам. Когда Пушкин встал у своего, сабля, вывернув ком снега, упала. Он побледнел и, обернувшись к Данзасу, спросил по-русски.
– Это что, дурная примета?
– Глупости, это лишь то, что я плохо утоптал снег…
– Я не хочу его убивать, – вдруг говорит Пушкин, неуместное в этой обстановке озорство промелькнуло в его взгляде, – я хочу, чтобы он после моего выстрела остался евнухом. Мне надо, чтобы он стал смешным до конца дней своих…
Данзас молча пожимает плечами.
Все приготовления закончены. Жребий указал начинать пистолетами, доставленными на место боя д’Аршиаком. Пистолеты противникам поданы. Каждый, прикрыв вооружённой рукой грудь, подав несколько вперёд правое плечо, ждёт сигнала.
Это дело Данзаса. Полковник объявил знак внимания, высоко подняв на вытянутой руке свою треугольную шляпу с тёмным плюмажем. Выдержав её так несколько секунд, он резко опускает шляпу вниз, почти к ногам, и тут же одевает на голову. Дело его сделано и теперь он только взволнованный зритель жестокого спектакля.
Не меняя защитной позы, противники двинулись друг на друга к барьерам. Пушкин и тут выказал это своё нетерпение. Скорым шагом пришёл к барьеру и только тут, остановясь, выкинув прямо и несколько вверх руку, стал медленно опускать её, с убойной решимостью сузив левый прицельный глаз, плотно прикрыв правый. От порывов ветра длинные кудри его шевелились на голове, снег сёк лицо. Тем неудобна была позиция Пушкина…
Выстрел раздался. Опередив Пушкина, не доходя до барьера, Дантес нажал на курок… Тут происходит что-то перед глазами Пушкина. Экран серого дня заливает красным. Из этого красного потом выступают смутные очертания какого-то праздника, торжественного стечения народа. Кудрявый лицеист читает стихи, и слёзы восторга видны в глазах старика Державина… Потом показывается внутренность какого-то помещения, странно убранного, налёт некоей нарочитой мистики заметен в деталях комнатного убранства. И старуха, седая в креслах видна, подобная графине из «Пиковой дамы»… Некое смещение времён… Пушкин падает медленно. Так парят орлы в потоке тёплого воздуха. Рука на отлёте… В среду 27 января 1837 года…
Вечный свет: Моя национальная идея
…Как бы это выразить всё поточнее. Пушкин стал чем-то вроде эпиграфа в муках продолжающейся русской жизни. У Гоголя вырвалась странная эта фраза. Пушкин – это тот русский человек, «который во всём своём развитии явится через двести лет». Теперь эти двести лет минули. Теперь ему будет уже двести двадцать с лишним. Случайно ли назван этот поразительный срок. Поразительный для нас, поскольку выпало нам жить через те самые двести лет и ещё далее. И мне выпало жить в это время. Выходит, мне можно считать, что и я теперь тоже тот Пушкин, который пришёл к нам двести с лишком лет назад? Мы, каждый должны были догнать к этому времени Пушкина? «В своем развитии». Тяжек нынче для нас грех даже и предположить это. Легка и во времени поступь Пушкина. А моя поступь грузнет… Идёшь, идёшь, а Пушкин всё впереди. Того и гляди пропадёт, растворится в дальнем мареве… Потеряется ориентир.
Вот об ориентире-то и хотелось бы поговорить.
Живёшь теперь, как идёшь по болоту ночью. Блуждают огоньки впереди, манят, а к которому идти, чтобы не попасть в трясину? Который не призрачный, не от гнилья мерцает, а теплою человеческой рукой зажжён?
Погодите, да ведь Пушкин-то и есть этот тёплый в мозглой ночи огонь. Путеводный. Может, это пророческое у Гоголя, помимо воли и ума вырвавшееся. Вот будет, мол, на Руси через двести лет такая смута и оторопь что только на Пушкина и останется надежда. И коли он явится в каждом русском, в каждой русской душе, так в этом, может, только и будет спасание. Как не подумать так об этом теперь.
Вот опять Гоголь о Пушкине: «И как он, вообще, был умён во всём, что ни говорил в последнее время своей жизни!»
Кто-то другой сказал о нём – обо всяком житейском случае он и в молодости судил как старик, обо всём он имел ясное представление, его невозможно было сбить с толку, в разговоре с ним создавалось впечатление, что он один знает истину в её самом совершенном и законченном виде.
А Мицкевича удивляю, что даже в политике он судит как искушённый в делах дипломат.
Даль вот что о нём сказал: «Пушкин по обыкновению своему засыпал меня множеством отрывочных замечаний, которые все шли к делу, показывали глубокое чувство истины и выражали то, что, казалось, у всякого из нас на уме вертится, только что с языка не срывается».
Голую истину открыл нам Пушкин, он вполне годен у нас, чтобы стать тем, чем стал для китайцев Конфуций. Каждое своё действие, вывод и окончательное решение надо обдумывать и принимать с оглядкой на Пушкина. Это и есть моя национальная идея. У него, Пушкина, нет крылатых фраз в общепринятом смысле – прочитал её, подивился и забыл. Его мысль чаще всего – руководство к действию. Поясню. В известном, например, разговоре с царём Николаем Первым он, среди прочего, сказал: «В России свободой первыми воспользуются негодяи». Как в воду глядел Пушкин. Кроме того, что это жуткое пророчество о сегодняшних наших днях, это ещё и целая Конституция. Конституция свободного государства. Опять поясняю. Пушкин предупредил о самом необходимом качестве любой демократии. Свободное государство, прежде всего, должно быть способно защитить свободу от негодяев. Если вы задумали дать свободу волку, который в клетке зоопарка, не делайте это в том месте, где гуляют беспечные мамаши с детьми. Беды не оберёшься. Волка надо выпускать на свободу там, где действуют волчьи законы. Пушкин видит единственно правильный на все времена путь к Свободе. Она должна быть в гармонии с Законом. Даже мысли человека, если они высказаны печатно или публично, должны подчиняться порядку: «Мысль! Великое слово! Что же и составляет величие человека, как не мысль? Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек: в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом».
Это выразил один из самых вольных умов всех времён. В силу гениальности своей больше всякого нуждавшийся в свободе чувствовать и мыслить.
И такие бесценные заветы можно обнаружить во многом, чем жил и что исповедовал Пушкин.
Хуже того.
С Пушкиным произошло то, что ни с кем не происходило. Народная Россия любит его не за то даже, что он написал. Его любят за то, что он жил и за то, как жил.
За то, что он был русским по чувству и по ощущениям.
За то, что во всех житейских обстоятельствах он оставался русским. Действовал в них так, как может и должен действовать русский…
Вникая в жизнь Пушкина, вот к какой догадке приходишь. Обстоятельства, которые пробуют русскую жизнь на излом всегда одни и те же. Всё зависит от того, насколько стойки мы к этим обстоятельствам. Стойкости нашей много мешает одна не шибко хорошая черта нашего национального характера. Мы противостоим натиску житейских обстоятельств как бы в одиночку. Мы бережём своё право на собственную правду. А в конце концов, оказываемся одиноки духом. Мы, каждый, стараемся идти к ней, к правде, своим путём. А тропинки к ней давно протоптаны. Наши поиски могли бы быть не столь мучительны, если бы мы умели лучше глядеть под ноги. Трава забвения застит ясный наш взгляд.
Нас легко смутить натиском. Загалдят трое, которые договорились сбить с толку, и ты уже в сомнении…
Теперь с нами это и делают. Не в первый раз.
Один военный объяснял мне причину первых наших неудач перед немцем. Одну из причин. Солдат наш, чтобы быстрее занять оборону, рыл окоп. Одиночный. И оставался как бы один на один со всеми своими страхами. Потом догадались рыть траншеи, так, чтобы и справа и слева было видно по товарищу… Полегчало. Под Сталинградом сплошь траншеи были…
Записки эти я так и составлял. Чтобы мне, как в той траншее, видно было хотя бы плечо Пушкина. Мне хотелось знать, как бы действовал он в сходных обстоятельствах. Что он думал в решительный момент, против чего восставал, что охранял… Мне яснее стало бы – как вести себя растерянному русскому сейчас, когда опять насели на него со злобной насмешкой, с поруганием вековечного, с убойной переделкой привычного, с прицельной стрельбой по его достоинству…
Вот в этом и заключена моя национальная идея – идти вперёд, сверяя свою поступь с Пушкиным…
…Зашёл раз разговор об Отечестве, о недостатках русской жизни. Больше всех рассуждали о том доморощенные хулители российских порядков и нравов. Таких «отечественных иностранцев» достаточно у нас было во все времена.
Пушкин сказал тогда:
– Вы знаете, я сам не слишком доволен своим Отечеством. Бывает, что я и не люблю его. Я того мнения, что довелось родится мне не в лучших краях, да ещё больше не нравится мне, когда моё мнение это разделяет пришелец, иностранец, пусть он будет даже отечественного производства…
В другой раз примерно те же обстоятельства заставили записать его в дневнике следующее:
«Простительно выходцу (не русскому, надо думать, прибившемуся к русскому столу – Е.Г.) не любить ни русских, ни России, ни истории её, ни славы её. Но не похвально ему за русскую ласку марать грязью священные страницы наших летописей, поносить лучших сограждан и, не довольствуясь современниками, издеваться над гробами праотцев».
Бывали у нас и прежде замечательные умы, сбитые с толку натиском новых веяний. Новые веяния у нас почему-то всегда в том, чтобы тужиться опрокинуть Россию в грязь лицом. «Новые веяния» эти опять перетряхиваются на свежем ветерке истории. Надо ли тут впадать в злобу и запальчивость?
Пушкин бывал спокоен в таких случаях:
«…я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя: как литератора – меня раздражают, как человек с предрассудками – я оскорблён, – но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал».
Сыновнее чувство своё, патриотическое отношение к Отечеству, к его истории уточнял он не раз. Все эти уточнения и теперь способны восстановить равновесие в смятенной душе:
«Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим».
«…Заметьте, что неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности».
«Два чувства равно близки нам – В них обретает сердце пищу – Любовь к родному пепелищу, Любовь к отеческим гробам».
«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие».
Впрочем, патриотизм чувство такое же деликатное и интимное, как всякая чистая сердечная тяга. Спекулировать и щеголять ею нелепо и постыдно. Есть у Пушкина и этот укор демонстративному патриотическому буйству:
«Некоторые люди не заботятся ни о славе, ни о бедствиях Отечества, его историю знают только со времен князя Потёмкина, имеют некоторое понятие о статистике только той губернии, в которой находятся их поместия, со всем тем почитают себя патриотами, потому что любят ботвинью и что дети их бегают в красной рубашке».
А хулителям Руси – прошлым, нынешним и будущим сказал он:
«Нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви».
Марающим своими чернилами честь Отечества Пушкин советовал:
«Дитя не должно кусать груди своей кормилицы».
И не сомневайтесь:
Сильна ли Русь? Война и мор,
И бунт, и внешних бурь напор
Ее, беснуясь, потрясали —
Смотрите ж: все стоит она!
Не пристаёт к России грязь. Особенно, если позорят её ничтожества, влезшие в её историю и культуру по общему недосмотру. Уйдут и они, а она останется. Лай несётся по её просторам. Утихнет ветер и не слышно лая…
…Вот еще какая напасть объявилась. Русскоязычная литература. Ещё Даль смеялся над тем «русским» языком, который лишь теперь вошёл в полную силу. Его без остатка можно перекладывать на любой иностранный и обратно. Качество литературы от того никак не меняется. Это будто о теперешних русскоязычных заметил остроумец Салтыков-Щедрин – сколько посидит – столько напишет. Они уверены – тот язык, на котором они пишут, и есть русский. Наивное счастье.
Пушкин и об этом говорил:
«Разговорный язык простого народа (не читающего иностранных книг и, слава Богу, не выражающего, как мы, своих мыслей на французском языке) достоин… глубочайших исследований. Альфиери (Данте) изучал итальянский язык на флорентийском базаре; не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирням. Они говорят удивительно “чистым и правильным языком”».
«Изучение старинных песен, сказок и т.п., – продолжил Пушкин в другом месте, – необходимо для совершенного знания свойств русского языка. Критики наши напрасно ими презирают…».
«Вслушайтесь в простонародное наречие, молодые писатели – вы в нём можете научиться многому, чего не найдёте в наших журналах».
«Читайте простонародные сказки, молодые писатели, – повторял он снова, – чтоб видеть свойства русского языка».
Всё это, ещё совсем недавно бывшее бесспорным, надо теперь отстаивать снова, как и в пушкинские времена.
И об ужасно недемократическом слове «цензура» есть у него своё собственное понятие.
«…Я убеждён в необходимости цензуры в образованном нравственно и христианском обществе, под какими законами и правлением оно не находилось бы».
Пушкин уже тогда остро как никто из нас предполагал всю опасность мерзавца, наделённого талантом, ума, не облагороженного нравственностью, дарования, изуродованного пошлостью.
Дальше он уточняет это своё убеждение в следующем необычайно чётком и вневременном заявлении:
«Писатели во всех странах мира суть класс самый малочисленный изо всего народонаселения. Очевидно, и аристократия самая опасная – есть аристократия людей, которые на целые поколения, на целые столетия налагают свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки. Что значит аристократия породы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов. Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда…».
Дальше идёт совет его, который со временем будет становится только значительней:
«Уважайте класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами совершенно».
Вероятно, самому Пушкину цензура уже не нужна была. Он был цензором сам себе. Но если бы каждый, взявший в руки перо, был также честен как Пушкин.
«Нравственность… должна быть уважаема писателем. Безнравственные книги суть те, которые потрясают нервные основания гражданского общества, те, которые проповедуют разврат, рассеивают личную клевету или кои целию имеют распаление чувственности приапическими изображениями. Тут необходим в цензоре здравый ум и чувство приличия, ибо решение его зависит от сих двух качеств…».
Духовному разбою (столь ярко проявившемуся в наши дни), по Пушкину, могла противостоять только нравственная цензура. Бандит не так опасен, как писатель без совести.
«Действие человека мгновенно и одноразово; действие книги множественно и повсеместно. Законы против злоупотреблений книгопечатания не достигают цели закона; не предупреждают зла, редко его пресекая. Одна цензура может исполнить то и другое».
Вот пушкинский совет, будто прямо адресованный нынешней Государственной думе нашей. Нужен новый осмысленный закон о цензуре. И общие черты его Пушкиным уже набросаны:
«Высшее ведомство в государстве есть то, которое ведает делами ума человеческого. Устав, коим судьи должны руководствоваться, должен быть священ и непреложен. Книги, являющиеся перед его судом, должны быть приняты не как извозчик, пришедший за нумером, дающим ему право из платы рыскать по городу, но с уважением и снисходительностью. Цензор есть важное лицо в государстве, сан его имеет нечто священное. Место сие должен занимать гражданин честный и нравственный, известный уже своим умом и познаниями, а не первый асессор, который, по свидетельству формуляра, учился в университете. Рассмотрев книгу и дав ей права гражданства, он уже за неё отвечает, ибо слишком было бы жестоко подвергать двойной и тройной ответственности писателя, честно соблюдающего узаконенные правила, под предлогом злоумышления, бог знает какого. Но и цензора не должно запугивать, придираясь к нему за мелочи, неумышленно пропущенные им, и делать из него уже не стража государственного благоденствия, но грубого будочника, поставленного на перекрёстке с тем, чтоб не пропускать народа за веревку. Большая часть писателей руководствуется двумя сильными пружинами, одна другой противодействующими: тщеславием и корыстолюбием. Если запретительною системою будете вы мешать словесности в её торговой промышленности, то она предастся в глухую рукописную оппозицию, всегда заманчивую, и успехами тщеславия легко утешится о денежных убытках».
«…Самое грубое ругательство получает вес от волшебного влияния типографии. Нам всё ещё печатный лист кажется святым. Мы все думаем: как может быть это глупо или несправедливо? Ведь это напечатано!».
Слава Богу, мы так уже не думаем. Это единственное, может быть, в чём мы можем оправдаться перед Пушкиным…
Из того, что пересказано, можно угадать и политический, и государственный его взгляд.
Много гадали – отчего Пушкин все-таки не стоял 14 декабря на Сенатской площади. Ведь не зайцем же, перебежавшим дорогу его кибитке, в самом деле, объясняется это.
Он там и не мог стоять, потому что не там было его место.
«Бунт и революция мне никогда не нравились».
Вся его политическая программа умещается в следующие несколько строк:
«Лучшие и прочнейшие изменения (реформы, по-нашему – Е.Г.) суть те, которые происходят от улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества…».
Незаслуженно преданный либеральной тусовкой анафеме русский мыслитель Константин Победоносцев когда-то заметил верное – понятие реформы, преобразований автоматически понимаем мы как улучшение, когда, как правило, выходит всё наоборот. На том держался несокрушимый его консерватизм.
Не так давно один из отставленных, а тогда ещё действующий глава российского правительства со смешком, неловким, правда, заявил, что давненько не читал Пушкина. Сомнений в том не могло быть.
Иначе откуда бы взяться такому бесстыдству – называть то, что происходит в России, реформами. То, что Пушкин называл «нравами», не то, что не улучшено, а унижено до такой степени, какого и не случалось, вероятно, нигде и никогда. Не смешно ли ныне говорить о том, что входило по словарю Пушкина в понятие «нравов» – честь, совесть, достоинство, благородство, милосердие, человеколюбие… Началась, слава Богу, борьба со взяткой. Может быть, это будет началом столь необходимого нам возврата к нравственному здоровью. Она, взятка, повальная коррупция стала первым показателем той дикости нравов, до которой скатилась нынешняя Россия. В международном общественном мнении Отечество наше стоит, в этом смысле, на одном уровне с Афганистаном, например, который живёт исключительно контрабандой и наркотиками. Вспомнилось, ведь это Гитлер говорил: «Совесть? я освобождаю вас от этой химеры». Новые времена сделали это без всяких деклараций…
Всех, кто играет на долготерпении русского народа предупреждает Пушкин:
«Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уже люди жестокосердные, коим и своя шейка копейка, а чужая головушка полушка…».
Подстрекателям разного рода, и русофобствующим, и излишнерусским стоило бы держать это в голове…
Теперь о более частных моментах. В гигантской литературе о Пушкине, в воспоминаниях о его жизни, поступках, словах, сказанных кстати, есть масса таких, которые наталкивают на определённую мораль, весьма подходящую для наших сегодняшних решений и выводов.
Но и тут, в сегодняшней сумятице настроений, Пушкин не даст нам сбиться с толку. Так хочу я думать. Касается это и крупных мыслей гражданского звучания и мелочей обыденного поведения.
Можно ли поверять нам даже незначительные мгновения собственной жизни Пушкиным?
Посмотрим. Может, в том тоже кроется гоголевский смысл. Если Пушкин будет столь ясно в нас представлен, то каждый и станет немного Пушкиным. Может в том отчасти состоит загадка давнего гоголевского предвидения.
…Говорили, что Пушкин редко сердился на обиды, нанесённые лично ему. Вяземский видел его сердитым только однажды. Причиной пушкинской вспышки был он сам. Вот как это записано у него: