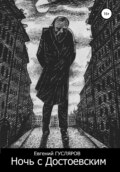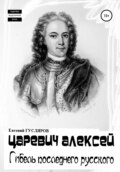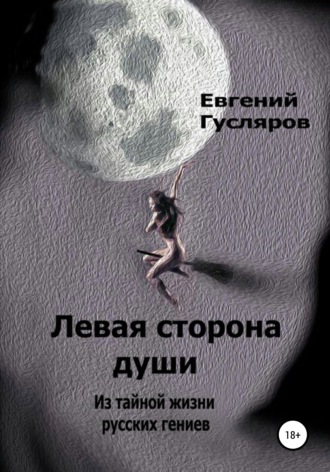
Евгений Николаевич Гусляров
Левая сторона души. Из тайной жизни русских гениев
Через некоторое время выясняется, что невероятная Лили третий месяц уже как беременна, а сочинения за неё пишет влюбившийся в неё без памяти молоденький учитель словесности.
Так она впервые познала собственную суть – фальшивая с её стороны любовь может обеспечить ей всяческий гешефт и житейский комфорт.
Ребёнка акушеры изъяли неудачно. Лили стала бесплодной, подобно евангельской усохшей смоковнице. Но она не огорчилась, наоборот, теперь Лили могла без опаски заняться своим призванием.
И ведь надо же, даже эту её естественную порочную суть угадало ЧеКа и смогло поставить себе на службу с великолепным результатом.
Конечно, ей хочется кушать. Между тем, она нигде не работает.
Впрочем, как это – не работает?
Тогда в Москве объявилась мода на литературные салоны небывалого толка. Все они были особыми отделами ЧК. В центре их оказались очаровательные и не очень служительницы таинственного и страшного, как загробный мир, ведомства. Вокруг них, как вокруг матки в пчелином улье, одолеваемые творческим зудом, а то и избыточной похотью, вились творцы новой небывалой культуры. Кроме Лили Брик такие салоны возглавляли в Москве Зинаида Райх, жена наркома Ежова Евгения (Суламифь) Файгенберг, Лариса Рейснер в Питере.
Салон Лили Брик пытались осмыслить многие завсегдатаи.
Та же Лидия Чуковская записала: «Знаменитый салон должен был бы называться иначе… И половина посетителей – следователи. Всемогущий Агранов (первый заместитель Генриха Ягоды) был Лилиным очередным любовником…».
Это тот самый Агранов, по спискам которого Ленин заполнял упомянутые «философские пароходы», а также и поезда.
В годы перестройки стали доступны те архивы, которые, казалось, закляты вечной тайной. Там нашлись гэпэушные удостоверения Бриков – Лилин № 15073, Осипа – № 24541. Судя по этой цифири, у Лили служебный стаж гораздо солиднее. Когда Осип Брик пришёл записываться в ЧеКа, расстояние между ними было уже почти в десять тысяч членов. Может именно она, Лиля, и привела сюда своего возлюбленного Осю, ставшего единственным в своём роде теоретиком текущих литературных процессов в штатском. А что – место хлебное, это скоро узнают и посетители её салона.
Главная беда и порок русского писателя в том, что он хочет кушать и почти всегда хочет кушать сладко. Особенно эта цивилизационная тяга усиливается в переходные несытые времена. Потому служить идеалам не всегда получается. Героев, сумевших одолеть зов желудка, в истории до обидного мало. Так что кормушка стала решающим инструментом революции.
С этих пор списки посетителей её салона почти в точности совпадают со списками тех, кого вписывают потом в лагерные и расстрельные списки.
Был ли Маяковский замешан в чекистской этой катавасии? Похоже, что – да. Но у него была особая роль. И служил он лично Лиле. Доступ к её телу стоил ему, в том числе, отчётов о настроениях некоторых представителей заграничной интеллигенции, с которыми он общался во время частых своих вояжей в Европу и Америку. Вояжи эти, были санкционированы черезвычайными органами, конечно.
Есть, между прочим, одно прелюбопытнейшее свидетельство тому, как тогдашняя «передовая интеллигенция» Запада относилась к этому чекистскому балагану и к действующим лицам стукаческо-порнографического действа.
В начале тогдашних двадцатых гиблых лет в Москву занесло будущего классика мировой литературы Поля Морана. Диковинный роман четы Бриков и Маяковского удивил даже француза. Лилю и ВВ он описал под именами Василисы Абрамовны и Мордехая Гольдвассера. Нескрываемая половая истома скрывается за каждой строчкой его повествования об этих изумительных обитателях революционного бестиария. Весь облик Лили сразу настроил его на определённый лад. Пошлостью веяло от неё за версту: «Василиса была так ленива, что даже когда она стояла, казалось, будто она спит. <…> О том, что она еврейка, свидетельствовали не столько её черты, сколько телосложение. Она принадлежала к столь распространённому типу, что каждому мужчине казалось, будто он уже обладал ею; наверняка именно это стяжало ей всеобщую снисходительность и симпатию. <…> Рот у нее был такой огромный, что его невозможно было охватить одним поцелуем».
Становятся понятны истоки её обаяния. Именно от этих, скрытых во всякой женщине средств целенаправленного или нечаянного обольщения, предостерегал когда-то свою молодую жену Пушкин: «Ты радуешься, что за тобою, как за сучкой, бегают кобели, подняв хвост трубочкой и понюхивая тебе задницу; есть чему радоваться!.. Легко за собою приучить бегать холостых шаромыжников; стоит только разгласить, что-де я большая охотница. Вот вся тайна кокетства. Было бы корыто, а свиньи будут.».
Но ведь некоторые видят в этом свой единственный зарытый талант. Лиля Брик была из этого числа. Несдерживаемую свою похоть она смогла обернуть кладом.
И тут начинается история подлинного падения и смерти Маяковского.
Но прежде ещё о некоторых непредвзятых взглядах начинающего классика Поля Морана. Вот как смотрит он на личность и внутреннее содержание Мордехая Гольдвассера-Маяковского: «Из-под его пера вышли политические пьесы, атеистические песенки для детей, патриотические гимны, оды сельскохозяйственным удобрениям… Он безжалостно переложил в стихи красноармейские уставы, новый уголовный кодекс, цены на продукты питания, систему мер для крестьян и заводские правила… Он боксирует словами, употребляет каламбуры, грубые выражения, народные образы, монологи сумасшедших, фольклор, деревенское просторечие, диалекты инородцев, жаргон мастеровых, и всё это подсвечено снизу нарочитой эрудицией. Гольдвассер слишком художественная натура, чтобы обойтись без невроза. Его пунктик – страх перед болезнями, его боязнь инфекции известна всем, этот коммунист чистит предметы, до которых дотрагивается, стерилизует свой столовый прибор, носит резиновые перчатки, открывает двери на той высоте, где никто их не касается: для него заразно всё, кроме слов и идей».
А вот как записан у Поля Морана жутко разоблачительный монолог Бена Мойшевича (этим именем замаскирован Осип Брик), тут он (Осип Брик) зачем-то выдал незнакомому, в сущности, человеку всю тайну «русской революции»:
«И наконец еврейство. Восемь миллионов. Украина, Бессарабия, Туркестан, Бухара – сорвались… Огромные мировые резервуары еврейства нахлынули повсюду. Полки, нетерпимые, взращённые на талмуде. Иезекииль сказал: “Будете жить в домах, которых не строили, пить из колодцев, которые вы не рыли”: вот они, эти дома, эти колодцы. Возник новый континент, величайшая лаборатория на свете, земля обетованная – Евразия».
Выходит, эта главная тайна времени была Осипу Брику известна уже в двадцатом году прошлого века, а мы её для себя и теперь не открыли?..
Колодцы, между тем, почти выпиты уже…
Колодцы исчезли, их заменили скважины, орудие вампиров нового времени, сосущих нефть. Чёрная кровь русской земли выпита не нами, не нас питает…
Ну, да ладно, этого уже не поправить.
Я-то, ведь, пока совсем о другом….
После посещения Америки Маяковский написал серию абсолютно слабых, опять в жанре пролетарского лизоблюдства, путевых записок «Моё открытие Америки». Там есть только одно потрясающее, если вдуматься, наблюдение. В очерке «Чикагская бойня», где речь идёт о забое скота в промышленных масштабах:
«Если бараны не идут сами, их ведёт выдрессированный козёл».
Вздрогнуть впору, ведь это же точная суть, судьба и цена самого Маяковского. В качестве козла-провокатора на бойне окаянного времени он шёл впереди баранов, выдрессированный властью, а когда бараны были потрачены, он и сам стал не нужен, это показалось ему обидным. До смерти…
***
Архивный документ бывает опасен тем, что может порушить даже устои. Россия живёт теперь без устоев. Хорошо это или плохо, мы этого ещё не успели осознать. Поживём – увидим. Мне лично архивный документ интересен пока тем, что даёт возможность увидеть обратную сторону идола. Человек моего поколения вырос за частоколом идолов. Идолы ограждали нас от подлинной жизни, от её смысла, от солнечного света. Мы стали опять идолопоклонниками, язычниками, в суть своих верований мы не вникали. Верили всякому наглому внушению. Мы жили при искусственном освещении. Потому, документ бывает способен ослепить на какое-то время.
Меня и самого можно обвинить, конечно, в духовном мазохизме. Да, мне нравится выкорчёвывать теперь из своего сознания подгнившие пни развесистой прежде клюквы. Мне это нужно и это никогда не поздно. Огород моего сознания нуждается в прополке. Маяковский тут не один. И не он главный сорняк.
Но, коль речь пошла о нём…
Напомню опять, что виной тому обнаруженный мной архив бывшего Института мозга Ленина. Находка увлекла меня, я и мелочей не стеснялся. Когда ищешь в лесу после летних дождей груздя, а попадаются лисички, и лисичку грешно упустить…
Свидетельские показания, собранные тут, хороши тем, что они не годны для официального образа, потому и были не востребованы.
Несуразности начинаются с внешности. Был у него мощный, богатырский торс, а ноги короткие. Так что, когда садился за стол, не столь уж становился короче, возвышался над всеми – горой.
Годам к двадцати, ко времени знакомства с Бриками, сгнили у него все зубы. Рот у него стал старческий, запавший. Его так и звали тогда – Старик.
Есть он мог только манную кашу, и это стало его любимым кушаньем на всю жизнь. Лиля посоветовала ему вставить искусственную нижнюю челюсть. Челюсть вышла несколько выдающейся, и это придало его лицу мужественное и брутальное выражение. На ночь челюсть отправлялась в стакан с водой. Подогревало ли это взаимную похоть? Этот вопрос остался маяковсковедами не прояснённым, как не относящийся к делу.
И даже с искусственной челюстью футурист продолжал питаться почти исключительно сладкою манной кашей. У Пушкина любимым блюдом была печёная картошка.
Когда началась мировая война, юный футурист ходил во главе сомнительно-патриотических банд громить винные и прочие лавки с закусками и пожитками, принадлежавшие лицам с немецкими фамилиями.
А когда пришла ему очередь военного призыва хитроумно откосил от военной службы: «Забрили. Теперь идти на фронт не хочу. Притворился чертёжником. Ночью учусь у какого-то инженера чертить авто».
А потом вообще скрылся под крыло Чуковского и Репина в Куоккале. У него, вроде, даже остатки чести ещё оставались, он объяснял своё отсутствие на фронте, конечно, не трусостью, а убеждениями – «неискоренимой ненавистью ко всякому насилию и убийству». Врал опять, вскоре вся его поэзия станет сплошным подстрекательством и призывом к убийству и насилию.
Его сверстники Николай Гумилёв и Александр Блок записались добровольцами.
А он составил график и объедал по очереди тамошних состоятельных дачников. Не любил только ходить к Репину, тот был травоядным.
Покушавши плотно у очередного милостивца, Маяковский уходил на берег Финского залива, сочинял там поэму «Тринадцатый апостол». Потом это окажется «Облаком в штанах».
И тут всплывает очередная пролетарско-революционная гнусность, чудовищная футуристическая мерзость.
Многое добавляет образу человека легенды, прижизненные и посмертные.
Эта легенда начиналась так.
Как-то ехал Маяковский откуда-то куда-то в поезде. Попутчицей его оказалась очень миленькая, очень чистенькая, очень молодая и бойкая девчушка, только что окончившая гимназию. Жар, не вполне поэтический, стал одолевать буйного футуриста. Девочка испугалась. Маяковский стал её успокаивать. Стал говорить ей о том, какой он нежный бывает. Девочка взглянула на него по-взрослому и сказала вдруг: «Ну да, нежный, прямо облако. – Поглядела ещё и уточнила. – Облако в штанах». Маяковский как-то сразу потух. Всю дорогу потом придумывал всякие наводящие вопросы, чтобы выяснить, запомнила ли девушка неожиданный свой метафорический шедевр. Оказалось, забыла напрочь.
Девушка обронила самый известный теперь образ, объясняющий нутро и суть поэта Маяковского. Девочка обронила, Маяковский поднял.
Но дело тем не кончилось. Это только пролог легенды.
Вспоминает Корней Чуковский:
«Это было в 1913 году. Одни родители попросили меня познакомить их дочь с писателями Петербурга. Я начал с Маяковского, и мы трое поехали в кафе “Бродячая собака”. Дочка – Софья (Сона, по-домашнему) Сергеевна Шамардина, татарка, девушка просто неописуемой красоты. Её и Маяковского, похоже, неудержимо тянуло друг другу. В кафе он расплёл, рассыпал её волосы и заявил: Я нарисую Вас такой! Мы сидели за столиком, они не сводят глаз друг с друга, разговаривают, как будто они одни на свете, не обращают на меня никакого внимания, а я сижу и думаю: Что я скажу её маме и папе?».
Это оказалась та самая девушка из поезда. Живая поэма о любви в футуристическом духе могла продолжиться. Могла воплотится в строчки и прочие дела, в которые оборачивается страсть поэта.
Дальнейшие следы этой страсти обнаружил я не без усилий. Где-то сразу после революции пошли слухи в среде новой литературной пролетарской аристократии, что Маяковский собирается ехать на Капри «бить морду Горькому».
Какова причина?
Это можно узнать, например, из записи воспоминаний той же Лили Брик, сделанных Бенедиктом Сарновым:
«Л.Ю. стала замечать вдруг, что Луначарский, с которым у них были самые добрые отношения, смотрит на них волком. Поделилась своим недоумением по этому поводу со Шкловским. А тот говорит: – Ты что, разве не знаешь? Это всё идёт от Горького. Он всем рассказывает, что Володя заразил Сонку сифилисом, а потом шантажировал её родителей».
Есть ещё письмо Чуковского к Сергееву-Ценскому:
«Водился осенью с футуристами: Хлебников, Маяковский, Кручёных, Игорь Северянин были мои первые друзья, теперь же, после того как Маяковский напоил и употребил мою знакомую курсистку (милую, прелестную, 18-летнюю) и забеременил и заразил таким страшным триппером, что она теперь в больнице, без копейки, скрываясь от родных, – я потерял к футуристам аппетит».
«Бить морду» Горькому Маяковскому не пришлось. Лиля Брик его не пустила, отправилась к Горькому, когда тот уже жил в Москве, сама и взяла с собой Виктора Шкловского, который, как мы помним, своими ушами слышал от Горького мерзопакостную историю о сифилисе. Припёрли они, будто бы, Горького к стенке, но тот так ничего особо нового им не сообщил. Единственно, уточнил, что слышал о том «от очень уважаемого человека» (как записал Шкловский), а вроде даже и от «врача» (как свидетельствует Лиля Брик). Ни адресов, ни имён Горький, ясное дело, не назвал. Тем всё и кончилось.
И это всё о самой громкой легенде Маяковского. Доброжелатели, все сплошь из именитых маяковсковедов, не дали тогда пасть его имени в общем мнении. Всё это объявлено было сплетней Горького. Правда, я так и не смог объяснить себе, зачем это Горькому стало надо. Не знал я об этих мелких пакостных качествах великого пролетарского писателя.
Сплетня, однако, окаменела в легенду. Если у кого-то после прочитанного возникнет желание и меня причислить к разряду наветчиков и пустозвонов, отвечу так, я подобрал на путях к нужной мне истине не сплетню, а легенду уже, артефакт неясной цены.
Но в том, что этот мерзопакостнейший эпизод в жизни Маяковского вполне мог быть, свидетельствует опять он сам, я склонен верить ему. Это написано ещё в 1916-ом году:
Теперь —
клянусь моей языческой силою!
Дайте
Любую
красивую,
юную, —
души не растрачу,
изнасилую
и в сердце насмешку плюну ей!
Впрочем, когда я в этот раз вышел из архива, у меня было чувство, что я вляпался в собачью дрянь, которой немало бывает на дорожках, протоптанных с благими целями…
***
Если бы Маяковский оказался подозреваемым ещё и в людоедстве, я не удивился бы. Косвенных свидетельств тому в его стихах предостаточно. Хватит не только для подозрений:
Мы тебя доконаем, мир-романтик!
Вместо вер – в душе электричество, пар…
Всех миров богатства прикарманьте!
Стар – убивать!
На пепельницы – черепа!
Это из поэмы «150 000 000», которая была написана между 1919 и 1920 годами.
Оригинальное решение тут пенсионной реформы – «стар – убивать!». Как этого ещё наши законодатели не постановили?..
Особого лиризма исполнены, конечно, и эти слова – «всех миров богатства прикарманьте!». Это ведь прямо библейский ветхозаветный масштаб и смысл. О домах, которые не строили, и колодцах, которые не рыли, мы помним. Их пророк Иезекииль обещал своим потомкам, в том числе прошлым и нынешним расхитителям России, терзавшим и терзающим её под флагами революций, реформ и прочих переустройств.
А вот ещё и смысл мировых перестроек и реконструкций:
«Господь отомстит за нас скопищам Гога. В оный час будет сокрушена сила народов; они будут как корабль, на котором сорваны снасти и сломана мачта, так что нельзя уже на ней поднимать парусов. Тогда Израиль разделит между собою сокровища народов – великую массу добычи и богатств, так что даже если среди него окажутся хромые и слепые, и те получат свою долю».
Не это ли первоначальные большевики именовали перманентной революцией?
Маяковский всё это только переложил в стихи.
Даже дедушка Ленин был совестливее Маяковского. Он срам прикрыл всё-таки – «грабь награбленное!».
Или вот ещё из Маяковского:
А мы —
не Корнеля с каким-то Расином —
отца, —
предложи на старьё меняться, —
мы
и его
обольем керосином
и в улицы пустим —
для иллюминаций.
Успел ли папочка Володи Маяковского, без памяти любивший своего отпрыска, прочитать это трогательное до ужаса лирическое послание?
Когда на фронтах Первой мировой войны русские воины жизнями своими спасали Россию, а война эта становилась уже Первой Отечественной, двадцатидвухлетний каннибал-лирик, откосивший, как мы помним, от военного призыва, всё о своём твердил:
Чтобы флаги трепались в горячке пальбы,
как у каждого порядочного праздника –
выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазника.
Это из поэмы «Облако в штанах». 1915 г.
Или вот он благодарит вождя пролетариата в год его смерти за то, что в итоге тот открыл ему, кровавому мизантропу в последней клинической стадии, глаза на истинное знание дальнейшего своего пути и призвания:
Мы знаем кого – мети!
Ноги знают,
Чьими
Трупами
им идти.
Это из поэмы «Владимир Ильич Ленин» 1924 г.
Почему же это только у Маяковского изо всех ударников пронзающей насквозь пролетарской лирики столько крови, рваной человечины и трупного запаха?
Это ведь с самого начала было.
Первый его поэтический сборник уже имеет все признаки запредельной, невообразимой патологии. Его венчает мгновенно ставшая знаменитой фирменная маяковская строчка:
«Я люблю смотреть, как умирают дети…».
Обязательно заметить тут надо, что Маяковский выплюнул необъяснимо гадостную эту строчку, когда было ему только двадцать лет. Это, когда она впервые была опубликована. Сам этот непомерно омерзительный плевок в суть и лицо человеческого достоинства, понятное дело, был сделан ещё раньше.
Он это сказал и самодовольно ухмыляясь, наверное, стал ждать, как на эту «пощёчину общественному вкусу», отреагирует эта самая общественность.
Она тут же подставила другую щёку.
Явились отряды литературоведов с низкой социальной ответственностью, именем легион, которым стало нужно замять отвратительную и беспощадную провокацию.,
Стали говорить, что это Маяковский стал вдруг небесным разумом, и мерзость эта вовсе не Маяковскому принадлежит, а некоему безответственному организатору вселенского неустройства, в которого тот, Маяковский, нарядился.
И до сих пор так говорят. Употребляя при том беспощадное к смыслу словоблудие и жаргон местечковых одесских сиинагогальных талмудистов-шамесов, которые, как известно, могут объяснить даже то, что не могут себе представить.
Вот пример такого толкования, принадлежащий Дмитрию Быкову. Маяковский тут, оказывается, «доведённый до отчаяния гностический Бог, которого провозглашают ответственным за всё и вся – в то время как он ничего не может сделать, ибо есть вещи, находящиеся вне его власти».
Таких нагромождений русскоязычное литературоведение накопило громадное количество. Одна эта строчка породила столько других, что они давно обошли по объёму всё, написанное самим Маяковским.
Эта строчка стала чем-то, вроде «Чёрного квадрата» в поэзии тех окаянных дней. Этот «квадрат» тоже ведь выдавали за икону, за изображение бога, тёмного, грязного, «гностического» вот именно, если брать это слово в смысле «жизнеотрицания».
По силам ли была Маяковскому та глубина, которую приписывают ему толкователи. Вряд ли. Все, кто знали его, удивляются элементарности его ума.
Похоже, за всю свою жизнь он не прочитал ни одной книги. Слово «гностический» ему точно знакомо не было. И понятие такое ему неведомо было. «Никогда ничего не хочу читать… Книги? Что книги!» – говорил Маяковский.
А вот из «Облако в штанах»: «Никогда ничего не хочу читать».
В его кабинете в кооперативной квартире на Лубянке не было ни одной книги… На вопрос анкеты: «Есть ли у вас библиотека?», – он отвечает: «Общая с О. Бриком…».
Он был совершенно не образован. Учёба в гимназии не задалась с четвёртого класса, и это стало причиной его «ухода в революцию», там было веселей ему и сподручней.
Михаил Булгаков образом Полиграфа Полиграфовича Шарикова, намекает на Маяковского – с тех пор, как десятилетний бунтарь, которого сверстники в гимназии звали Идиот Полифемович, вышел на улицы, читал он только вывески. У него даже есть особое стихотворение, где он шлёт благодарность свою этим вывескам, и всем советует – «Читайте железные книги!». Вывески, кстати, надоумили его одному доходному делу, писать рекламные халтурки советским товарам. Чем он и кормился сытно долгое время.
Может показаться странным, что даже стихи его, явившиеся будто бы в непревзойдённом качестве, непредубеждённым знатокам поэзии казались примитивными и отдающими неистребимой пошлостью. Даже Чуковский, которого Маяковский считал своим другом, писал: «Стихи Маяковского… отражают в себе бедный и однообразный узорчик бедного и однообразного мышления, вечно один и тот же, повторяющийся, точно витки на обоях… Это Везувий, изрыгающий вату».
Написанное Маяковский всегда отдавал Брикам, те наводили там лоск грамоты.
Считается, что сам Маяковский никак не комментировал означенную изуверскую строчку. Однако, в том архиве, который я теперь усердно перелопачиваю, попались мне вот такая интересная запись. Принадлежит она некоему Леониду Равичу, который отрекомендован, как ученик и поклонник пролетарского горлана и главаря.
Он рассказывает:
«Маяковский остановился, залюбовался детьми. Он стоял и смотрел на них, а я, как будто меня кто-то дёрнул за язык, тихо проговорил:
– Я люблю смотреть, как умирают дети…
Мы пошли дальше.
Он молчал, потом вдруг сказал:
– Надо знать, почему написано, когда написано, для кого написано. Неужели вы думаете, что это правда?».
Теперь всё ясно. Маяковскому тогда надо было сказать эту дичь. Для чего – надо?
Да для того опять же, чтобы ошарашить. Чтобы привлечь внимание любой ценой. Чистотой и совершенством, понятное дело, этого сделать уже невозможно было. Это были качества уходящей поэзии. Она была брошена с парохода.
Оставалась в арсенале новой культуры только пакость и гниль.
Но ведь, чтобы сказать гнусность исключительного качества, нужно изнасиловать и испоганить собственную свою природную суть, детское в себе, душу свою. Пока вы не убьёте в себе ребёнка, вы останетесь человеком.
Не описал ли смерть этой детскости и обязательной начальной, от природы, чистоты в себе тогда Маяковский?
Кстати сказать, наш истинный Господь, который Маяковскому и русскоязычным знатокам «гностического бога» не ведом, о детях говорил совершенно иначе: «будьте, как дети, – говорил он, – ибо их есть Царствие небесное…». По мотивам этих евангельских слов Фёдор Достоевский написал роман «Идиот», загадочный и великий, но не любимый русскоязычным литературоведением.
Как бы там ни было, а мелкий начальный позыв изрыгнуть нравственную гниль, тут же отразился на общем духовном и физическом организме Маяковского.
Потом это разовьётся в исключительную моральную его неразборчивость, а разлагаться физически он начинает лет с восемнадцати. Так что к двадцати годам вынужден он будет заменить, как сказано уже, сгнившую нижнюю челюсть, а подозрение в сифилитическом распаде тела не оставит его и после кончины. Два раза после смерти, прежде чем сжечь, по настоянию окаянной общественности будут свидетельствовать медики его останки на этот счёт, но так ничего путного и не скажут о причине. В газете «Правда» будет написано то, что ещё более усугубит паскудный смысл неотступной молвы: «Самоубийству предшествовала длительная болезнь, после которой он ещё не оправился». Официальному взгляду на вещи, удобнее было всё же, чтобы в сознание массы внедрился гадкий слух, чем впиталась бы в это сознание капля крови, взыскующей к властям и общему непотребству новой жизни. Впрочем, именно эти непотребства с таким тщанием внедрял на шестой части суши сам ВВМ. Плата за прозрение? Это бы хоть как-то оправдало его в изменчивом времени. Но вряд ли способен был он на прозрение…
Венок на его могилу собрали из железного хлама – молотов, маховиков, винтов, серпов…
И ещё один символ – мозги из черепа у него вынут, но, чтобы не остался он совсем пустым, неразборчивый, угнетённый рутинной своего беспощадного труда патологоанатом набьёт его мёртвую голову скомканными листами из случившихся в кабинете Маяковского номеров той же газеты «Правда» … И это будет именно та правда, которой он жил…
***
И вот Маяковский умер физически. Морально и творчески он скончался задолго до того. И вдруг его возродил к жизни никто иной, как Сталин. Сталин, конечно, волшебник был никакой, потому жизнь Маяковского после смерти стала жизнью манекена, железного Буратино, жизнью той статуи, идола, который теперь демонстрирует свою несгибаемую внутреннюю суть на площади Маяковского.
Не стану тут приводить всем известное письмо Лили Брик Вождю и то, что начертал он на этом письме. Говорят, что это начертание, на десятилетия определившее посмертную судьбу творчества Маяковского, сделал Сталин в благодарность Лиле за долгую и беспорочную её службу сексота, с гениальной безошибочностью распознающего врагов народа. Мы уже говорили о том, что лагерные и прочие списки, утверждаемые в конце концов Сталиным, прежде формировались в салонах, подобных салону Лили и Осипа Бриков…
Но оказалось – тут и личная есть признательность Вождя поэту Маяковскому.
И опять надо привести здесь фрагмент его непревзойдённой исповедальной лирики:
Когда я
итожу
то, что прожил,
и роюсь в днях —
ярчайший где,
я вспоминаю
одно и то же —
двадцать пятое,
первый день.
Штыками
тычется
чирканье молний,
матросы
в бомбы
играют, как в мячики.
От гуда
дрожит
взбудораженный Смольный.
В патронных лентах
внизу пулеметчики.
– Вас
вызывает
товарищ Сталин.
Направо
третья,
он
там. —
– Товарищи,
не останавливаться!
Чего стали?
В броневики
и на почтамт! —
– По приказу
товарища Троцкого! —
– Есть! —
повернулся
и скрылся скоро,
и только
на ленте
у флотского
под лентой
блеснуло —
«Аврора».
Это из эпохальной его поэмы «Владимир Ильич Ленин».
Тут вот на что сразу надо обратить внимание. Всё, что описал тут блистательный Маяковский, он, оказывается мог самолично видеть и слышать.
В автобиографических заметках «Я сам» он утверждает, что именно в этот день присутствовал в Смольном:
«Октябрь: Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня не было. Моя революция. Пошёл в Смольный. Работал. Всё, что приходилось. Начинают заседать».
И Василий Катанян, последний муж Лили Брик, свидетельствует с её подачи:
«В день великого революционного переворота Володя находился в Смольном, где помещался штаб большевиков и где он впервые близко увидел Ленина…».
Тут сразу путаница какая-то. Во-первых, «первый» день этой революции был не двадцать пятого, а двадцать четвёртого, именно в этот день Ленин уже прибыл в Смольный и взял всё дальнейшее её течение в свои руки.
Во-вторых, с какого перепугу главным в революции вдруг стал этот Ленин, до того, в самые решительные уже её дни, трусливо скрывавшийся от полиции на удалёнке в Разливе?
С сердешным другом своим Григорием Зиновьевым. Некоторые особо дотошные историки тех дней полагают даже, что политические и тактические связи двух этих пламенных борцов плавно перетекали иногда в интимные. Так что вполне может оказаться, что Ильич и тут намного опередил своё время.
До того, главным человеком этих дней, уже приведшим большевистскую революцию в необратимое движение, был известный и неоднозначный Лев Троцкий. Даже и революцию он поторопил с победой именно к своему дню рождения.
Почему же он столь безропотно сдал своё детище Ленину?
Тут внятного объяснения так и нет, несмотря на половодье всяких догадок и занудных профессиональных экскурсов. Я издал когда-то целых две книги, в которых касался и этой темы – «Ленин в жизни» и «Сталин в жизни».
Так вот, может быть, всё дело в том, что прекрасный во всех отношениях Лев Троцкий остался и в революции Бронштейном по облику и сути, а Ленин был прекрасен только наполовину, по матери. И настоящий смысл революции с калмыцким прищуром становился не столь явным. Подлинное лицо и суть произошедшего, видно, тогдашним кровавым приватизаторам России сразу показать не хватило духу. Могло всё пойти прахом. Вглядевшись тотчас в инфернальное лицо Троцкого, народ, может быть, и спохватился бы тут же, пока ещё горяч был. Потому его всей России и не показали тогда. Нужно было обождать, чтобы народ пообвык немного.
Впрочем, я всегда пугаюсь касаться этой темы.
Интересная картинка происходила в тот день ввечеру на ступенях Смольного. Какой-то взъерошенный человечек с подвязанной, как при зубной боли, щекой и в клоунском рыжем парике под мужицкой кепкой, отчаянно пытался прорваться в штаб революции. Матросы клоуна не пускали. У него пропуск был не того цвета. Тут вполне можно допустить, что упомянутый Троцкий, чтобы избавиться от назойливого конкурента, в этот день и поменял цвет пропусков, сделав их из белых красными. Образовалась свалка и яростная, как половодье толпа, лишь нечаянно внесла в своих недрах этого клоуна в коридоры новой власти. Клоуном этим и был Ленин.
И ещё одна безлепица момента состоит в том, что Сталина в этот окаянный день, обозначивший погибельный путь России, в Смольном не было. И ни в один из тех дней его в Смольном не было.