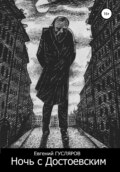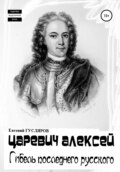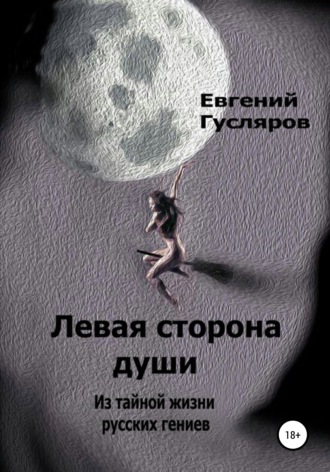
Евгений Николаевич Гусляров
Левая сторона души. Из тайной жизни русских гениев
Его отношение к Определению ясно показывает случай, рассказанный секретарём Толстого, В.Ф. Булгаковым:
«Лев Николаевич, зашедший в “ремингтонную”, стал просматривать лежавшую на столе брошюру, его “Ответ Синоду”. Когда я вернулся, он спросил:
– А что, мне анафему провозглашали?
– Кажется, нет.
– Почему же нет? Надо было провозглашать… Ведь как будто это нужно?
– Возможно, что и провозглашали. Не знаю. А Вы чувствовали это, Лев Николаевич?
– Нет, – ответил он и засмеялся».
«Напишите [царю], ради Бога, чтобы меня сослали. Это моя мечта», – просил в 1890-м году Толстой известного Константина Леонтьева.
Ради справедливости надо тут сказать и то, что первая мысль «приструнить» отлучением Толстого была обсуждаема задолго до выхода церковного Определения. И родилась она в светской интеллигентской среде. В августе 1895 года в журнале «Русский вестник» вышла статья выдающегося философа-публициста Василия Розанова «По поводу одной тревоги гр. Л.Н. Толстого». В статье в достаточно резкой форме был впервые «отчитан» тот за вред, наносимый Православию. В обсуждении этой статьи приняли участие многие известные деятели культуры. Тогда-то и прозвучала мысль об отлучении. Победоносцев был против. По его мнению, это принесло бы Толстому только пользу. Почитатели его немедленно сплели бы ему терновый венец мученика.
В 1899 году появились знаменитые «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» Владимира Соловьёва. Лев Толстой назван был в этом философском эссе, ставшем мгновенно сверхпопулярным, «религиозным самозванцем, фальсификатором христианства и предтечей лжемессии…». Были резко высмеяны и развенчаны последователи Толстого. Всё это посеяло и укрепило мысль о том, что церковный остракизм только помог бы Толстому выздороветь духовно. Так что, пожалуй, и сама церковь почерпнула эту мысль из светского брожения.
Теперь такой вопрос. Много ли нового можно почерпнуть в толстовской ереси? Что он сказал в своём учении помимо Христа, поднялся ли новый пророк Лев выше евангельских сказаний и заповедей?
«Постарайся полюбить того, кого ты не любил, осуждал, кто оскорбил тебя. И если тебе удастся это сделать, ты испытаешь совершенно новое и удивительное чувство радости. Ты сразу увидишь в этом человеке того же Бога, который живёт в тебе. И как свет ярче светит после темноты, так и в тебе, когда ты освободишься от нелюбви…».
Это, как я понимаю, главное в толстовской проповеди добра и непротивления.
Однако насколько немногословнее и доходчивее звучат истины униженного им Галилеянина: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Или: «делай для других то, что ты хотел бы, чтобы другие делали для тебя».
Да, кроме того, ещё вот какие мнения о Толстом в связи с его проповедью всеобщей любви попадаются сплошь и рядом. Известный литератор Н. Тимковский писал, например: «Хотя Лев Николаевич и тогда уже исповедовал страстно принцип непротивления, но никогда не казался мне человеком смирившимся в каком бы то ни было смысле… Все в нём – глаза, манеры, способ выражения – говорило о том, что принцип, заложенный в него глубоко самой природой, – отнюдь не смирение и покорность, а борьба, страстная борьба до конца… если бы он действительно был такой “непротивленный”, то вряд ли нажил бы себе столько яростных врагов… вплоть до знаменитого отлучения…».
И к собратьям по литературному цеху он относился так, что в любви к ним его заподозрить очень трудно:
«Полонский смешон…», «Панаев нехорош…», «Авдотья (Панаева) – стерва…», «Писемский гадок…», «Лажечников жалок…», «Горчаков гадок ужасно…», «Тургенев скучен…», «Тургенев – дурной человек…».
Никакого почтения не испытывал он к именам, составившим уже величие русской литературы: «Читал Пушкина… “Цыганы” прелестны, остальные поэмы – ужасная дрянь…». «Читал полученные письма Гоголя. Он был просто дрянь человек. Ужасная дрянь…».
Особенно не любил Шекспира. Относился, как к наскучившему сопернику, занявшему его место в вечности: «Прочёл “Юлия Цезаря”. Удивительно скверно». «Какое грубое, безнравственное, пошлое и бессмысленное произведение “Гамлет”!».
И по отношению к Родине своей он чувствовал себя первым по времени диссидентом: «Противна Россия. Просто её не люблю… Прелесть Ясная Поляна. Хорошо и грустно, но Россия противна…». После поездки в Париж писал: «В России скверно! Скверно!! Скверно!!! Приехав в Россию, я долго боролся с чувством отвращения к Родине».
Чехову говорил: «Вы знаете, что я терпеть не могу Шекспира. Но ваши пьесы ещё хуже…».
Не удивительно, что Толстой не нуждался вовсе в таком чувстве, как дружба и бескорыстная привязанность. По отношению к нему всё это было бы неискренним и неуместным. Зато ненавидели его с каким-то даже болезненным наслаждением.
К восьмидесятилетию Толстого святой Иоанн Кронштадтский, например, сочинил молитву: Господи, умиротвори Россию ради Церкви Твоей, ради нищих людей Твоих, прекрати мятеж и революцию, возьми с земли хулителя Твоего, злейшего и нераскаянного Льва Толстого и всех его горячих последователей…
Мало кто знает, что последним по времени толстовцем был режиссёр Сергей Бондарчук. О том, как и он отпал от толстовства и насколько пагубным оказалось действие толстовства на его душу рассказывает Диакон Андрей Кураев: Сергей Бондарчук был воспитан на Толстом и буквально влюблён в него. Всю жизнь он прожил со Львом Толстым, то есть – без Церкви. Вся его квартира была увешана портретами Толстого. Но когда его душа начала расставаться с телом и обострились духовные чувства, он начал воочую видеть, что есть нематериальный, духовный мир и что этот мир без Христа – страшен. Попросту говоря – он начал видеть бесов. Он понял, что портреты Толстого его от этого не спасут. И он позвал священника. Исповедовался и причастился (священник, исповедовавший Бондарчука, и рассказал мне об этом случае – не раскрывая, естественно, того, о чём шла речь на самой исповеди)…
Ну, да ладно, хватит, как бы мне тут через край не хватить.
…Я понимаю, что Толстой не нуждается в моём сочувствии. Ни в чьём сочувствии он не нуждается. Он ушёл от нас гордым человеком. Как интересно было бы узнать, что остаётся от живого человека там, куда мы не можем достать даже воображением. Я думаю, что именно это волновало всё же живого Толстого. Особенно в последние дни.
Нет, не перестанут нас, конечно, тревожить эти его грандиозные метания, когда почувствовал он, что встал уже перед той чертой, за которой совсем не важным становится мирской суд. И людское мнение перестаёт волновать. И не надо уже ничем поступаться в угоду земным страстям. И красоваться перед людской, пусть и миллионной массой уже становится бессмысленным и пошлым делом. Между массой и единицей разница становится никакой, как это и есть на самом деле. Наступает последний час священного эгоизма, когда важен только тот отчёт, который ты даёшь самому себе.
Можем ли мы составить себе представление о том, что чувствовал и чего хотел Толстой в те дни и часы, когда ему предстояло решить нечто окончательное?
Это было бы важно для меня.
И вот, оказывается, это было бы важно и для Толстого.
Я представляю себе следующее событие, которое, кажется мне, непременно произойдёт. Найдётся человек, который сумеет доказать, что великий писатель в конце своего пути стал свободен от гнёта общего мнения. Я думаю, что Толстому это оказалось под силу. И обязательно найдётся документ, который подтвердит это. Найдётся та фактическая, окончательная бумага, которая подтвердит, что он освободился от наваждения, преследовавшего его до конца дней. Найдётся то единственное и окончательное свидетельство, которое вернёт нам Толстого, истинного, без двусмысленностей и незавершённости его последнего нам завета. Иначе, зачем ему нужны бы стали все эти метания, эти поездки в Оптину пустынь? Зачем было желание поселиться в монастыре? Зачем были последние телеграммы к старцам?
Почти все исследователи его последних дней приходят к тому, что в эти дни он стал простым несчастным человеком.
Неужели он так и умирал с этим неестественным и скверным в этих обстоятельствах чувством? Как это недостойно гениального человека. И как это отличается, например, от спокойной и возвышенной смерти Достоевского.
Я бы не назвал себя слишком впечатлительным человеком, но мне грустно стало, когда узнал я, что решение церкви о Толстом, оказывается, необратимо. Его нельзя отменить именно потому, что нет о том личной просьбы самого писателя. И теперь уже никогда не будет.
И нет пока документов, основываясь на которых, можно было бы ясно узнать, что он освободился, в конце концов, от душевной смуты, которая отделила его вдруг от народа.
Между тем, желание массы православных верующих помолиться в церкви за русского гения, великого писателя Земли русской становится теперь всё более насущным.
Россия вернулась к тому состоянию, когда просить Бога о милосердии становится духовной нормой. Принадлежность к христианству становится опять показателем принадлежности к нации, к Отечеству, становится непременным условием национального сплочения.
И дело опять же не в том, нужна ли Толстому эта молитва. Она нужна нам. Милосердие истинно верующих взывает к тому. Жаль, что этому и теперь есть препятствия. Молитва за него будет недействительной, даже если молятся родственники. Они обращались к Патриарху с просьбой вернуть Льва Толстого в лоно православия в день столетия со дня публикации печально известного церковного определения. Тогдашний Патриарх Алексий II ответил на эту просьбу так: «Я не думаю, что мы вправе сегодня навязывать человеку, который умер сто лет назад, возвращение в Церковь, от которой он отказался. В отношении графа Толстого Церковь констатировала то, что граф Толстой отказался быть православным христианином… Мы не отрицаем, что это гений литературы, но у него были произведения, которые явно антихристианские, и он сам отказался быть членом Церкви».
Не по силам мне, конечно, показать доподлинную суть тех давних событий, я просто попытаюсь выяснить, есть ли в тех давних поступках и действиях Толстого какие-нибудь неразгаданные намёки. Таят ли эти намёки нужную мне надежду.
Итак, в конце октября 1910 года Лев Толстой неожиданно для всех покинул Ясную Поляну. Книга, которую он читал перед уходом, – «Братья Карамазовы» Достоевского. Считается, что образ старца Зосимы и повлиял на желание писателя уехать в Оптину Пустынь. Свидетельств о том, что Толстой ехал в Оптину с совершенно определённой целью – встретиться с тамошними старцами, существует множество.
Об этом, в частности, пишет личный врач писателя Д.П. Маковицкий и некоторые другие современники. Возникает резонный вопрос, зачем Толстому была нужна эта встреча? Неужели только для того, чтобы снова сказать о своих антиклерикальных убеждениях?
Нет, надо думать, что Толстой сомневался и хотел ещё раз говорить со старцами. И тогда уже или остаться со своим мнением, или согласиться с их доводами и мудростью.
Известный знаток жизни Толстого В. Никитин пишет, что, приехав в обитель, он, Толстой, долго ходил около ограды оптинского скита, но не вошёл в него. Было похоже, что он не нашёл в себе сил переступить порог монастыря и скита…
В книге А.И. Ксюнина «Уход Толстого» (СПб., 1911) содержится важное свидетельство оптинского старца Варсонофия: «Гостиник пришёл ко мне и говорит, что приехал Лев Николаевич Толстой и хочет повидаться со старцами. “Кто тебе сказал?” – спрашиваю. “Сам сказал”. – “Что же, если так, примем его с почтением и радостью”».
Ещё два раза подходил писатель к неодолимому замшелому входу в монастырский скит, но так и не вошёл… Что-то необоримо роковое не позволило ему это сделать…
Далее, уже 29 октября Толстой покинул Оптину старческую обитель и отправился в ближайший Шамординский монастырь. Здесь исполняла послушание его сестра Мария Николаевна.
О подробностях этой встречи можно узнать из записей её подруги, тоже инокини: «Приехав в Шамордино к Марии Николаевне, он радостно сказал ей: “Машенька, я остаюсь здесь!”. Волнение её было слишком сильно, чтобы поверить этому счастью. Она сказала ему: “Подумай, отдохни!”. Он вернулся к ней утром, как было условлено, но уже не один: вошли и те, что за ним приехали. Он был смущён и подавлен и не глядел на сестру. Ей сказали, что едут к духоборам. “Левочка, зачем ты это делаешь?” – воскликнула она. Он посмотрел на неё глазами, полными слёз. Ей сказали: “Тетя Маша, ты всегда всё видишь в мрачном свете и только расстраиваешь папу. Всё будет хорошо, вот увидишь”, – и отправились с ним в его последнюю дорогу».
Опять роковая и совершенно не нужная несообразность, которая лишает последние дни великой жизни необходимой логики. Есть какой-то очень неприличный привкус у этого поворота судьбы и в том, что инициировала этот нескладный зигзаг дочь Александра, тоже в определённой степени одержимая, у которой, к тому же, обнаружились уже нелады с половой ориентацией…
И вот Толстой посажен в поезд. По дороге, однако, он так заскорбел душой и телом, что вынужден был сойти на знаменитой с тех пор станции Астапово. У Толстого развилось опасное воспаление лёгких. В таком возрасте это равносильно смертному приговору. Понятно, если бы Толстой остался в монастыре, он бы жил ещё и думал.
Его помещают в комнатах начальника местного участка дороги И.И. Озолина.
Узнав об этом происшествии, митрополит Санкт-Петербургский Антоний шлёт телеграмму со своими указаниями епископу Вениамину, в епархии которого находилась Оптина пустынь. Решено было направить к Толстому старца Иосифа. Толстой в это время уже в таком состоянии, которое не оставляет шансов…
Недавно стали известны воспоминания игумена Иннокентия (бывшего оптинского послушника), опубликованные в 1956-ом году в Бразилии. В них есть сведения о другой телеграмме, посланной уже самим умирающим Толстым тому же старцу Иосифу в Оптину пустынь. В телеграмме он просил прислать к нему священника. Тут уж особенно ясно становится, зачем Толстому в этот решительный миг стал нужен батюшка. Как я говорил уже, перед смертью за священником посылают не для того, чтобы вести богословский диспут с ним…
После того, как телеграмма была получена, старцы собрались на совет. Вместо вовсе немощного и тоже больного Иосифа к Толстому послали преподобного Варсонофия.
Между тем у постели умирающего начинается нечто уже совершенно необъяснимое и противоестественное. Будто кто-то невидимый и страшно заинтересованный в особом исходе дела, употребил для того свою тайную безотказную режиссуру. Толстой оказывается полностью во власти толстовцев.
Они-то и решают дальнейшее.
Старец Варсонофий к Толстому не допущен. Даже Софье Андреевне было отказано в прощальном поцелуе и христианском благословении. Именно по той причине, что оставалась она истинно верующей и могла повлиять на мужа совсем не так, как хотелось того агрессивному толстовству.
Тут опять вся ответственность за происходящее ложиться на Александру Толстую, да ещё на тогдашнего главу лицемерных, в основном, сторонников толстовского учения Владимира Черткова. Фамилия говорящая.
В беседе епископа Тульского Парфения с жандармским офицером Савицким, который дежурил в день смерти Толстого на станции Астапово, есть знаменательные слова о том, что Толстого «буквально содержали в плену и делали с ним, что хотели».
То же подтвердил сын Толстого Андрей Львович.
Старец Варсонофий добавил свой штрих к картине: «Как ни силён был Лев, а вырваться из клетки так и не сумел».
Мне кажется, что уже этого достаточно, чтобы сделать однозначный вывод – Толстой не ответственен за то, что с ним происходило в последние мгновения жизни. Ни по земными законами, ни по небесным…
Нет, конечно, во всём этом прямого указания на то, что Толстой точно хотел мира своей измученной душе, но Ивану Бунину, например, то, что тогда происходило, дало повод задать вполне логический вопрос: «Но что было бы, если бы Александра Львовна допустила его (старца Варсонофия) к отцу?» – и отвечает: «Можно предположить примирение с Церковью».
Есть одно косвенное свидетельство того, что подобный исход последней драмы Толстого был бы именно таким.
Тут надо вернуться к событиям осени 1904 года. Тогда умирал младший брат писателя, тоже толстовец, Сергей Николаевич. И вот как это событие описано со слов сестры их, при том присутствовавшей, Марии Николаевны, той самой инокини, к которой Толстой приехал в последние свои дни: «Когда нынешнею осенью заболел к смерти брат наш Сергей, то о болезни его дали мне знать в Шамордино, и брату Лёвочке, в Ясную Поляну. Когда я приехала к брату в имение, то там уже застала Льва Николаевича, не отходившего от одра больного. Больной, видимо, умирал, но сознание было совершенно ясно, и он мог говорить обо всём. Сергей всю жизнь находился под влиянием и, можно сказать, обаянием Льва Николаевича, но в атеизме и кощунстве, кажется, превосходил брата. Перед смертью же его что-то таинственное совершилось в его душе, и бедную душу эту неудержимо повлекло к Церкви. И вот, у постели больного, мне пришлось присутствовать при таком разговоре между братьями: “Брат”, обращается неожиданно Сергей ко Льву Николаевичу: “как думаешь ты: не причаститься ли мне?” – Я со страхом взглянула на Лёвушку. К великому моему изумлению и радости, Лев Николаевич, не задумываясь ни минуты, ответил: “Это ты хорошо сделаешь, и чем скорее, тем лучше!”.
И вслед за этим сам Лев Николаевич распорядился послать за приходским священником.
Необыкновенно трогательно и чистосердечно было покаяние брата Сергея, и он, причастившись, тут же вслед и скончался, точно одного только этого и ждала душа его, чтобы выйти из измождённого болезнью тела».
И как жаль, что рядом с самим Толстым не оказалось в нужные мгновения столь же мудрого и независимого от земных непрочных истин человека.
И разве это не документ и не окончательная и фактическая бумага, на которой записаны последние слова его перед смертью: «Бог есть то неограниченное Всё, чего человек сознает себя ограниченной частью. Истинно существует только Бог. Человек есть проявление Его в веществе, времени и пространстве. Чем больше проявление Бога в человеке (жизнь) соединяется с проявлениями (жизнями) других существ, тем больше Он существует. Соединение этой своей жизни с жизнями других существ совершается любовью. Бог не есть любовь, но чем больше любви, тем больше человек проявляет Бога, тем больше Он истинно существует».
Последние его мысли были о Боге и Царствии Небесном.
***
И тут мне проще уже говорить о том вечном в его учении, что непременно люди будут помнить, чтобы чувствовать себя уютнее и увереннее в земном своём пути…
…Открывать законы неживой природы занятие вполне достойное. Есть целый ряд великих людей, которые стали великими лишь потому, что догадались однажды – за каждым явлением природы скрыт определённый вечный порядок. Мы говорим – закон Ньютона – ясно сознавая, что не Ньютон его создатель. Природа всегда жила этим законом. Разница между природой и человеком та, что природа не может отринуть вечные законы без того, чтобы не погибнуть. Человек не раз догадывался о том, что он тоже не может жить без вечных законов, которые спасительны именно для него. Общественных законов в неживой природе нет. Их придумывает человек, и именно потому они в массе своей так недолговечны и слабы. Так что и для следующего поколения бывают уже не годны. Но есть и другие законы, которые оказываются так же прочны, как законы природы. И которые могут дать возможность человечеству уцелеть в бурном потоке жизни.
Люди помнят не всех, конечно, своих пророков и лучших людей, которые указали им на спасительные законы. Подвиг этих людей подлинно велик, поскольку они открывали не существующий уже порядок, а указывали тот, который должен стать вечным в будущем. Само человечество обрело бы будущее, если бы стало жить по этим законам.
Некогда впал я в смущение. Толстой был причиной. Я читал тогда Достоевского. И вот сомнение и соблазн вошли в мои мысли. Смущение это требовало выхода. Я мог сравнить два писательских инстинкта, способность той и другой великой души к роковому предчувствию… Мне показалось непонятным и необъяснимым, отчего так недостаточно, в сравнении, Толстой, этот величайший из печальников русского народа, каким мы его теперь называем, чувствовал инстинктом своим приближение великой грозы человечества. Ведь умер он всего за шесть лет до событий, опрокинувших не только Отечество, но потрясших весь устоявшийся мировой порядок. Он не выходил при этом из привычной творческой колеи. Жил безмятежием великана. В то время как Достоевский, например, испытывал величайшее напряжение каждым нервом и словом. Да что Достоевский… Лесков, Горький и даже сочинитель авантюрных бестселлеров Крестовский чуяли всё это и, каждый по-своему, предупреждали и предсказывали приход страшного российского времени.
Толстой, казалось мне, оставался в своих заоблачных высях и продолжал учить всё человечество общим вопросам. Этого бывает недостаточно, когда тень смертная застит душу.
Задним числом дело представлялось мне таким образом: вот шёл человек и упал по неосторожности с берега и тонет. Оставшийся на берегу вместо того, чтобы кинуться спасать его, делает всем другим, идущим по этой дороге выговоры, отчего это они так неосторожно ходят мимо крутых берегов…
Я испугался тогда этих своих мыслей.
Видно, это был грех мой.
И вот я стал искать самую больную мысль Толстого той поры.
И, кажется, нашёл.
Он так и назвал эту болевую мысль свою – законом.
На протяжении долгих зрелых лет он по-разному формулировал этот закон. Но разным был только порядок слов.
Закон же только уточнялся.
В окончательном виде он известен теперь многим: «зло никогда не уничтожается злом; но только добром уничтожается зло».
Это самая краткая и сжатая формула его Закона.
Формула эта может показаться сухой. Это свойство всякого окончательного ответа, в котором пропущен захватывающий промежуточный поиск решения.
Его можно восстановить. И тогда утраченное напряжение откроется в каждом знаке окончательной формулы.
«Только кажется, что человечество занято торговлей, договорами, войнами, науками, искусствами: одно только дело для него важно и одно только дело оно делает – оно уясняет себе те нравственные законы, которыми оно живёт. И это уяснение нравственного закона есть не только главное, но единственное дело всего человечества».
«Одно есть несомненное проявление Божества – это законы добра, которые человек чувствует в себе и в признании которых он не то что соединяется, а волею-неволею соединён с другими людьми».
«Как растёт человек, так растёт и человечество. Сознание любви росло, растёт в нём и доросло в наше время до того, что мы не можем видеть, что оно должно спасти нас и стать основой нашей жизни. Ведь то, что теперь делается это последние судороги умирающей насильнической, злобной, нелюбовной жизни».
«В любви есть жизнь. Как же тут быть? Любить других, близких, друзей, любящих? Сначала кажется, что это удовлетворяет потребности любви, но все эти люди, во-первых, несовершенны, во-вторых, изменяются, главное, умирают. Что же любить? И ответ один: любить всех, любить начало любви, любить любовь, любить Бога. Любить не для того, кого любишь, не для себя, а для любви. Стоит понять это, и сразу уничтожается всё зло человеческой жизни и становится явным и радостным смысл её».
«Постарайся полюбить того, кого ты не любил, осуждал, кто оскорбил тебя. И если тебе удастся это сделать, ты испытаешь совершенно новое и удивительное чувство радости. Ты сразу увидишь в этом человеке того же Бога, который живёт в тебе. И как свет ярче светит после темноты, так и в тебе, когда ты освободишься от нелюбви…».
«Ведь это так просто, так легко и так радостно. Только любя каждый человек, любя не одних любящих, а всех людей, особенно ненавидящих, как учил Христос, и жизнь – неперестающая радость, и все вопросы, которые заблудшие люди так тщетно пытаются разрешить насилием, не только разрешаются, а перестают существовать…».
Вот и всё. Высшее проявление добра есть любовь. Зло можно победить только любовью. На агрессию зла надо отвечать агрессией любви. Агрессия любви заключается в том, чтобы любить врага.
И вот что я чувствую, к сожалению. Даже авторитет Толстого не может уберечь меня от сомнения. Я не могу сохранить в себе к этому простому построению столько почтения, чтобы не считать их наивными. Рядом стоит требование Христа подставлять левую щеку, если тебя ударили по правой. Мне кажется, и с этим я не справлюсь, если случай такой произойдёт со мной, например, при шумном застолье. Рядом стоит открытие Швейцера о том, что крестьянин, скосивший на лугу тысячи цветов на корм своей корове, совершит преступление, если ради забавы сомнёт цветок на обочине дороги… Однако я не могу не понимать, что до тех пор, пока мы все это будем считать наивным, с порядком в душе и гармонией в мире у нас ничего не получится.
Я правильно догадался, что Толстой и для меня выводил этот свой закон. И не мог он не знать, что будут люди, не умеющие скрыть своей иронии.
И он просто объяснил мне природу этой моей иронии.
«Думай хорошо, – сказал он, – и мысли созреют в добрые поступки».
«Для того, чтобы человеку узнать тот закон, которому он подчинён и который даёт ему свободу, ему надо подняться из телесной жизни в духовную».
Значит, когда я реагирую на пощечину только болью своего тела, я не дозрел ни до заповеди Христовой, ни до Закона Толстого.
На ненависть чужую я реагирую сердцем и неразумием.
И тут я вовсе не смутно даже, догадываюсь – на Закон Толстого надо реагировать разумом.
И тогда всё станет на свои места.
И тут я вовсе не смутно даже, догадываюсь. Закон Толстого не наивен, а прав, стоит только переделать себя.
И дело тут во мне, а не в Толстом.