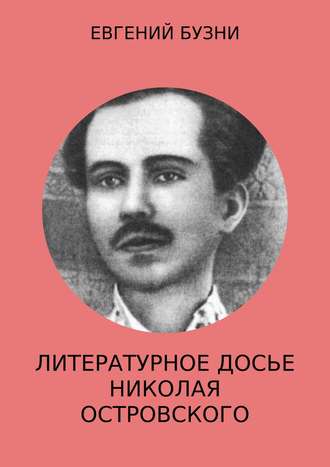
Евгений Николаевич Бузни
Литературное досье Николая Островского
Каждый писатель вкладывает в литературное произведение частицу своей жизни, своей души. Вложил её и Николай Островский. И не только в первую книгу, но и в роман "Рождённые бурей", который по окончании должен был стать хроникой самого напряжённого периода жизни целого поколения людей, рождённых бурей революции, людей, к которым принадлежал и сам Николай Островский – писатель.
ТАЙНЫ МЁРТВОГО ПЕРЕУЛКА
Я называю так главу книги отнюдь не с целью придания ей детективного оттенка, а по причине того, что Николай Островский написал первую часть своего романа "Как закалялась сталь" именно в Москве в небольшой комнатушке, находившейся тогда по адресу Мёртвый переулок, дом 12. Так же я озаглавил и свою первую публикацию о Николае Островском, которая появилась в еженедельнике "Современник" в октябре 1988 г. Тогда это было своего рода сенсацией. Заместитель директора по научной работе Московского музея Николая Островского Татьяна Андреевна Латышева сказала мне, прочитав статью, весьма откровенно: "Я вам честно скажу, Евгений Николаевич, если меня моё руководство в Министерстве и ЦК комсомола будут ругать за эту публикацию, я тоже вас не пощажу, если будут хвалить, то и мы вас похвалим. Поймите нас правильно. Публикацию вы с нами не согласовывали. Так что не обессудьте в случае чего". Но, то ли потому, что публикация понравилась начальству, то ли потому, что в стране шёл политический развал, и всем было не до Островского, но никого за мой материал не ругали, так что и я обошёлся без особых выговоров.
Тогда я был новым сотрудником музея и до сих пор очень признателен Латышевой за то, что она ввела меня в мир неизвестного Островского, позволив искать и находить, не смотря на то, что не всем это нравилось. В то время живы были жена Островского Раиса Порфирьевна, первый редактор романа "Как закалялась сталь" Марк Борисович Колосов, секретарь Островского, писавшая под диктовку несколько глав романа, Галина Алексеева, друг Островского Николай Новиков. Все они имели отношение к написанию первой части романа, все оставили свои воспоминания об этом периоде, все вспоминают по-разному моменты публикации романа, но как ни странно, оставив неясными вопросы: когда на самом деле и почему Николай Островский начал писать свой ставшим знаменитым роман? Почему в редакциях нескольких журналов и издательств ожидали рукопись романа, который ещё не был написан никому не известным автором? Почему в первую часть романа Островского попали факты жизни из биографии Аркадия Гайдара?
Ответы на эти вопросы мог дать Мёртвый переулок. Попробуем же раскрыть хотя бы некоторые из его тайн. И начну я со своей первой публикации в "Собеседнике".
"УРОКИ ПРАВДЫ
Приступая к работе над произведениями Н. Островского, собрание сочинений которого издательство «Молодая гвардия» решило переиздать, я не ожидал больших трудностей. Предстояло сверить текст романа «Как закалялась сталь», изданного в трёхтомнике 1974 года с пятым прижизненным изданием, вышедшим в 1936 году, то есть с тем изданием, которое автор признал каноническим для всех последующих переизданий. Читая пятую главу второй части романа, где рассказывается о городской партконференции, делегатом которой был и Павка Корчагин, я обратил внимание на слова Окунева, сказанные им Панкратову при входе в театр:
«Помнишь, Генька, три года назад мы с тобой таким же манером сюда пришли. Тогда Дубава с «рабочей оппозицией» к нам возвращался».
«Рабочая оппозиция». Фракционная группа, во главе которой наряду с А. Г. Шляпниковым была и знаменитая женщина-дипломат А. М. Коллонтай. Какое место ей было отведено в книге? Сопоставив пятое издание этой части романа с первым, вышедшим в 1934 году (1-я часть впервые выпущена отдельной книгой в 1932 г.), я с удивлением вместо выше процитированных слов прочел: «Тогда Корчагин и Дубава к нам возвращались». Речь идёт о возвращении из оппозиции.
Но в книге и намека нет на его отход от партии. Ответ нашелся в переписке Островского, опубликованной в третьем томе сочинений. В письме главному редактору издательства «Молодой большевик» К. Д. Трофимову Николай Островский писал:
«…в этом третьем издании по моему желанию выброшен эпизод, где Павка попадает в рабочую оппозицию (начало первой главы второй части).
Исправления и добавления там небольшие, но очень важные политически. Например: зачеркнуть Павла в рабочей оппозиции и в соответствии с этим зачеркнуть строки в последующих страницах, которые об этом так или иначе напоминают. Сделал я это потому, что образ молодого революционера нашей эпохи должен быть безупречен, и незачем Павке путаться в оппозиции. Тем более что здесь я не грешу против правды».
Действительно ли не грешил? Я взял рукопись и стал читать страницу за страницей. Я открывал для себя новые, никогда не публиковавшиеся страницы и в них нового Павку Корчагина и нового Николая Островского. Нет, любимый мною в школьные годы Павка не был безупречной монолитной глыбой с самого рождения. Он закалялся не только в борьбе с петлюровцами и кулаками – в жестокой борьбе с самим собой. Вот как об этом рассказано в рукописи восьмой главы первой части книги.
«В железнодорожном райкоме комсомола появился новый секретарь Жаркий. Павел встретился с ним в отсека и первое, что бросилось в глаза – это орден. Чувсто встречи Павел не смог сразу освоить, но где-то в глубине самого себя всё же колыхнулась ревность. Жаркий герой Красной Армии, тот самый Иван, который там, под Уманью, сразу начал борьбу за первенство в отваге и исполнении боевых заданий. Теперь Жаркий секретарь райкома, его непосредственное "начальство".
Жаркий встретил Павла дружески, как старого приятеля, и Корчагин, устыдясь своего мимолётного чувства, крепко с ним поздоровался.
Работали споро и слыли друзьями. На губернской конференции от железнодорожного райкома вошли в состав губкома комсомола двое: Павел и Жаркий. Корчагин добыл у администрации небольшую комнату; поселились в ней коммуной: Жаркий, Павел, Старовой – агитпроп коллектива и Званин – член бюро коллектива. Дни проходили в работе; лишь поздно ночью друзья возвращались домой.
Первые весточки о новой политике партии получили в губкоме, но это были лишь обрывки, ещё не сформированные. Но через несколько дней, на первой проработке тезисов, обозначились разногласия. Павел не совсем понял установку тезисов, но ушёл с совещания с тяжёлым чувством недоверия и сомнения. Встретился в литейном с Дударковым, приземистым мастером-коммунистом. И тот, мигая выцветшими глазами на свет, остановил Корчагина:
– Что это, в самом деле, буржуев возвращают на старое место? Говорят, магазины откроют. Торговля пойдет во всю ивановскую. В общем, били, а потом здравствуйте, всё по-старому.
Павел ему не ответил, но сомнения заползали к нему всё больше и больше.
В борьбу против партии втянулся незаметно, но когда втянулся, то сразу же повёл её остро. Первое его выступление на пленуме губкома вызвало бурную дискуссию. Сразу же разделились на меньшинство и большинство. А дальше закружились больные дни. Вся парторганизация, комсомол лихорадили в дискуссионной горячке. И непримиримая позиция Корчагина и его товарищей создали в губкоме невыносимую атмосферу.
Яким, секретарь губкома, крутолобый, весь начинённый энергией, развитой и политически, вместе с Устинович пытались индивидуально проработать вопросы с Корчагиным и его единомышленниками, но из этого ничего не вышло. Павел в упор поставил грубо и прямо следующее определение:
– Ты мне ответь, Яким, буржуазия получает права на жизнь. Я в высокой теории не разбираюсь. Я понимаю одно, что НЭП – это предательство нашего дела. Не за это мы боролись, и мы, рабочие, с этим не согласны и будем против этого бороться изо всех сил. А вы, может быть, хотите буржуйскими лакеями сделаться? Пожалуйста. Яким вскипел:
– Павел, ты пойми, что ты говоришь. Ты оскорбляешь всю партию. Ты клевещешь на неё. Ты уперся в своём фанатизме и не желаешь понять простых вещей, что, ведя дальше политику военного коммунизма, мы погубим революцию, мы дадим возможность контрреволюции поднять против нас крестьянство. Ты не желаешь этого понять. А раз ты не хочешь по-большевистски проработать этот вопрос, а угрожаешь борьбой, то мы будем бороться. Мы и так потратили на вас массу времени совершенно бесполезно.
Они расстались врагами.
После выступления на общепартийном собрании района, где приезжие из центра представители рабочей оппозиции были провалены большинством, Павел выступил с недопустимо резкой речью, с обвинением партии в предательстве.
На другой день экстренным пленумом губкома был исключён из его состава вместе с четырьмя другими товарищами. С Жарким он не разговаривал. Они были в двух различных лагерях. И Павлу удалось провалить Жаркого на собрании своего коллектива, где за Павлом шло большинство. Борьба углубилась, и в результате неё Павел был исключён из райкома и снят с секретаря коллектива. Последнее привело к бурному столкновению, и два десятка товарищей сдали свой комсомольский билет. И, наконец, Корчагин с его единомышленниками был исключён из организации».
Меня заинтересовало дальнейшее развитие событий, как в рукописи, так и в жизни самого Островского. Нам менее всего известен киевский период его жизни – с 1920 по 1923 год. Время нэпа. Достоверных документов этих лет в шести музеях Н. Островского нет. Но есть свидетельства, говорящие о том, что Островский вступил в комсомол в 1919 году. Достоверно и то, что в Берездове Николая Островского приняли в комсомол в 1923 году. Возможно, верны оба факта. В таком случае он мог быть исключён из комсомола, находясь в Киеве, как это было с Павкой в рукописи. И всё же пока это лишь предположение.
Чтобы проверить эту версию, я отправился в бывший Мёртвый переулок, где жил писатель, когда создавал первую часть романа «Как закалялась сталь».Затем отыскал в маленькой однокомнатной московской квартире первого редактора романа «Как закалялась сталь» Марка Борисовича Колосова. От него услышал:
– Да-да, всё правда. Островский писал то, что было с ним. Мы обсуждали это. Он ничего не выдумывал.
«Для него наступили мрачные дни, самые беспросветные, какие он только видел в своей жизни.
Жаркий из коммуны ушёл.Выбитый из колеи, морально подавленный, Павел стоял на мостике, идущем над вокзалом, и ничего не видящими глазами смотрел вниз, где взад и вперёд двигались паровозы и составы. Его кто-то тронул за плечи. Это был Орешников, бугреватый, весь в веснушках, комсомолец. Павел его недолюбливал и раньше за его пронырливость и всезнайство. Был он секретарём ячейки на кирпичном заводе.
– Что, тебя исключили?– спросил он, бегая по Павлу белёсыми глазами.
– Да,– коротко ответил.
– Я всегда говорил,– заторопился Орешников.– Что ты хочешь? Ведь везде жиды сидят. Они везде пролезли, везде командуют. Им выгодно эту лавочку устроить. Ведь на фронте ты воевал, а они дома сидели. А теперь тебя исключают, —гадливо подхмыкнул.
Павел смотрел на него глазами, полными ненависти, и, чувствуя, что сейчас произойдет что-то нехорошее, не имел сил сдержать себя. Его рука схватила Орешникова за грудь, и вне себя Павел рвал его во все стороны.
– Ты, белогвардейская душа, проститутка проклятая, ты что сказал? Ты кому это сказал, кулацкая душа? Ты, гад, знаешь, что когда в моем городе белые большевиков расстреливали, так больше половины из них были евреи-рабочие. Эх, ты! С кем говорить? И ты к оппозиции примкнул? Стрелять таких гадов надо.
Орешников вырвался и полетел стремглав вниз по лестнице. А Корчагин смотрел ему вслед дикими глазами. «Так вот ещё кто с нами согласен!»
Осознав, в какое болото попал Корчагин со своими необдуманными оппозиционными мыслями, автор вытаскивает его оттуда мощным ярким выступлением самого Павки.
«Оперный театр был наполнен людьми. Они узенькими ручейками вливались во все входы и заполняли партер и ярусы. Это было объединённое заседание общегородской парторганизации совместно с комсомолом. Подводились итоги внутрипартийной борьбы.
В фойе театра и в проходе партера шли разговоры о том, что сегодня ожидают возвращение членов рабочей оппозиции партии. В переднем ряду сидели Жухрай, Устинович, Жаркий, обсуждая этот вопрос. Рита отвечала Жаркому:
– Они возвратятся. Жухрай говорит, что перелом уже произошёл. Бюро губкома решило: в случае возвращения и осуждения своих ошибок, принять всех обратно, создать товарищескую атмосферу и в знак доверия и искренности возвращающихся на предстоящем съезде ввести Корчагина членом губкома. Я с большим волнением ожидаю начала.
***
Председатель долго звонил. Когда зал успокоился:
– Теперь, после доклада губкома партии, даём слово представителям оппозиции в комсомоле. Слово предоставляется товарищу Корчагину.
Из последних рядов поднялась фигура в защитной гимнастёрке и быстро взбежала по мостику на трибуну. Откинув голову назад, придвинулась к самому барьеру и, пробежав рукой по лбу, словно что-то вспоминая, упрямо тряхнула кудрявой головой и обе руки крепко легли на спинку барьера.
Павел увидел наполненный людьми театр, он чувствует тысячи глаз, устремлённых на него, огромный партер, и все пять ярусов театра затихли, ожидая.
Эти несколько секунд, которые он стоял молча, стараясь побороть охватившее его волнение. Оно было так велико, что он не нашёл сил говорить сразу.
Недалеко от трибуны, в переднем ряду, рядом с Устинович, цельной глыбой сидел в кресле председатель губчека Жухрай. Он смотрел на Павла выжидающе и улыбнулся неожиданно улыбкой сурово ободряющей. И как-то тяжело было видеть в этой могучей фигуре пустой рукав френча, засунутый в карман за бесполезностью. На левом кармане френча окаймлённый тёмно-багровой лентой поблескивал овал <ордена> красного знамени.
Павел оторвался взглядом от переднего ряда, ведь надо было говорить, его ждали. И звонко, во всю силу напряжённого, как перед ударом, всего своего существа, бросил в зал:
– Товарищи! – и побежало на подъём сердце, и чувствовал – весь загорается ярким, жгучим, и почудилось, словно зал зажжён тысячами люстр, и отсвет
их ожёг тело. И слова страстные, как схватка, ударились в зал, и тысячи людей, когда к ним долетели эти слова, тоже стали наполняться волнением. А голос юный, звонкий, до краёв наполненный неудержимой страстью энтузиазма, вспыхивал искрами. И они, эти искры, долетали до самых далеких ярусов, под самый купол свода.
– Я должен говорить сегодня о прошлом, вы ожидаете моих слов, и я буду говорить. Я знаю, речь моя будет тревожная, и это, наверное, не политика. Это речь от сердца, от всего меня, от всех тех, кого я сейчас представляю. Я буду говорить о жизни нашей, о пламени, которым горим, которое сжигает нас, как сжигает уголь гигантская глотка топки. Нашим огнём живёт страна, нашим огнём республика победила. И мы, юные, огнём захваченные, вместе с вами ,жизнь видавшие, обновляли землю. Дрались жестоко под одними знаменами нашей партии великой, невиданной железной партии. Два поколения гибли в сечах, отцы и дети. Два поколения собрались сейчас здесь. И ожидаете от нас, своих сподвижников, совершивших тягчайшее преступление, мятеж против своего класса, против своей партии и порвавших железный закон партийной дисциплины, ждете ответа…
Как могло случиться так, товарищи, что мы, опаленные огнём революции, чуть было не предали её? Как могло это случиться? Всем вам известна история нашей борьбы, борьбы с вами, большинством партийной организации. Как могло случиться то, что мы, не отстававшие от вас в самые мрачные дни для нашей республики, подняли этот мятеж?
Воспитанные непримиримой ненавистью к буржуазии, мы приняли НЭП как контрреволюцию. Поворот партии к НЭПу, к этой новой форме борьбы пролетариата против буржуазии, только в другой форме, на других позициях, мы приняли, как предательство интересов нашего класса. Наша борьба стала еще более непримиримой, потому что среди старой гвардии большевиков были товарищи, тоже поднявшие мятеж против решения партии. И мы, молодёжь, зная их долголетнюю работу, шли за ними, считая их истинными революционерами-большевиками. Оказалось мало одного энтузиазма, мало одной преданности революции. Надо уметь понять сложнейшую тактику и стратегию гигантской борьбы.
Надо было понять, а это мы лишь сейчас поняли, что не всегда атака в лоб – правильная атака. Бывает, значит, и так, что такая атака – есть предательство революции. Велико же было наше ослепление, если даже имя вождя, имя товарища Ленина, повернувшее страну на новый путь, нас не останавливало. И мы, примкнувшие к рабочей оппозиции, обманутые красивой, казалось, такой правдивой борьбой за истинную революцию, бросились в комсомол, мобилизуя там силы и организовывая их против линии партии.
Мы, члены бюро губкома комсомола, вам известны, после острой борьбы были исключены из его состава, тогда мы перенесли борьбу в районы. Нас разгромили и там, но уже с большим трудом. Тогда мы укрепились по своим коллективам, где нам удалось мобилизовать за нас молодёжь. И особенно упорно держался коллектив,был где секретарём я. Сопротивление наше достигло высшего напряжения, когда наш разгром в последних опорных пунктах был предрешён.
Да, товарищи, это были тяжёлые для нас дни. Ведь мучительно тяжело бороться против своей партии, когда неразрешённые вопросы мутили голову и так часто вставала мысль: против кого ведёшь борьбу?
А до чего ведёт внутрипартийная борьба, когда удары сыпятся и с той, и с другой стороны? Я со стыдом позора вспоминаю один разговор. Товарищ Жухрай, наверно, помнит его. Он меня встретил на улице и привёз на машине к себе. Я, отуманенный борьбой, сказал: "Раз предают революцию, мы должны бороться, даже если надо вооружённым путём". А Жухрай ответил просто: "Тогда мы вас расстреляем, как контрреволюционеров. Смотри, Павел, ты на последней ступеньке. Ещё шаг – и ты останешься по ту сторону баррикады".
Это говорил человек для меня дорогой, мой первый учитель, человек, которого я глубоко уважаю за его мужество и твёрдость, человек, под руководством которого я работал в чека. Я этих слов не забыл. И когда нас, непримиримых, исключили из рядов организации, каждому из нас стало понятно, что такое политическая смерть. Да смерть. Так как жить без партии своей мы не можем. И мы возвратились в неё, сказав ей открыто и прямо с рабочей простотой: "Возвращай нам жизнь".
Мы поняли за эти месяцы свою ошибку. Нет жизни вне партии. Это каждому из нас ясно. Нет счастья больше, как быть бойцом. Нет гордости выше, как сознание, что ты один из солдат революции. И мы никогда не уйдём из рядов восставшего пролетариата. Нет ничего дорогого, чтобы мы не отдали партии. Всё: жизнь, семью, личное счастье – всё отдадим нашей партии великой.
И партия нам открыла двери. И мы опять среди вас, семьи могучей, нашей семьи. И вместе с вами страну разорённую, кровью залитую, обнищалую и голодную, страну, кровью наших друзей и товарищей вспоенную, восстанавливать будем вместе. А то, что было, для нас будет последним испытанием на крепость.
Пусть же жизнь живёт, и наши руки вместе с миллионами рук завтра же начнут возрождать разгромленный наш дом. Пусть жизнь живёт, товарищи! Мы мир возродим заново! Разве могут не победить те, сердца которых – мощное динамо, и мы победим».
Павел задохнулся, весь дрожа, сошёл с трибуны. А зал дрогнул и загремел оглушительным всплеском, словно стены треснули в основании их и валились на партер. А волны криков сбрасывались от купола вниз, и мелькали тысячи рук, и весь зал бурлил, словно кипящий котел.
Не видя ступенек, спускался в боковую дверь Павел и, чтобы не упасть от прилившей к голове крови, схватился за тяжёлую бархатную портьеру боковой занавеси. Его подхватили чьи-то руки, и он почувствовал крепкое объятие. Чей-то голос знакомый шептал ему в лицо:
– Павлуша, друг, дай руку, товарищ! Дружба наша крепкая никогда теперь не порвётся.
И, почти теряя сознание от страшной боли в голове, Павел нашёл в себе силы ответить Жаркому:
– Будем жить ещё, Иван. Будем вместе топать.
И руки их не разнять. Их спаяла не просто дружба…»
Этими строками заканчивалась рукопись первой части книги, написанной в Мёртвом переулке.
Я спрашиваю Марка Борисовича:
– А как же получилось, что такая интересная глава и другие, не менее любопытные оказались выброшенными из первой публикации? Ответ был таким:
– В то время начальником Главлита нашего издательства, в журнальном секторе которого был двадцать один журнал, работала Клавдия Тимофеевна Свердлова, вдова первого председателя ВЦИК Я. М. Свердлова. Она прочитала рукопись и сказала: «Марк, одно дело, что было в жизни, другое – в литературе». Предложила сделать героя стойким, без отклонений. Мы, конечно, могли спорить, тем более что начальник Главлита СССР Борис Волин был моим хорошим знакомым. Однако мы посоветовались с Николаем и решили согласиться. Может, для того времени это и было правильно…
Мы открываем двери в нашу историю. Одна из них ведёт в мир Николая Островского. Мне удалось её лишь приоткрыть. И подлинная рукопись была откровением, исповедью писателя. Дверь ещё не распахнута".
В предыдущих главах нам удалось приоткрыть шире эту дверь. Продолжим же наши усилия.







