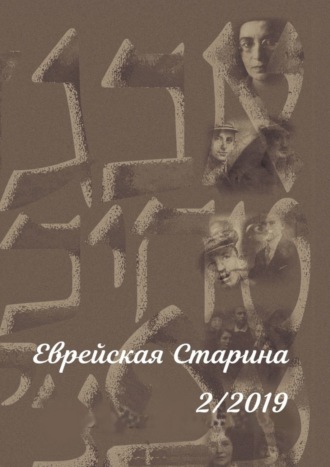
Евгений Михайлович Беркович
Еврейская Старина. №2/2019
Любовь Гиль
200-летняя история моих предков и породнившихся с ними семей
(Документы, письма, воспоминания родных)
Боград, Блох, Фельдман, Куперман, Абрамские, Зайцевы, Шаргородские, Уманские, Стрельцис, Баскины, Позины, Вайнцвайг, Темкины, Гершкович, Каневские, Либерман, Сорокины
(продолжение. Начало в №4/2015 и сл.)
Глава XI (III, IV)
Фельдман и Куперман
Недавно у меня появилось немало новых сведений о семьях – потомках ветвей Фельдман и Куперман, живших в Николаеве в XIX и начале XX веков.
Темкины
Первым ребенком из 8 детей в семье Иоэля-Бера Фельдмана, старшей сестрой пяти сестрам и двум братьям, в том числе моей бабушке, Басе Фельдман, была Ривка/Рива Берковна Фельдман, 1868 г.р.
Рива в 1888 году вышла замуж в Николаеве за бериславского мещанина Хацкеля Мееровича Темкина, родившегося в 1864 г.р. в семье Меера и Сары-Сосиль Темкиных. В главе III (Фельдман) [1] я уже писала о ней и её семье, перечислила ее детей: «Либа-Гитель, 1894 г.р., Махля, 1897 г.р., Лев, 1901 г.р., Яков, 1902 г.р., Цирель, 1905 г. и умершие в раннем детстве – Хаим-Мордух, (1889—1890), Герш (1898—1900), Эстер (1908—1908). Имена Циля и Лев я слышала в разговорах родных при упоминаниях о Темкиных. У меня хранятся фотографии Цирель (Цили) и Льва, но мне почти ничего неизвестно об их судьбе.
Недавно в «Яд ва-Шем» появились списки эвакуированных. В них я нашла Цилю Темкину, бухгалтера, эвакуировавшуюся в Молотово Омской области и ее брата Якова Темкина, инженера, эвакуировавшегося в Сталинград с женой, Ревеккой Ароновной Липницкой, дочерью Арнессой, 1934 г.р. и сыном Анатолием, 1939 г. р. До войны Циля и Яков с семьей жили в Николаеве. Какова их дальнейшая судьба, вернулись ли они в Николаев? На этот вопрос пока ответа нет».
К счастью, сейчас многое прояснилось в судьбе потомков Ривы Темкиной. Через сайт «GENI» меня нашла правнучка Якова Темкина – Даниэли (Даша). Её бабушка – моя троюродная сестра Арнесса, дочь Арнессы, Марина, и внучка Даша, живут в Иерусалиме. Арнесса и Марина репатриировались в Израиль из Ленинграда, Даша родилась в Израиле. Теперь благодаря интернету мы вышли на связь, Арнесса и поведала мне о своих родных.
К великому сожалению, бабушка и дедушка Арнессы, Рива и Хацкель Темкины ушли из жизни в годы Гражданской войны заболев тифом, вечная им память.
Арнесса Яковлевна Темкина (по мужу Полоцкая) поделилась со мной фотографиями из ее семейного архива. Благодаря названным ею фамилиям родных, Перельман, Соловьевы, а также спискам эвакуированных из Николаева с сайта «Яд ва-Шем» удалось восстановить некоторые подробности о семьях дочерей Ривы Фельдман-Темкиной, Таубы и Махли. Но, к сожалению, связь с потомками этих семей утеряна.


Тауба/Таня
Среди новых находок найдена запись о рождении в 1891 году Таубы, старшей дочери в семье Хацкеля и Ривы Тёмкиных. После смерти родителей Тауба (в семье ее называли Таней) заменила мать своим сестерам и братьям. Таня с мужем, Григорием Перельманом, и детьми жила в Николаеве. У нее была дочь Лия (Люся), 1912 г.р. и сын, имя которого пока не установлено, известно только, что он пропал без вести в Финскую войну. У Люси была дочь Римма Хавкина, 1940 г.р., у Риммы двое сыновей Виталий, 1963—84 г.р. и Михаил, 1969—70 г.р.
Махля/Маня
Дочь Ривы Либа-Гитель/Люба Темкина вышла замуж, родила двоих детей, сына Харитона, в 1924 г. и дочь Шену/Жанну, в 1927 г. Но она очень рано ушла из жизни, оставив малых детей. Муж Любы, Иосиф В. Соловьев, овдовев, женился на младшей сестре жены, Махле Темкиной, её семейное имя Маня.

Шена/Жанна Иосифовна Соловьева, внучка Ривы Фельдман-Темкиной, с сыном Вадиком, Херсон, 1960-1970-е годы
Вместе они вырастили и воспитали его детей – племянников Мани. Маня стала для них очень преданной матерью и бабушкой их детям. В списке эвакуированных из «Яд-ва-Шем» она записана их матерью. До войны они жили в Николаеве, эвакуировались в Молотово Омской области. После войны семья проживала в Херсоне. Жанна получила профессию литератора, преподавала русский язык и литературу. Её сына звали Вадик.
Лев
Начало войны застало офицера Льва Хацкелевича Темкина в Одессе. Воевать он начал со второго дня объявления войны, с 23 июня 1941 г. Капитан Лев Темкин был награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.»


Лев жил со своей женой Ольгой, врачом, в Одессе, Новоборисове, Кривом Роге, возможно еще в других местах. Детей не оставил.
Цирель/Циля


Циля Темкина была замужем, её мужа звали Володя, у них родилась дочь, но с горечью пришлось узнать, что малышка скончалась в эвакуации от голода. После эвакуации Циля вернулась в Николаев.
Циля была яркой личностью, все родные любили её, Арнесса вспоминает о ней очень тепло. Моя мама тоже часто вспоминала свою двоюродную сестру Цилю, они были очень дружны в детстве, Циля обладала легким характером, весёлая и общительная, она всегда притягивала к себе родных и друзей, а друзей у нее всегда было немало.
Яков
Яков Темкин женился на Ревекке Липницкой, коллеге и подруге его сестры Цили. Вместе они прожили долгую и счастливую жизнь, у них родились дочь Арнесса и сын Толя.


Яков учился в Николаевском кораблестроительном институте, закончив который работал начальником сборочного цеха на прославленном заводе «Марти».
В начале войны было решено эвакуировать завод, предварительно взорвав его. Это было поручено восьми ведущим специалистам завода, в их число вошел Яков Темкин. Однако семьи сотрудников надлежало эвакуировать раньше. В эти дни Яков вернулся домой и сказал жене: «Собирайся в дорогу, вещей бери только 40 кг». 40 кг – на четверых членов семьи – Ревекку, ее маму и детей, ведь разрешили брать с собой по 10 кг на каждого. 4 августа 1941 г. Яков проводил семью в эвакуацию из Николаева в Астрахань. Ехали они в товарных вагонах-«теплушках», эшелоны бомбили, были раненые и даже погибшие. По прибытию в Астрахань выяснилось: там нет подходящего завода для сотрудников кораблестроительного завода «Марти». Было решено переправить семьи заводчан в Сталинград на тракторный завод. Из Астрахани в Сталинград переправлялись по Волге, плыли на теплоходе двое суток.
В это время семья потеряла связь с мужем и отцом, а он при подрыве завода был ранен, ведь в это время уже началось наступление гитлеровской армии. Раненый Яков с остальными семью товарищами двигался на восток, преодолевая тяжелейшие испытания, и всё же всем восьмерым удалось остаться в живых. Наконец он появился в Сталинграде, где уже около двух месяцев находились его близкие. Завод находился под Сталинградом, в Сарепте. Там их поместили в барак, где они прожили полтора года. Родители Арнессы работали, отец на заводе, мама – в детском саду, с детьми дома оставалась бабушка. Ютились впятером в комнате, если можно ее так назвать.
Начались обстрелы вражеской авиации. Девочка Арнесса впервые увидела гибель человека. Это потрясло ее, она до сих пор не может спокойно об этом рассказывать. В бараках туалет находился во дворе, однажды во время обстрела в нем находился сосед. Он выскочил оттуда с прострелеными рукой и ногой, окровавленный, еле дошел к парадной двери, сразу же выбежали соседи и кто-то из них, чтобы смыть кровь с раненого обдал его водой из ведра. И раненый сосед тут же молниеносно скончался.
В эти же дни Яков Темкин снова был ранен в ногу, пуля коснулась кости. Последствия этого ранения давали знать о себе всю его оставшуюся жизнь. Немцы стремительно наступали, двигаясь к Сталинграду, и предстояла новая эвакуация, в этот раз завод эвакуировали в Барнаул. Всех переправляли на корабликах через Волгу в город Энгельс, где уже ожидали эвакуированных.
И снова «теплушки», снова ужасающая картина предстала пред маленькой девочкой, счастливое довоенное детство которой уже было далеко позади. Эта тяжелая дорога в Барнаул тянулась целый месяц.
По прибытии в Барнаул заводчан и их семьи поместили в корпус мясокомбината, где им пришлось спать на холодных гранитных полках, раньше на них размещали туши скота.
Постепенно эвакуированные начали искать другое жилье. Ревекке удалось снять комнату в избушке, хозяйкой оказалась добрая женщина, Карповна, муж её был на фронте. Она с двумя детьми жила в этой избушке из двух комнатенок. В одной разместилась семья Карповны, в другой – семья Темкиных, жили дружно, во всём помогая друг другу. Комнатка была небольшая, но, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Дети спали на русской печи, бабушке устроили постель, родители спали на полу. Карповна работала на мясокомбинате, а там всем сотрудникам разрешалось выносить кровяную колбасу. Она делилась этой колбасой с семьей своих постояльцев. Арнесса до сих пор помнит её вкус, это лакомство казалось ей тогда райской пищей. Во дворе обе семьи выращивали капусту и картошку, еду готовила бабушка, умудряясь всех накормить из того, что было.

Семья Темкиных, Барнаул, 1953 г. Сидят, слева направо – Яков Хацкелевич, Ревекка Ароновна, сын Толя стоит – дочь Арнесса
Мама Арнессы, Ревекка Ароновна, сразу понравилась Карповне, как только она переступила порог ее дома в поисках жилья. Хозяйка расспросила Ревекку о ее семье и легко согласившись сдать комнату, сказала: «Ты такая симпатичная, наверное, и дочь твоя такая же». Действительно, Ревекка и Арнесса были не только симпатичными, но и красивыми, и добрыми. Прошло какое-то время и местные власти потребовали от эвакуированных жильцов прописку.
Тогда Карповна впервые увидела в документах семьи Темкиных запись о национальности. «Так вы евреи» – сказала она Ревекке, добавив: «А у нас, я слышала, говорят, что все евреи страшные и с рогами. А вы такие красивые, милые люди!», и они вместе долго смеялись.
Темкины после окончания войны остались жить в Барнауле, в Николаев не вернулись.
Яков Хацкелевич Темкин ушел в мир иной в Барнауле в 1974г. Его супруга Ревекка Ароновна Липницкая-Темкина репатриировалась в Израиль из Ленинграда с дочерью Арнессой в 1992г. Она жила в Иерусалиме 12 лет, где ушла в мир иной в 2004г.
Да будет благословенна светлая память о Якове Хацкелевиче Темкине и Ревекке Ароновне Липницкой-Темкиной.
Арнесса
Дочь Якова и Ревекки, Арнесса, окончила школу с серебряной медалью в 1952 году в Барнауле. После окончания школы поступила в Ленинградский институт киноинженеров. Сам процесс поступления в институт оставил в памяти Арнессы горький привкус. В те годы в высшие учебные заведения медалистов принимали вне конкурса, без экзаменов. Из Барнаула в Ленинград было выслано письмо с документами медалистки, на которое прислали ответ с тремя вопросами:
– Где Вы были во время войны?
– Ваше Социальное происхождение?
– Ваша Национальность?
На семейном совете решили, что дочь должна ехать в Ленинград. По прибытию в город на Неве Арнесса пошла в институт, но, не обнаружив своей фамилии в списках, начала рыдать. Это был настоящий шок. Но судьба распорядилась иначе. Она остановилась в семье друзей её родителей, ленинградцев, которых война забросила в Барнаул, где они и подружились с семьей Темкиных. А незадолго до приезда Арнессы они вернулись в Ленинград. Вместе с недавней барнаульской школьницей глава этой семьи пошел к ректору института, он был искренне возмущен нарушением всех официальных правил приема. И этот разговор с ректором всё же принес результат. Арнессу зачислили в институт, но не на химический факультет, куда она подавала документы, а на механический.
Успешно завершив учебу в институте, получив диплом, Арнесса поехала по направлению в Одессу, где она 2 года работала киноинженером на Одесской киностудии. В Одессу к ней приехал ее жених, ленинградец Зиновий Полоцкий, выпускник того же института. Там и состоялось их бракосочетание.


Вскоре они вернулись в Ленинград, там родилась их дочь Марина. Много лет Арнесса вела преподавательскую деятельность в техникуме по эстетике и черчению. В Ленинграде она прожила 40 лет, она до сих пор влюблена в этот прекрасный город на Неве. В разговоре с большим волнением вспоминает любимый город, конечно же, есть о чем вспомнить, ведь лет прожито там немало.
Арнесса счастлива, что теперь уже 26 лет живет Иерусалиме. Её дочь Марина совершила «алию» до приезда мамы и бабушки, в Израиле вышла замуж, здесь же родилась ее дочь Даниэли/Даша, сейчас студентка Тель-Авивского университета.
Брат Арнессы, Толя, с семьей живет в России, имеет сына Якова.
На мой вопрос: Какое событие в твоей жизни наиболее яркое, запоминающееся?
Арнесса отвечает: – День объявления Победы над фашистской Германией.
Она вспоминает этот незабываемый день очень часто. Помнит, как кто-то услышал по радио эту радостную новость, молниеносно остановились все дела, учеба в школе, работа. Люди выбежали на улицу и с возгласами побежали к центральной площади Барнаула, а там творилось что-то невообразимое. Эта картина, увиденная школьницей младших классов, до сих пор перед ее глазами.

Арнесса Яковлевна Полоцкая (Темкина) с внучкой
Даниэли (Дашей), Иерусалим, 2007г.
Люди обнимались, целовались, плакали. Хотя, казалось бы, нужно радоваться, ликовать, наступил конец злодеяниям, тяжелейшим испытаниям, выпавшим на долю всего народа. Как точны слова песни – «Это радость со слезами на глазах!»


Еще одно яркое воспоминание Арнессы – 12 апреля 1961 года – полёт первого космонавта, Юрия Гагарина, встреченный огромным всеобщим ликованием. Арнесса вспоминает, как в Ленинграде, в её коллективе все сотрудники вскочили с мест и выбежали на улицу, где со всех сторон непрерывным потоком шли ленинградцы, взволнованные такой ошеломляющей новостью. Заполненные радостными людьми улицы, их ликование, отчетливо напомнили Арнессе День Победы – 9 Мая 1941-го в Барнауле.
Несомненно, в жизни Арнессы было немало ярких волнующих событий, но она выделила эти два. О моей троюродной сестре, Арнессе, я узнала только недавно, как и она обо мне. Очень жаль, ведь мы могли познакомиться давным-давно. Она – светлый человек, веселая, жизнерадостная, общительная с положительно заряженной энергетикой. Представляю, какой она была в молодые годы.
Гершкович
В главе IV (Куперман) [1] указаны дети моего прапрадеда Хаима Фальковича Купермана и его жены, прапрабабушки Либы Шмульевны. Их первенцем была моя прабабушка Хая-Сура Хаимовна Куперман (в замужестве Фельдман). Кроме нее перечислены все их сыновья. На основании новых находок из архива г. Николаева выяснилось, что у них была еще одна дочь – Идис Хаимовна Куперман (в замужестве Гершкович), 1855—56 г.р. – младшая сестра моей прабабушки.
Найдены архивные документы:
1. Запись о браке
«Николаев 7 августа 1879г. (по старому стилю). Жених – причисляющийся в Николаевские мещане Аврум Гершкович, 24 г., невеста – девица Идис, 23 г., дочь умершего солдата Хаима Купермана»
2. Запись о рождении сына
Отец – Николаевский мещанин Аврум Гершкович, мать – Идис (Иегудит), родился сын Яков» Роза Фельдман-Гершкович приходилась родной племянницей Идис (Иегудит, Юдифь) Куперман-Гершкович. Недавно обнаружена запись о рождении старшего ребенка Розы Фельдман-Гершкович, ее сына Якова Иосифовича Гершковича: «Николаев, 9 февраля 1895 г. по старому стилю, 27 швата по еврейскому летоисчислению. Отец – запаса армии Иосиф Шмульевич Гершкович, мать – Роза, сын – Яков». По всей видимости, эвакуировались они с заводом. Ранее о Розе Фельдман-Гершкович мне было известно немного, знала лишь из семейных преданий, что моя бабушка (3-й ребенок в семье Фельдман) была с ней дружна более, чем со всеми остальными сестрами. Мне было известно о переселении членов ее семьи в Москву в 1920-х‒1930-хгг. Во всяком случае, точно установлено, что ее дочь Любовь Иосифовна жила в эти годы в Москве. Но о том, что у Розы был старший сын Яков, оставшийся жить в Николаеве и проживший там с семьей до начала войны, я узнала только сейчас. Стало ясно по именам внуков Розы, что Роза умерла не позднее 1937 г., а ее муж Иосиф не позднее 1921 г. Однако, у меня есть некоторые соображения, которыми решила поделиться с читателями в надежде, что кто-то узнает себя или своих знакомых в моем маленьком рассказе и сумеет подтвердить или опровергнуть мои предположения. Семья горьковчан состояла из 7 человек, очень стареньких прабабушки и прадедушки Саши, их дочери – бабушки Саши, его родителей, Саши и его младшего брата. Помню только имя ровесника моего сына – Саша.
Но главное ― при перекличке пассажиров рейса прозвучала фамилия Гершкович. Я знала, что у моей мамы были родственники с этой фамилией, причем в обеих её ветвях, в ветви Боград-Блох и в ветви Фельдман-Куперман, которые, кстати, между собой ― не родственники, а однофамильцы. Ведь фамилия Гершкович настолько распространенная, что мне и в голову не пришло выяснять, имеет ли отношение эта семья к Николаеву, о чем сейчас сожалею. Прадедушка лежал на раздвижном инвалидном кресле, превращенном в койку и, по-моему, говорили, что ему 96 лет. Бабушка Саши выглядела лет на 50 с небольшим, а мама ― лет на 35. Вот я и сопоставила указанные возраста Якова, Марии и их дочери Розы, и очень подозреваю, что это как раз и была их семья. К сожалению, мы связь с этой семьей потеряли. В декабре 1991 г. из Холона мы переселились в Беэр-Шеву и как все новые репатрианты были озабочены налаживанием новой для нас жизни. Если Гершковичи ― старейшие члены семьи, то у молодых ― другие фамилии. Не могу толком объяснить, почему мы подружились в дороге именно с этой семьей, мама со старшими, а мы и наши дети с младшими членами славной семьи горьковчан.
Возможно, потому что и нас тоже было немало: мама, свекровь, мы с мужем и двое наших детей. А может быть на подсознательном уровне почувствовали родную кровь.
Каневские
Гитель Берковна Фельдман, в замужестве Каневская – родная сестра моей бабушки, Б. Б. Фельдман-Блох.

Слева направо ― Гитель Берковна Фельдман-Каневская, дети ― Рива, Борис, Марк, Юдко Ицкович Каневский, Николаев, 1913 г.
Как уже было написано, в Израиле я нашла моего троюродного брата Бориса Арьевича Каневского. После публикации [1], [2] он нашел фотографии его бабушки Гитель Берковны Фельдман-Каневской с ее супругом Юдко Ицковичем (Адольфом Исааковичем) Каневским и их детьми, а также фотографию его отца. Он мне и переслал эти фотографии.
Отец Бориса, сын Гитель Берковны, Арий Юдкович (Адольфович) Каневский родился в Николаеве 26 июля 1918г. по юлианскому календарю (или, как принято писать, по старому стилю). В 1920-хгг. семья Гитель (Кати) и ее мужа Юдко (Адольфа) Каневских переехала из Николаева в Москву. Дочь Рива находилась в начале войны в Конаково недалеко от Твери. Там, роя окопы она познакомилась и подружилась со славной русской девушкой Машей. Маша при рытье окопа была ранена в спину осколком гранаты, о чем не давал забыть, оставшийся на всю жизнь шрам. Паек им выдавали табаком, и Маша отдавала свой табак курящей подруге Риве. Их дружба продолжалась и после войны в Москве. Рива и познакомила Машу со своим братом, вернувшимся в Москву с военной службы на Дальнем Востоке в 1946 году.

Арий Юдкович/Адольфович Каневский во время службы на Дальнем Востоке, 1940 г.
Скончался Арий Адольфович Каневский в Москве в 1992 году, похоронен, как и его родные на Востряковском кладбище. Да будет память о нем и его жене благословенна.
Борис Каневский
Борис Арьевич Каневский родился в Москве в 1949г., автор 20 научно-технических статей, с молодых лет писал рассказы и стихи, в том числе, для детей, переводил с венгерского языка стихи для детей, публиковался в журнале «Костер». Живет с семьей в Тель-Авиве, женат, имеет сына и внука.
Переписка с Борисом Каневским
С моим троюродным братом, Борисом Арьевичем Каневским, у меня началась переписка. Приведу несколько фрагментов из нее.
1-е письмо Бориса мне:
Как Юлианский календарь и медиана в треугольнике способны повлиять на жизнь
«Мой отец, (Да будет благословенна память о нем) родился сразу после революции, отменившей букву «ять», Юлианский календарь, черту оседлости, много чего еще и даже «милость к павшим».
Как водится, родители отца позаботились о том, чтобы ребенку, кроме обязательного обрезания, было выписано свидетельство о рождении, в коем размашисто-чернильным пером указывалась дата рождения: 26 июля 1918 г. старого стиля, что соответствует 8-му августа по новому стилю, т.е. по григорианскому календарю.
О! В этом-то Юлианском календаре все дело. В 1937 году, через 19 лет мой отец был призван в армию и направлен на Дальний Восток (Амурская область, Сахалин, Курилы), который в те годы власть усиленно насыщала живой силой и техникой. Демобилизоваться он должен был бы к осени 1940 г. Но обстановка там была настолько напряженной, что ему довелось уйти на гражданку только в 1946 г.
Если бы в военкомате времени призыва озаботились использовать, как положено григорианский календарь, отцу надлежало бы быть призванным на год позже, а срок его демобилизации выпадал бы на осень 1941 г.
Это значит, что с большой вероятностью он мог бы оказаться на Западном фронте в 1941 г., что значительно уменьшало возможность моего появления на свет и, как неумолимое следствие, последующей репатриации в Израиль.
В 1966 г. я пришел на вступительные экзамены на геологический факультет МГУ, окончив, хоть и весьма среднюю, но все же спецшколу с геологическим уклоном. Один день в неделю нас обучали преподаватели того же МГУ и мы получили знания, достаточные, как оказалось в дальнейшем, чтобы не посещать занятия по всем геологическим дисциплинам на 1-м курсе, а просто являться на экзамены за оценкой «отлично».
Первым, как положено, предстояла математика письменная. Натасканный моим двоюродным братом Сашей (Александром Мордковичем – Л.Г.), к тому времени уже кандидатом физико-математических наук, и дорогостоящим репетитором, я рассчитывал на успех. Благополучно справившись с арифметической задачей, алгебраическими и тригонометрическими примерами, я застрял на банальной «Эвклидовке». Нужно было найти площадь треугольника при заданной медиане. Промучившись до конца экзамена, исписав кучу черновиков (они обязательно прилагались к чистовику) и проявив тучу сопутствующих геометрических знаний, я решения так и не получил. А ночью того же дня во сне (не шучу!) высветился ответ: надо было достроить проклятый треугольник до не менее одиозного параллелограмма.
Придя через некоторое время за результатами и не обнаружив против своей фамилии сине-карандашного прямоугольника, означающего роковой «неуд.», я воспрянул было духом, но на устной математике все встало на свое нормально-советское место: решив 4 задачи из 5-и и, как было сказано, проявив тучу сопутствующих геометрических знаний, я получил за письменную работу лишь «удовлетворительно».
Затем последовала спорная четверка по устной математике, никакая четверка по физике, пятерка по химии и тройка за сочинение, других оценок экзаменаторы-филологи не ставили практически абитуриентам негуманитарных факультетов. Из 15 возможных баллов по профилирующим дисциплинам (математика и физика) я получил лишь 11. При конкурсе порядка 10—15 человек на место (лирики-физики теряли популярность, «естественники», наоборот, приобретали) я был обречен. Уже на письменной математике советская система определила мое место в другой системе высшего образования. Забрав документы, и ни дня не потратив на подготовку, я успешно сдал экзамены в разрешенный евреям и полуевреям Московский Геологоразведочный Институт, окончив который, получил квалификацию ИНЖЕНЕРА, столь ничтожную в СССР, сколь весомую в Израиле. Престижный МГУ дал бы мне прекрасную, но менее востребованную здесь степень «академая».
Спасибо тебе, медиана, за то, что 23 года тому назад ты внесла меня инженером (100% по специальности) в Минстрой крошечной страны на Ближнем Востоке…»
Мой ответ Борису Каневскому:
За всё судьбу благодарю (былое и думы)
Чем дольше живу, тем больше прихожу к мысли, что всё нашей жизни, предопределено судьбой, начертанной где-то бесцветными чернилами, которые со временем проступают на страницах книги жизни человека.
Давайте, возьмем для примера семью нашего прадеда, Иоэля-Бера Фельдмана, задумаемся о прошлом разветвленной семьи Фельдман к началу XX века. Его дети – наши бабушки, их сестры и братья жили в Николаеве, многие уже имели свои семьи, рожали детей. Кто из них, скажем в 1901 г. помышлял, что не пройдет и 30 лет, как почти все они разлетятся в разные стороны? А ведь, безусловно, это изменило ход событий в дальнейшем для каждого. Потом была война. Как точны слова – «Ах, война, что ты сделала подлая…»
Вот мы, родившиеся после Победы, могли и не родиться. А что можно сказать о тех, кто успел родиться до войны: многие сгорели в Холокосте, а тот, кто выжил, мог и не дожить до мая 1945 г. Наше рождение – это случайность или нет? Не знаю, знаю только – это счастье, подаренное Всевышним, это – судьба.
Вы, Боря, написали о своем отце, которому посчастливилось вернуться домой в 1946 г. Это – судьба. Среди моих знакомых были дети отцов, не вернувшихся с боев на Дальнем Востоке.
Что касается моих близких, то в своей книге (главе V [2]) в воспоминаниях моей мамы я описала, как она осенью 1941 г. в Харькове вскочила в вагон уже на ходу и тем спасла свою жизнь. А папа мой умирая в госпитале находился в мертвецкой; но, к счастью, он очнулся. Поняв, что вокруг никого нет, с большим трудом ползком добрался до коридора. Только там его заметила медсестра, после чего его перенесли в палату. Наверное, моим родителям было суждено выжить и встретиться вновь в 1945-м.
А Миша, мой муж, родился в марте 1941 г. По дороге во время эвакуации мама потеряла его, а потом чудом нашла. Поделюсь с Вами моим рассказом «Между жизнью и смертью» об этих событиях. Он был опубликован в 364-м номере международного журнала «МЫ ЗДЕСЬ» ([16]).
Между жизнью и смертью
«…ин васер ун файэр
Волт зи гэлофн фар ир кинд…»
(«…В воду и огонь
Она бы пошла ради своего ребенка.…» – перевод на русский язык)
Из популярной песни «А идише мамэ»
Эта подлинная история о тех, кому выпало жить, испытав на себе все превратности судьбы в роковые годы Второй Мировой…
В первые дни нападения фашистской Германии на Советский Союз муж Жени, Иосиф, ушел на фронт. А она осталась в Харькове с двумя сыновьями – подростком Павликом и родившимся в марте 1941-го Мишенькой. Все её родные жили в Днепропетровске, а в Харькове никого из родных не оказалось, и помочь ей эвакуироваться было некому. Все попытки приобрести билет на поезд оказались безуспешными. По городу начали ходить упорные слухи о том, что гитлеровцы в захваченных ими городах уничтожают евреев. Уже стало ясно, что оставаться здесь очень опасно. А вражеская армия тем временем приближалась к Харькову.
За считанные дни до немецкой оккупации Женя приняла решение идти с детьми на вокзал. После неоднократных попыток попасть в поезд, следующий на восток, ей всё же удалось уговорить одного машиниста. Но в товарных вагонах его поезда места не нашлось, все вагоны были перегружены людьми и оборудованием. Но, видно, доброе сердце билось в груди этого человека, пожалел он детей и их убитую горем мать. Он пустил их на паровоз. На одной из ближайших остановок этот парень решил облегчить участь младенца, тяжело дышавшего вблизи топки, и всё-таки нашел для них место в вагоне.
Душные вагоны, абсолютно не приспособленные для перевозки людей, были переполнены. Люди располагались на вещах, на оборудовании, перевозившимся с заводов и фабрик в глубокий тыл. Воды и туалетов в товарняке не было, добыть немного водички и кипятка можно было только на станциях. На одной из них, на станции Поворино, Павлик сошел с поезда в поисках воды, как и многие пассажиры, но все вернулись, а его всё не было, на зов матери он не откликался. Чтобы найти Павлика, Женя оставила в вагоне на минутку Мишу, а также сумочку с документами и немного вещей, из тех, что она и Павлик смогли донести до вокзала (в основном, предметы первой необходимости).
Павлика она нашла, но поезд к той минуте уже тронулся. Невозможно описать отчаяние матери, потерявшей в дороге свою крошку, своего ненаглядного полугодовалого сыночка.
О том, что пропали все её документы, она тогда не думала, это повлияло на её жизнь позднее, а в тот момент все мысли были только о малютке. Нужно было найти в себе силы, чтобы принять верное решение, и ей это удалось. В Поворино снова с неимоверными трудностями ей с Павликом удалось пересесть в другой поезд. Безутешным было её горе. Не в силах сдерживать слезы, рыдая, не находя себе места, она несколько раз теряла сознание. Попутчики проявили сочувствие к несчастной матери, но успокоить её никому не удалось.
А поезд шел на восток, вот они проехали одну станцию, затем другую… И вдруг на одной из станций Женя, утирая слезы, увидела красноармейцев, столпившихся у стола, на котором лежали какие-то вещи, показавшиеся ей знакомыми. Так убитая горем мать обнаружила, что в этих тряпках (одеяло, пелёнки – всё превратилось в тряпки) лежал её сыночек, ее Мишенька, в окружении солдат, не знавших, что делать с малышом. Ведь они, молодые бойцы, оказались на той же станции, сойдя со встречного поезда, следовавшего на фронт. И назавтра им предстояло идти в бой за эту страну, за ее народ, за отцов и матерей, за жен и детей, за сестер и братьев, за любимых невест.
Дальше путь матери и её детей лежал до самой Волги, где уже начали формировать баржи для переправы на другой берег. А самолёты противника кружили над ними и бомбили эти баржи. Попасть на баржу, да ещё под обстрелом, казалось делом невозможным. Не удалось попасть ни на первую, ни на вторую, ни на третью, но люди просились, рвались туда изо всех сил. Жене и ее старшенькому Павлику посчастливилось оказаться только на четвёртой барже. Женя устала, измучилась, но крепко держала на руках свою драгоценную находку, своего малыша Мишеньку. Именно эта баржа осталась единственной уцелевшей от обстрелов, три остальные были потоплены. После этого они ещё долго ехали через Казахстан, пока не остановились в Акмолинске. Женя не знала, где ей остановиться, на какой станции сойти, где им посчастливится найти хоть какой-то кров и пропитание. Среди попутчиков нашлась семья, у которой в Акмолинске жили друзья, и мать троих детей, обнадежив Женю, уговорила её следовать за ними.
Спасибо добрым людям, на первых порах ей помогли как-то обустроиться в углу барака. Но очень важно было не потерять материнское молоко. Где же найти продукты? Цены на всё баснословные, а нужно ещё и отапливать помещение. И Жене удалось устроиться на работу и получать, хоть и скудный, но паек. Прожив с горем пополам некоторое время в холодном и голодном Акмолинске, Женя каким-то образом узнала, что вся её родня успела эвакуироваться из Днепропетровска в Таджикистан, и она решила поехать с детьми к своим родителям, сестре и племянникам. Но вскоре после их переезда и волнующей встречи с родными начались новые испытания. Там, в Янги-Базаре, начала свирепствовать малярия. Все родные, а также и её младшенький, Миша, тяжело заболели. Женю и её сестру постигло безутешное горе – их родители и младший сын её сестры, годовалый Вовочка, скончались от этой тяжелой болезни. Но Мишенька, сын Жени, к счастью, выжил. Правда, он долго, на протяжении многих лет, ощущал последствия той страшной болезни.





