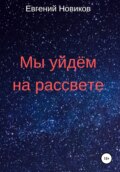Евгений Константинович Новиков
Горькие травы Чернобыля
– Григорьевич, да погоди ты! – воскликнул Климчук. – Дай послушать, чего там генерал рассказывает.
Несмотря на то, что Антошкин говорил вполголоса, в пустой абсолютной тишине улицы речь была слышна чётко.
– В общем обстановка тяжелая, – говорил генерал, – один экипаж потерян – зацепили лопастями вентиляционную трубу блока и рухнули вниз. Хоть не прямо в реактор, а то пришлось бы бежать отсюда, куда глаза глядят. На высоте сто метров над блоком светило за тысячу рентген, а когда мешки сбрасываешь – вообще страшно что. А ведь каждому экипажу приходилось делать не один заход. Люди быстро выходили из строя. Но, должен сказать, что новых жертв нет. Догадались кабины изнутри свинцом обкладывать. Теперь все мои ребята в Москве, в шестой клинике, там сделают всё, что возможно и невозможно.
Антошкин замолчал, опустил голову, его лицо опять стало бледным, осунувшимся.
– Я вам прямо скажу…Конечно, этого не дадут написать. Хотя, давайте посмотрим, какая у нас перестройка и гласность. В общем, бардак у них здесь. Бардак и безответственность. Правительственная комиссия Щербины только командовать умеет. Ой, да и командовать они тоже не умеют. В первый день на всей станции, во всём городе не было ни одного дозиметра, ни одного радиометра. Носом радиацию мерили. Пожарников всех, до одного, погубили. Бросили их на четвёртый блок пожар тушить. Ума-то нет, что никакой водой ядерный огонь не погасишь… И вот они лили воду прямо в реактор! А пар радиоактивный поднимался в высоту, и разносило его по всей Европе нахрен!
Генерал распалился, лицо вновь стало красным.
– А население? Два дня людей в известность не ставили! О таблетках йодных никто и не подумал. Переоблучили щитовидки всем. Детям, в том числе… Эвакуировали мы гражданского населения около 140 тысяч. Что с ними будет, это же… Даже никто не мерил, сколько они грязи собрали. А повезли их куда? Кого-то в Киев, а там тоже фон. Тысяча сто автобусов пришло из Припяти. Раскатывали по столичным улицам, грязь разносили.
Отец молча слушал. Антошкин перевел дух и продолжил:
– А на площадке что творится? Погнали людей собирать куски топлива. Вокруг станции повреждённые ТВЭЛы разбросало, так их поднимали с земли руками в перчатках и бросали в вёдра. Ядерное топливо собирать руками, вы понимаете? Загубили заживо! Купили за валюту в Японии роботов, чтобы собирать уран и графит. Так они не выдерживали таких доз радиации, электроника сгорала. Ну вот, значит, бросили солдат на крышу реактора, топливо собирать… Они ж не роботы, им же можно. Какое потомство у них будет?
Голос генерала дрожал.
– Но, в общем, сейчас Щербину сменил Силаев. Дело на лад пошло. Площадку бетоном залили, почистили. Реактору пасть бором закидали. Скоро начнут захоранивать, саркофаг такой строить. Хотите посмотреть? Бэтээр у нас внутри чистый, свинцом оббит…
Мы не расслышали, что сказал отец. Генерал оживился:
– Но только лично вы, а своих отправляйте на выезд, на КПП «Дитятки». Там все условия – отмоют и машину, и людей. Одежду новую выдадут. Эту придется выбросить.
– Э-э, народ! – заорал вдруг Шебаршин. – Телевидение возьмите!
Он схватил камеру и бросился к бэтээру. За ним выскочил Лельченко. За ним я.
– Товарищ Антошкин, – крикнул Лельченко, мне в контору надо!
– А мне реактор сфотографировать надо! – выпалил я.
Николай Тимофеевич топнул ногой:
– Это реактор тебя сфотографирует, а не ты его!
– Счет два-два, объявил Климчук.
Все рассмеялись, включая генерала. Антошкин почесал переносицу.
– И потом у меня бэтээр, а не плацкартный вагон и не детский сад.
– Два три в пользу вооруженных сил, – противным голосом сказал Володя и скорчил мне рожу.
– Беру только двоих, – резюмировал Антошкин, оборачиваясь к отцу, – вас и телевизионщика. Прошу занять места. Потом найду вам транспорт до Дитяток
Отец и Шебаршин полезли на бэтээр.
– Всем всё ясно и понятно? – крикнул отец. – Встречаемся на КПП. Контрольное время пятнадцать ноль-ноль.
– Минутку, – Антошкин о чём-то раздумывал, – товарищ старший лейтенант, у вас рация в машине есть?
– Есть, товарищ генерал-майор! Четвертый канал, позывной «Волга».
– Понял. Мой позывной «Каштан». Если будут коррективы, выходите на связь.
Люк за генералом захлопнулся, и бэтээр резко сорвался с места.
Я мрачно пил ледяную воду из термоса.
– Всё-таки интересно, кто там в кого шмалил из автомата? – Я взглянул на Володю.
– Так это не проблема узнать, – пакостным голосом заговорил Климчук, – беги вслед за генералом. Как раз у реактора догонишь, спросишь. Заодно и сфотографируетесь. С реактором. Ты его, а он тебя! Только потом не удивляйся, если твой мелкий дружок не будет…
Всё-таки я всегда гордился скоростью своей реакции. Издевательскую речь Климчук закончить не успел. Всё содержимое термоса – вода со льдом – мгновенно вылилось Володе на спину.
Климчук хлопал себя по спине и орал весьма интересные и забористые ругательства:
– Ах, ты ж ёкарный бабай! Ох, ты ж японский карась! Мля ж ты ж мелкая, ёрш тебе в глотку!
Я сиял и светился от счастья, как вышеупомянутый чернобыльский реактор.
– Ребятки, я никак не пойму, кому из вас двоих пятнадцать лет? Обоим? – удивленно сказал Лельченко с заднего сиденья.
– Это мне пятнадцать, – сообщил я, – а ему пять!
– Так, прекращайте это кино, есть у меня одна шикарная идея, – заговорщически зашептал Лельченко…
– Сейчас, Григорьевич, один момент, – злой и мокрый Климчук перебил Лельченко, – дайте мне только ваш термос, очень пить хочется.
Я успел выскочить из машины. Володя разочарованно и шумно вздохнул…
Глава пятая
Я направился в сторону ближайшего дома.
– Куда попёр?– заорал Климчук, выскакивая из машины.
– До ветра, куда, куда, – пробормотал я.
– На асфальт бы мог, какая цаца, – проворчал Климчук, – чего подъезды поганить?
Я не ответил. Володя как-то по-гусиному пошипел и вновь спрятался в салон.
Кроме путешествия «до ветра» у меня была еще одна, можно сказать, стратегическая цель.
Желание её достичь усиливалось с каждым часом. И присутствие свидетелей не входило в мои планы.
Не знаю, о чём вы подумали, но у меня в кармане лежала заветная железная коробка Володи с сигаретами и бензиновой зажигалкой. Ну, что делать, если не дают по-хорошему? Ловкость рук, так сказать. Одна рука, значит, воду за шиворот выливает, другая – сигареты тырит. На что, иначе, умному человеку две руки?!
Я поднялся на крыльцо. Дверь была плотно закрыта. Вам знакомо чувство на уроке, когда учитель долго шарит взглядом по журналу, выбирая жертву, которая должна отправиться к доске? Вот я всегда знал, секунд за несколько до того, как назовут мою фамилию. Интуицией такая штука называется.
Я ухватил ручку двери. Интуиция заскулила, перебралась из груди в желудок и быстренько спустилась в пятки.
«Дёру делать надо, тикать отсюда надо», – завыла она, пытаясь развернуть мои кеды в противоположную сторону.
Но мне всегда было трудно договориться с самим собой. Дверь я
всё-таки открыл. Не без труда – дверь была захлопнута, уж очень плотно – но всё-таки открыл.
Вот зачем я это сделал? Хоть кто-нибудь знает, зачем? Не мог зайти в другой подъезд?
Огромный черный дог лежал у самой двери, вытянув лапы. Жуткая пасть собаки ощерилась, провалившиеся глазницы уставились прямо на меня. Дог вроде бы слегка шевелился и странно попискивал. В нос ударил тяжелый запах.
– А-а-ай! – заорал я исо всех ног бросился к «Рафику». Дверь с треском захлопнулась.
В салоне было явное оживление. Климчук перестал тереть спину снятой гимнастеркой и удивленно смотрел в мою сторону. Лельченко столь же недоуменно чесал свою «почти лысину».
– Что там? – выкрикнули оба одновременно.
– Собака там, – сообщил я паническим голосом, – огромная, шевелится и пищит.
Володя и Николай Григорьевич переглянулись.
– Собака? Пищит? От ты ж, бисова душа, – пряча улыбку, изрек Лельченко.
К Володе вмиг вернулось его типичное настроение в стиле «шалтай-болтай».
– Огромный собакен? – переспросил он. – Баскервилей? Да еще пищит и дергается? С ума он там сошел что ли ?
– Не веришь, пойди посмотри сам, – уже успокаиваясь, сердито сказал я.
– Григорьевич, нам нужна собака? – поинтересовался Володя.
– Пищащая и дохлая.
Лельченко прыскал в усы. Он поманил меня пальцем.
– Понимаешь, какое дело, Жень. Тут в городе собак и кошек – целый зверинец был. Когда людей увозили, брать домашних любимцев не разрешали. Остались они в городе. Собаки поели кошек и стали сбиваться в стаи. Даже на патрулей нападали. Вот всю живность и постреляли. А кто-то в суматохе, глядишь, и закрыл собачку в подъезде…
– Она там лапы и протянула с голодухи и радиации, – резюмировал Володя.
– Даа, а чего она шевелится и пищит? – я почти успокоился.
– Ну, если не врешь, то это может её крысы жрут, они же и пищат. Я так думаю.
Желудок охнул и приготовился выплеснуть содержимое на свободу. Сигарет уже не хотелось. Я несколько мгновений прислушивался к поведению желудка, но он уже как-то справился с этой совсем не гастрономической ситуацией. Я взобрался на правое переднее сиденье.
– Посещение уборной отменяется? – поинтересовался Володя.
– Расхотелось что-то, – буркнул я.
Лельченко, казалось, начинал терять терпение:
– Будете слушать мою идею? Значит, вот чего… квартира у меня здесь неподалёку. На втором этаже. Там мы с бабкой моей жили до ТОГО дня. Так вот. Место там должно быть без особой «грязи». Окна я еще 26-го заэкранировал чем мог, как об аварии узнал. Сколько можно париться на этой жаре? Посидим в прохладце, отдохнём, поедим, а там в Чернобыль меня забросите, а сами – на выезд.
– Мээ, – раздумывал Володя, – эээ…
– Пайков у нас с собой полная машина, – продолжал уговаривать Лельченко, – манговый сок в консервах имеется, да и еще кой чего найдем.
– Например, чего? – заинтересовался Климчук.
– Ну, «дезактиватора» я там припас в кладовке, думал же ненадолго уезжаем, – грустно сказал Лельченко, – красное сухое. Вряд ли оно радиации натянуло…
– Как знать, как знать, мерить надо, – раздумывал Климчук. – Ну, Григорич, ты без пузыря никуда! А я при исполнении, мне нельзя. Хотя… Дезактивация же… Далеко ехать-то?
– Ды вот же, совсем близко, за рестораном и гостиницей «Ласточка», – заторопился Лельченко.
Что-то крякнуло, шипнуло и женский голос заорал:
– Волга, Волга, ответьте дозиметрической, прием!
Странно, но весь день рация молчала, и я не обращал на нее внимания.
– Климчук на связи! – рявкнул в микрофон Володя.
– Почему не докладываешь замеры активности? – сердито спросила рация.
– Гостей возил. Журналистов. Докладываю – активность воздуха по центру 40-60 миллирентген. Почва – так и этак! Десятки рентген. На въезде у знака воздух – от ста до пятисот. У поворота на станцию около рентгена.
– Падаем потихоньку, – радостно хрипнула рация. – Журналистам привет! Скажи, пусть не брешут. Конец связи.
Климчук небрежно бросил микрофон. Посмотрел на Лельченко.
– Ладно, поехали!
Заводился «РАФ» всегда хорошо. Миг – и уже набирал скорость по улице. На площади повернули направо. Какая-то тенистая улочка. Листья всё такие же темные, неживые. А это что? На детской площадке лежали трупы собак. Я отвернулся и всю оставшуюся часть короткого пути разглядывал рацию.
– Во-во, у подъезда с рябиной тормози, – оживился Лельченко.
– Наш дом хорошо закрыт от станции другими высотками, поэтому здесь условно чисто.
– Григорьевич, не говори гоп, – нравоучительно сказал Володя,
– щас мерить будем.
Климчук выскочил из салона с радиометром. Датчик подозрительно внюхивался в воздух, потом брезгливо, не касаясь асфальта, прошелся над ним.
– Воздух 15 миллирентген, почва почти 2 рада, – крикнул Климчук, – не так уж чисто, не так уж грязно с учётом ситуации.
– Выбираемся, – решил Лельченко.
Первым делом он потянул из-под сиденья мощный рыбацкий фонарь. Я такие видел раньше. Серьёзная вещь. С щелочным аккумулятором.
Володя направился в обнимку с радиометром в подъезд.
– Помогай давай, – торопился Николай Григорьевич.
Он всучил мне авоську и стал загружать в неё яркие, жестяные банки.
– Манговый сок, импортный, – гордо объяснил он мне, – в Чернобыле теперь чего только нет, кормят отлично.
Следом за банками в безразмерную авоську влезло четыре небольших коробки, покрытых фольгой.
– Сухой паёк, – опять пояснил Лельченко, – не ресторан, но есть можно. Хватай сумки – Щебаршина и батькину. И до хаты.
– Может мне еще весь автобус взять? Я что вам – лошадь?
– возмутился я.
Лельченко сердито выхватил у меня авоську, предоставив «лошади» тащить только сумки.
Мы вошли в подъезд. Воздух был чистый и прохладный. Он ничем не пах. Давно, давно не видел подъезд своих обитателей. И, наверное, видит людей в последний раз.
Этажом выше топтался Володя.
– Чисто, фона практически нет, – удивленно объявил он.
– А то! – обрадовался Лельченко, вручая авоську Климчуку и звеня ключами.
Дверь, красиво обитая кожзамом, скрипнула и отворилась.
– Здравствуй, дом! Как ты, милый? – почти прошептал Лельченко.
Никто не отозвался, лишь застоявшимся воздухом потянуло из-за двери.
Мы зашли в полумрак прихожей. Свет шел лишь из подъезда. Видимо окна Николай Григорьевич и впрямь заделал основательно.
– Электричества нет? – полуутвердительно спросил я. – И воды тоже?
– Ясно, что нет, – досадливо сказал Лельченко, – на кой-какие объекты в Припяти свет подают, но не в дома же.
На всякий случай Климчук пощёлкал выключателем. Ничего не изменилось. Он разочарованно передал авоську Лельченко.
«А давай мы их разыграем, – змеиный шепот появился в голове, как всегда неожиданно, – хлопни в ладоши и скажи, – да будет свет!»
Я упрямо не двигался с места.
«Давай, давай, кричи!» – начал сердиться шепот».
– Свет! – заорал я, послушно хлопая в ладоши.
Желтые лампочки во всей квартире зажглись одновременно.
Николай Григорьевич охнул и выронил авоську.
– От это тебе пироги с котятами! – обалдело глядя на меня, медленно произнёс Климчук…
Глава шестая
Лельченко подобрал с пола авоську и как-то медленно, словно во сне, стал запихивать в неё банки с манговым соком. Что-то определённо не складывалось в голове Николая Григорьевича. Представьте себе – в моей тоже. Судя по взгляду Климчука, его голова испытывала те же чувства.
– Всегда надо полагаться на здравый смысл, – обращаясь непонятно к кому, изрёк Лельченко, – как же он электричество-то включил?
– Кто? – поинтересовался я.
– Дед Пихто, – Николай Григорьевич начал приходить в себя, – ты, конечно!
Мы вновь озадаченно замолчали.
– Ну не скажи, Григорьевич, – вдруг оживился Климчук, – всё то, что произошло в этих краях, само по себе выходит за пределы здравого смысла. Ядерная авария в том числе.
– Ладно, допустим. Говори, как свет зажег?! – потерял терпение Лельченко.
– Честно? – я внимательно разглядывал своих старших товарищей.
– Честно! – оба заорали в один голос.
– Если честно, то не знаю! – заявил я.
Николай Григорьевич махнул рукой и двинулся вглубь квартиры.
– Проходите, ребятки, сидайтэ, в ногах правды нет.
Мы с Климчуком прошли в комнату.
Квартира у Лельченко была весьма презентабельной. Это сразу бросалось в глаза, даже несмотря на беспорядок и разбросанные вещи – уезжали хозяева, конечно, в большой спешке. Практически новая отечественная «стенка» занимала пространство напротив роскошного кожаного дивана и двух мягких кожаных кресел. Большой цветной телевизор «Электрон» облюбовал почетное место напротив окна. Книжный шкаф и журнальный столик, вкупе с мягким ковром на полу, дополняли обстановку.
Зарабатывали инженеры в Припяти явно неплохо.
Лельченко показал нам на диван, а сам устало плюхнулся в кресло. Я присел, а Климчук покачал головой:
– Проверим фон на всякий случай.
Никто не возражал. Володя привычно задвигался с радиометром по комнате.
Датчик обнюхал ковер, прошелся по книгам, пробежался под потолком и перекинулся на большое окно гостиной, закрытое бог знает каким хламом.
– Ну, жить можно, – резюмировал Климчук, – несколько дней в году. Молодец, что окна позакрывал.
Николай Григорьевич шумно и тяжело вдохнул.
– Неужели потеряли мы Припять? Неужели навсегда?
– Ты ведь знаешь ответ, Григорьевич, – укоризненно сказал Климчук, – не трави душу, ни себе, ни мне.
Володя отправился исследовать вторую комнату. Не задержался там. Прошелся по кухне, заглянул в санузел, вернулся и присел на диван.
Все молчали. Как-то вдруг усталость быстро взяла своё. Неведомым образом горящий свет, такой мягкий и домашний, прохлада нижних этажей, вместо палящего солнца на улице, мягкий ковёр под ногами, вместо радиоактивной пыли, чувство относительной безопасности – всё это вместе взятое успокоило напряженный с самого утра организм.
Я и не заметил, как погрузился в сладкую дрёму…
Голос Лельченко доносился словно бы издалека:
– Нет, вот ты мне скажи, старому инженеру, как парнишка свет включил?
– Ой, Григорьевич, успокойся уже, – лениво пробормотал Климчук, – ты строитель, а не электрик. Откуда мне знать? Свет в городе все-таки есть для технических нужд. Может кто-то, где-то не ту кнопку нажал. Может, электрики в ТП работают. А может и еще чего.
После того, как украинское Полесье «мирный атом» превратил в Хиросиму, всему удивляться – никаких нервов не хватит.
– Рота, подъём! – вдруг заорал Климчук, толкая меня в бок.
Я подпрыгнул и обалдело закрутил головой.
– Спать нам сейчас не с руки, – уже серьёзным негромким голосом объявил Володя, – кушаем, часок подремлем – и на выезд.
Николай Григорьевич оживился, словно что-то вспомнив, и рысцой понёсся на кухню.
Там долго звякало стекло и гремела прочая кухонная утварь под радостное бормотание Лельченко.
Наконец, он показался в дверях, держа две бутылки вина и подмигивая, как семафор.
Климчук как-то ненатурально вздохнул и потянулся к радиометру. Хорошее настроение вновь вернулось к Володе.
– Ужас какой! – весело заорал он. – 700 миллирентген, это ж по одному миллирентгену на миллилитр! Таким вином только реактор поить! Слушай, Григорьевич, подари его мне – я им тещу угощу.
Лельченко в отчаянии смотрел на Климчука:
– Володя, родной, да неужели семьсот? Да когда же оно, треклятое, успело столько заразы натянуть? Ну, померяй ещё раз, а?
Климчук не выдержал, расхохотался.
– Пошутить уже нельзя! Нормальное вино твоё, если только не скисло!
Лельченко радостно матюкнулся и вновь умчался на кухню. Мы отправились следом.
Кухни у нас небольшие. Раковина, электроплита на три конфорки, холодильник «Донбасс», на котором примостился крохотный телевизор «Юность», маленький обеденный стол – и вот собственно всё. А чего еще желать нормальному советскому человеку?
Климчук ткнул ножом банку с манговым соком, протянул мне. Себе открыл другую.
Сок, как сок. Так себе сок, честно говоря. Но когда жажда – пить можно. И хорошо выводит радионуклиды.
У Николая Григорьевича жажда была другая. Он вмиг срезал ножом пластмассовую пробку с «Каберне». Крымское, между прочим. Наполнил два стакана. Протянул один Климчуку. Больше, разумеется, никого на кухне не было. Ну да, я же школота-невидимка, я понимаю.
Володя секунды две колебался, махнул рукой, крикнул «Будьмо!» и махом влил стакан в широко открытую пасть. Кажется, в Советском Союзе старлеи пили не хуже инженеров.
Тем временем Лельченко разворошил фольгу на сухих пайках:
– Робяты, налетай!
Хорошие были пайки, предназначенные членам правительственной комиссии, – тонко нарезанный сервелат, сыр, банка крабов, хлеб, тюбик с горчицей и, ни к селу, ни к городу, завернутая в целлофан трубочка эклера.
– Ну, за отмену сухого закона! – рыкнул Лельченко и вновь наполнил стаканы.
– Погоди ты, Григорьевич, – жуя сервелат, невнятно сказал Климчук, – я и за рулём, да и покурить бы. Схожу в машину за сигаретами и подымлю на улице.
– А-а, мэ, – честным голосом сказал я, – я знал, что ты покурить захочешь и догадался захватить твои сигареты!
Климчук подозрительно посмотрел на железную коробку, подумал и молча сунул её в карман.
– Покурю внизу, – решил он, – и, наверное, свяжусь по рации с нашим генералом и твоими журналистами.
Я было увязался за ним.
– Погоди, сынок, – сказал Лельченко, – чего там тебе на жаре торчать. Поешь, выпей это…соку, поговори со стариком.
Я остался, а Володя помчался вниз.
Лельченко включил конфорку электроплиты. Подержал над ней ладонь, покосился на меня:
– В города-спутники АЭС газ не тянут, зачем при дармовой электроэнергии – копейка-киловатт? Так вот, друже, плита-то не греется, а свет горит. И шо цэ воно такэ?
– Да не знаю я, честно, Николай Григорьевич! Город сказал мне хлопнуть в ладоши и, типа, будет свет.
– Кто-кто сказал?
– Ну, не знаю кто, город, наверное. Мне кажется, Припять может говорить. В голове.
Лельченко как-то напрягся, быстро опрокинул еще один стакан.
– Я тебя слушаю, Жень, внимательно слушаю…
Разговор был долгим. И долго не было Володи…
Мы очнулись лишь тогда, когда тяжелые шаги Климчука затопали по этажной площадке.
Володя застыл в дверях кухни. Мощно пахнуло табачным дымом.
– Говорил с генералом? – спросил я. – Как там отец? Где встречаемся? На Дитятках?
Климчук присел на стул. Потянулся к бутылке и натолкнулся на удивленный взгляд Лельченко.
– Мы никуда не поедем, Григорьевич, – мрачно объявил старлей, – по крайней мере, сейчас.
Широкая пасть Климчука втянула содержимое стакана, как пылесос.
– С генералом я говорил. Они едут в Чернобыль. Они едут, а мы – нет.
Климчук собрался с духом:
– В общем, на станции новая проблема. Реактор выплюнул в атмосферу большое облако «грязи». Говорят, хорошо так выплюнул. Возможно, выгорел весь графит и мешки с песком и бором провалились вниз. Активность воздуха резко поднялась. Паршиво то, что ветер, хоть и слабый, но крутит. Облако постепенно рассеивается, но труха эта ядерная захватывает все новые территории. На улице фон начинает расти. Ехать нельзя.
– И что теперь делать? – спросил я. Голос предательски сорвался и дал петуха.
– А ничего не делать. Ждать. Мы посоветовались и решили, что выезжать сейчас из Припяти в Чернобыль – просто нахвататься лишних рентгенов. А здесь, в «засаде» у Григорьевича довольно чисто. Вот и переждем. Пепел этот слегка осядет, активность воздуха упадет и тогда – по газам!
– А отец? – спросил я. – А Шебаршин?
– Да не могут они, балда, в Припять ехать. Туда да обратно: двойное время – двойные рентгены. Да и смысл-то какой? Переночуют в Чернобыле. Там почище.
Климчук барабанил пальцами по столу.
– Конечно, мы можем выехать из Припяти в противоположную сторону от станции и чесать в БССР или в РСФСР. Но где гарантия, что мы будем двигаться быстрее, чем это чертово облако? Да и бензина может не хватить. Лично я – против. И генерал одобряет мою идею остаться в городе, в условно чистой зоне.
Я переваривал сказанное. Лельченко безучастно молчал.
– Ещё имею приказ от твоего батьки, – насмешливо сказал Володя, – именем коммуниста из хаты тебя не выпускать, посадить на цепь и закрыть в самой чистой комнате. В туалете, например.
Я не нашелся, что ответить. Вот как-то впервые не нашелся.
Лельченко встрепенулся, подошел к раковине, открыл кран.
Чуда не произошло.
– Как в туалет ходить будем? – сердито проговорил Лельченко.
– А вот так и будем, – неопределенно объяснил Климчук…
Николай Григорьевич сделал огроменный глоток «дезактиватора» и скрылся в глубине квартиры. Появился через минуту, бережно неся большую желтую шестиструнную гитару. Присел на табурет, задумчиво прошелся пальцами по струнам и стал подтягивать колки. В маленькой кухне гитара зазвучала мелодично и неожиданно громко. Я обожаю звук гитары, меня учил на ней играть средний брат Юра, впрочем, честно говоря, без особого успеха. Этот инструмент был суперпопулярен в стране Советов.
В те годы на гитаре играли не только многие мужчины, но и женщины, мальчишки и девчонки. Не в этом ли секрет фантастической популярности Владимира Высоцкого? Вот уже шесть лет нет с нами этого великого человека, а его прокуренный, хриплый голос до сих пор слышен из всех окон всех домов большой страны.
Словно угадав мои мысли, Лельченко вдруг запел:
Небо этого дня ясное
Но теперь в нём броня лязгает
А по нашей земле гул стоит,
И деревья в смоле, – грустно им.
Дым и пепел встают, как кресты,
Гнёзд по крышам не вьют аисты.
Николай Григорьевич закрыл глаза и затянул второй куплет. Володя отвернулся от стола и удивленно смотрел на Лельченко. Видимо о музыкальных способностях старого инженера Климчук узнал впервые, как и я.
Тем временем моя левая рука как-то сама собой, не спрашивая хозяина, потянулась через весь стол к стакану с «дезактиватором». Я не знаю, почему она так делает – то пачку сигарет у отца стырит, то олимпийский рубль из маминого кошелька. Безобразие да и только! Увы, левая рука Климчука тоже иногда живет своей жизнью. Она как-то ловко нырнула за спину Володи и стала больно выворачивать запястье моей нахальной конечности. Я заорал, перехватил правой рукой левую и засунул её в карман брюк. От греха подальше.
– Что получила, сволочь такая?! – злорадно прошептал я своей деснице.
Рука обиженно сложила в кармане фигу.
Лельченко замолчал и прижал рукой струны.
– Я тут, хлопцы, скажу вам по секрету, одну песню написал, – хрипловато заговорил он, словно бы и не заметив настольной борьбы конечностей.
– Точнее еще не написал, а так набросал кое-что. Хочу, чтоб вы послухали это.
Дед вновь перебрал струны и мощным красивым голосом запел:
Ощетинилась лесом весна,
Не весенними листьями рыжими,
И как будто вновь стал недвижимым
Тот ручей, что вчера отошел ото сна…
Мы с Климчуком внимательно слушали. Песня завораживала, словно открывая Чернобыльскую трагедию с какой-то иной стороны, словно пришла из какого-то другого, не нашего мира. К сожалению, пропев два куплета, наш бард засмущался и замолчал.
– Дальше еще не придумал, как-то недосуг всё, – неуверенно объяснил он.
– Обязательно допишешь, – с жаром сказал Володя, – ты молодец, Григорьевич!
Лельченко вновь смущенно улыбнулся и повернулся ко мне:
– Может, ты подсобишь со стихами, Жень? Вот чувствую, что в душе ты поэт!
– И прозаик тоже, – серьёзно сказал я, – может и подсоблю.
Мужики переглянулись, улыбнусь и, как следовало ожидать, потянулись за стаканами.
Моя левая рука сердито и недовольно стала скрести защитный комбинезон.
Через час оба моих «воспитателя» вразвалку храпели на диване. Четвертая бутылка вина была едва начата. Термосы с водой и оставшиеся банки сока перекочевали из «Рафика» на кухню. Запах хлорки из туалета распространился по всей квартире. Фон на улице возрос до ста миллирентген, но квартира пока оставалась чистой.