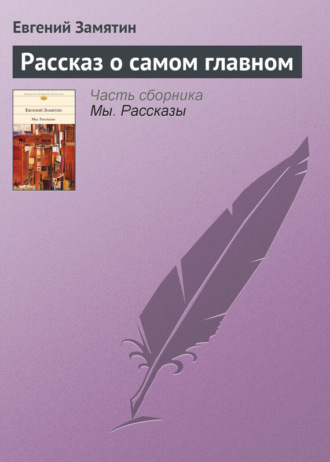
Евгений Замятин
Рассказ о самом главном
Куковеров вдруг чувствует, что устал, хочется сесть, садится, рвет письмо. Рябой скидывает свой глиняный блин-картуз, сморкается в него, снова надел – крепко, по самые уши:
– Та-ак, значить. Ну, до свиданья вам. А только зря вы, ребята. Там что-то, а все-таки – православные…
От городища по древлянской степи медленно идут двое. Один – всякий, тысячный, муравей; у другого – рябое лицо, на штыке – белая тряпочка. Коршун невысоко: видно, как на безруких плечах вправо и влево ворочает головой. Сквозь бинокль – заряженными глазами Дорда глядит навстречу.
И когда на идущих уже веет из кустов зеленой сыростью, сиренью, махоркой – почти неслышный выстрел из овина, с келбуйской стороны. Рябой, пригнувшись, заячьими петлями – в кусты, а тот – серый, тысячный, муравей – покачавшись немного, валится навзничь, и уже никто никогда не узнает, как было его имя.
Дорда вскакивает – он этого ждал, может быть, даже хотел. Вскакивает, весь заряженный, револьверный, пули из глаз – в одного, в другого, в каждого из тысячных.
– Что? Видели? Может, хотите – еще пошлем?
Чей-то мохнатый кряк; тишина. Так подрубленное дерево, падая, крякнет – корявыми лапами зацепилось, секунда тишины – и вдруг рухнуло. Крик, кулаки, зубы, бороды, мат – залпом. Кусты трещат, с ревом прет стоголовый медведь, рты разинуты – но никто не слышит, кровь на траве – но это все равно: через камень, через бревно, через человека, через себя. Только бы добежать, а там по двое, по трое, крепко обнявшись – как мужчина и женщина – как уже было где-то…
С длинным птичьим криком, кружась, падает солнце – и взойдет только завтра, а может быть, и не взойдет. На крыльце съезжей прочно, привинченно стоит Дорда – в кобуре кожаной или даже металлической; револьвер стиснут в руке так, что белеют ногти. Рядом – Филимошка, выпячена грудь, одну ногу вперед: как буква Я. И среди штыков Куковеров, без шляпы, вздрагивает папиросой, улыбкой. Из-за забора напротив – чуть слышный запах сирени.
– Этого – под караул, до рассвета… – Дорда глядит куда-то поверх серых, как пепел, и как пепел – чуть курчавых волос. – А этих пятерых – сейчас.
И эти пятеро – на лугу, возле древлянских сумрачных теремов. Зеленое в красных рубцах небо, в тугой судороге изогнувшийся мост, над рекой – пар, в последний раз. Невысоко, неслышно накрест перешвыриваются летучие мыши. И навсегда врезанные в стеклянное небо пять темных спин, пять голов – одна, как на шесте, над всеми.
– Эй, ты, длинный! На коленки бы стал, что ли. А то – кому в башку, а тебе в сиденье? Неладно выйдет.
Это говорит рябой, в глиняной рубахе, говорит добродушно, просто. Там, впереди – длинный становится на колени. Пять темных фигур, врезанных в зеленое застывшее небо…
* * *
От поднятой с ножом руки – синяя, литая тень на шее, на спине у слепого. Быть может, он чувствует холод тени – вздрогнул, приподнялся, поджав ноги, садится спиной ко мне, к вам, голову чуть-чуть набок, по-птичьи, шарит около себя – где же Мать? – сейчас слепые пальцы коснутся ее плеча, она проснется.
Сверху сверкает нож – вот сюда, справа, где возле уха столбиком жила. И тонкая шея вянет, он, не крикнув, клонится вниз, лицом в колени, согнувшись, сидит, неподвижный; я, мужчина, смотрю на него – широко, кругло.
Теперь вытереть холодные капли пота на лбу – левой рукой: правая забрызгана. И еще только один шаг… Дрожа, крепче стиснуть нож, и только один шаг – к той, кто когда-то была Мать, а сейчас… а сейчас…
Глаза: навстречу – ее глаза. Она лежит, готовая, на спине, не двигаясь, но у нее открыты глаза и нельзя – когда человек человеку в глаза, надо скорее забиться в исподлобье – в самый дальний угол, и оттуда…
Две ледяные луны качаются совсем на краю, сейчас оборвутся вниз. У нее, у Матери – губы свиты в тугое кольцо – как умирающий в куколку Rhopalocera. Она, лежа, запрокидывает голову назад – темная тень вот здесь, в ямке внизу шеи. Трудный, глухой голос:
– Ну, что же? Вот – вот здесь, вот сюда! – она показывает рукой на свою шею.
Нож звенит на пол. Тогда она подымается, мраморно, медленно. Тень от нее растет все огромней, переламывается на стене – в купол – еще выше. Она смотрит издалека, сверху, на застывшие в последнем взмахе машины, на неподвижные, когда-то убившие друг друга тела, на это, тоненькое, неподвижно уткнувшееся лицом в колени – оно уже сливается с другими, с тысячами других, чуть темнея на зеленоватом ледяном небе.
Она подходит к мальчику, приподнимает его голову, целует еще теплый рот, голова у него опять падает на колени. И подходит к другому, к мужчине: у него дрожат скулы, ноздри, верхняя губа с чуть заметной ложбинкой, он – человек. Так же подняла бы его голову и поцеловала бы эти – еще пока живые и теплые – губы, но только проводит рукою по его лицу. И теперь скорее, скорее – чтобы хватило сил кончить… Если б не быть человеком – если бы не знать жалости к человеку!
Открыта дверь в последний зал. Две пристальных, диких луны, положивших морды на пол. Какой-то огромный с делениями круг на полу. Да, это произойдет здесь.
Она, высокая, вступает в круг. Секунду стоит неподвижно, мраморная, как судьба; теперь нагнулась, и сейчас – …
Луна – земная, наша, горькая, потому что одна в небе, всегда одна, и некому, не с кем: только через невесомые воздушные льды, через тысячи тысяч верст тянуться к таким же одиноким на земле и слушать длинные песьи вои.
Таля – в палисаднике, одна, никого. Сейчас под луной почти черны железные листья сирени; ветви сирени согнулись от тяжести цветов: цвести – тяжело, и самое главное – это цвести. Таля сгибается – лицом в холодные цветы, лицо у ней мокрое, и мокрая сирень в росе. Там – еще ниже, на железном, чуть согнутом и связанном паутиною листке – окукленное, мертвое тельце Rhopalocera. От этого неподвижного тельца, как от крошечного камня в воде, быстрые, дрожащие круги бегут все шире, все огромней; глаза у Тали стоят, открытые настежь, как двери в доме, где мертвый, и она в первый раз ясно, вся, видит: другое, тоже неподвижное тело, согнутые пальцы – один желтый от папиросного дыма. И это немыслимо, невероятно – и что-то надо, что-то надо скорее, больше нельзя стоять так и слушать длинные песьи вои.
В избе. Хозяйка, взгромоздившись на табурет, зажигает перед образом лампадку, ее поднятые вверх руки – в красном вспыхивают, потухают. Самый простой избяной запах – печеного хлеба, но от этого… от этого…
– Тимофевна, милая, я не могу… ну, вот – как же, ну, как же? Вот завтра – трава и солнце, и все кругом возьмут хлеб и будут есть – а он? а он?
– Что ж, дитенок, живы-здоровы будем – все, Бог даст, помрем. И ты помрешь – ты что же думаешь? А час раньше, час позже – все едино.
Но может быть, прав Куковеров, одно и то же – минута и год, и иногда час – это вся жизнь. Белая, в вздрагивающем красном свете видна Таля на лавке; глаза стоят все так же – широко распахнутые настежь; руки между колен. Минута, час, год.
Встает, быстро, в лихорадке – перед зеркалом. Тяжелые, согнутые тяжестью цветов ресницы и тень. Вытереть лицо чем-нибудь мокрым – полотенцем, чтобы не видно было следов; теперь пальто…
– Да ты что – ай спятила? Да тебя на улице сейчас зацапают – и поминай как звали!
– А может, я и хочу – чтоб сцапали?
Белая под луною пыль. Над забором – черная, острая ветка в небе. От наваленной камнями тишины воют собаки. Знакомое крылечко: столбики с перехватом, на ступенях часовой, винтовка между колен, сидит так же, как вчера сидел тот, келбуйский, – и, может быть, он дремлет? Таля делает еще один шаг.
Часовой вскочил, глаза разинуты, как рот – орет ртом, вытаращенными глазами:
– Куды, куды прешь? Кэ-эк вот чучкну по башке прикладом, так… Приказа не знаешь – дома сидеть?
Но в руках у нее ничего нет, чуть пригнула голову, загородилась пустыми руками. Рябое под глиняным картузом лицо – разглаживается, затихло. Не спуская глаз – а вдруг… мало ли, что? – часовой стучит в окошко, темным крестом вырезан переплет рамы в красном свете, и, должно быть, там сейчас…
Выходит на крыльцо другой в глиняной рубахе – тысячный, муравей, винтовка. Часовой говорит ему:
– Вот что: постой пока тут, а я эту – к начальству представлю.
Собаки, луна, пыль. С выгона – полный, горький ветер, сохнут губы.
– Эх, кобели-то развылись… Скучают… Ты… тебя как зовут-то?
– Наталья.
– Во-от, черт! У меня жена – Наталья, ну, скаж-жи ты, пожалуйста! Эй, эй, под ноги-то гляди: корова наложила – ножки измажешь… Тут у них коровищи – ух! Тут за фунт гвоздей… Места – вообще! Ты что же – соль, что ли, сюда привезла менять или материю?
– Нет, я тут приехала ребят учить – в училище.
– Господи! Так ты ему – прямо: так и так, ребят, мол, учу. Ничего не будет, право слово. Ты – не бойсь, хоть он и…
– Я не боюсь.
И вот дверь открыта, дыхание – стиснутое, сквозь какую-то тончайшую щелочку между зубов. В раме – в колеблющемся круге свечи – навсегда это лицо, заряженные глаза, острия скул и губы: нет губ, нет розовой полосы – нет и не будет никогда слов.
Молча, глазами. Потом вдруг у него разрез рта – не там, а гораздо выше, и верхняя губа очень короткая. Слова:
– Приказ знали?
– Знала.
– Так зачем же?
– Чтоб меня привели к вам.
Свеча, нагорая, трещит, от скул – тени. На столе, на бумагах – револьвер, и два дула – глаза.
– Оружие есть?
Дыхание – сквозь тончайшую щель; стиснутое: «Нет». Он встает из-за стола, на свечке огонь колеблется; минуту – молча. Потом привычно, легко он проводит руками по ее телу, чуть сжимая здесь, на бедрах – где может быть в складках оружие. Тале кажется, что рука у него вздрагивает или это ее дрожь? – у ней сухие губы, и игла сквозь все на один миг: «Это? С ним?» И отвечает себе: «Да, и это, и всё – только бы…»
Не поднимая ресниц, согнутых тяжестью цветов, – спотыкаясь, облизывая сухие губы:
– Я – не то… вы напрасно. Я – потому, что у вас… Я знаю: вы хотите его завтра утром…
– Кого – его?
– Куковерова. Я – я не могу, чтобы он… И я вам – все, всю себя – что хотите! – я буду вам всю жизнь… Я его люблю, понимаете?
Тишина. Свеча, нагорая, трещит. Теперь на лице у него ясно виден разрез губ, верхняя очень короткая, и в ней легкая дрожь – может быть, тени от свечки.
– Я его – тоже люблю.
Громадные – настежь глаза у Тали:
– Вы?
– Да, я. Мы с ним год сидели вместе в тюрьме. Вдвоем жили. Это не забывается.
– Так, значит, вы… его не…
– Завтра я его расстреляю. Не я – ну, это все равно.






