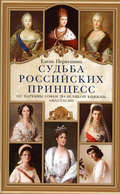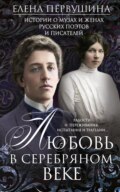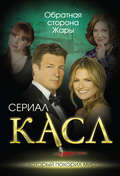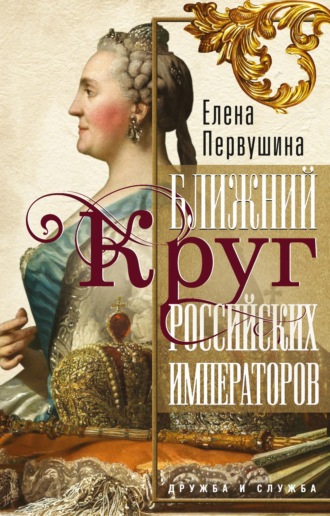
Елена Первушина
Ближний круг российских императоров
Долгорукие-старшие
Посол Испании при Русском дворе с 1728 по 1731 гг., герцог де Лирия, писал о главе этой семьи: «Князь Василий Лукич Долгорукой, министр Верховного тайного совета, был умен и недурен собою. Он был посланником в Швеции, Дании, Польше и во Франции и всюду заслужил имя искусного и хорошего министра. Он очень хорошо говорил на многих языках, и с ним можно было ужиться; но вместе с сим он очень любил взятки, не имел ни чести, ни совести и способен был на все по корыстолюбию. Наконец, он понес достойную казнь за свои интриги: царица сослала его на один жалкий остров Белого моря».
Василий Лукич – племянник соратника Петра Якова Федоровича Долгорукова, сын стольника и киевского воеводы, князя Луки Федоровича, в молодые годы вместе с дядей побывал во Франции, где Василий собственноручно поднес Людовику XIV «сорок соболей, шесть лисиц черных и десять косяков “камок лауданов”» и получил в качестве ответного дара портрет Людовика, усыпанный драгоценными камнями. Как нам уже известно, отъезд из Франции чуть не обернулся для русского посольства скандалом, тем не менее, Василий Лукич, как это было условлено ранее, остался в Париже для изучения языков и пробыл там тринадцать лет, до 1700 г.
Позже, по повелению Петра, молодой дипломат отправился в Польшу при русском после, своем родном дяде, князе Григории Федоровиче – еще одном из четырех братьев Долгоруких, сподвижников Петра. Вскоре он занял место дяди. Служба трудная, т. к. Польша склонялась на сторону Швеции в Северной войне, и необходимо любой ценой заставить ее придерживаться духа и буквы договора, заключенного с Россией.
Выполнить эту миссию ему не удалось: успехи шведов на полях сражений оказались решающим аргументом, но Петр не держал зла на Василия Лукича и поручил ему не менее трудное задание – отправиться в Данию и попытаться разорвать союз датского короля Фридриха IV с Карлом XII, а затем укрепить союз и дружбу России с Данией. Переговоры свелись к отчаянной базарной торговле: датский король требовал субсидий в обмен на союзный договор, Долгоруков стремился сэкономить российские деньги. И, наконец, несмотря на сильное противодействие английского и голландского посланников, в Копенгагене, 11 октября 1709 г. заключен союзный договор между Россией и Данией, причем без всяких субсидий, лишь за обещание солидных земельных приобретений после победы.

В.Л. Долгорукий
Василий Лукич возвращается во Францию с тремя поручениями Петра: договориться о посредничестве Франции при примирении России со Швецией, о признании за Петром Великим титула императора и о брачном союзе между королем Людовиком ХV и цесаревной Елизаветой Петровной. Последнее задание выполнить не удалось, как раз из-за сомнений в законнорожденности Елизаветы, а вот Ништадтский мир благополучно подписан. Через год Долгорукого на посту французского посланника сменил Алексей Борисович Куракин.
Долгорукий же вернулся в Россию, где царь устроил ему торжественную встречу, сказав, между прочим: «Я отдаю справедливое уважение достоинствам, приобретенным сими знатными россиянами у других народов», назначив Василия Лукича сенатором.
Позже Долгорукий исполнял дипломатические поручения в Польше, помогая своему родственнику – Сергею Григорьевичу Долгорукому, защищая на сейме интересы православных в русских областях Речи Посполитой и добиваясь признания за Петром императорского титула. Сергей Григорьевич – один из выдающихся русских дипломатов, молодость провел при посольствах в Париже, Вене и Лондоне, и Василий многому у него научился.
После смерти Петра, Долгорукий отправился в Курляндию, где умер муж Анны Иоанновны, племянницы Петра. В новые герцоги Курляндии рвался, в числе прочих Меншиков, но против этого категорически возражал польский сейм, ссылаясь на низкое происхождение Александра Даниловича, не желая поверить в его литовские княжеские корни. Тогда Меншиков предложил еще один способ убеждения – ввести в Курляндию 20 000 русского войска. Тут уж даже Екатерина І решила окоротить генералиссимуса и написала ему: «Пока вы там будете, надобно вам рассуждать и советоваться с кн. Васильем Лукичем, который состояние этого дела в Польше лучше знает, и поступайте с общего с ним согласия, как полезнее будет нашим интересам, чтоб безвременно с Речью Посполитою в ссору не вступить». В итоге Меншикову Курляндия не досталась, но к тому времени скончалась Екатерина I и у Александра Даниловича теперь другие заботы…
Долгорукий отправился в Швецию, которая теперь искала союза с Англией. В заседании Верховного тайного совета 6 августа 1726 г. ему вручен вексель в 20 000 рублей для раздачи «шляхетству и другим мелким персонам, которые скудны, а силу имеют», а знатным лицам обещать богатые подарки, если они сделают по желанию Русского двора. Но переговоры оказались трудными, не помог ни торжественный обед, данный русским послом, ни бал и маскарад на 500 человек, ни щедрая раздача подарков, Василий Лукич писал в Петербург, что «легче турецкого муфтия в христианскую веру обратить». В конце концов Долгорукого отозвали из Швеции через шесть недель после кончины Екатерины І.
Посол Англии в России Ксаверий Рондо писал о нем: «Человек опытный и рассудительный, очень честный, добрый и щедрый. С самого 1704 года постоянно был употребляем для переговоров при разных дворах, а именно: в Дании, Польше, Франции и Швеции. Навыком он приобрел отличное познание иностранных дел, а обязательностью в обхождении снискал общую любовь всех сословий, но, будучи беззаботного нрава, предпочитал развлечения делам».
Вот такой-то человек и задумал сейчас сыграть вместе с Остерманом партию против всесильного генералиссимуса Меншикова.
В союзники он взял еще одного своего родственника – Алексея Григорьевича Долгорукого – брата Сергея Григорьевича и племянника того самого Якова Долгорукого, которого Петр I так ценил за правоту. Отец Алексея Григорьевича – Григорий Федорович также пользовался доверием Петра и в 1700 г. отправлен в Польшу с тайным поручением – условиться с королем Августом относительно плана военных действий против шведов и вслед за тем назначается чрезвычайным послом при Польском дворе. Выполнить это поручение ему помогал Василий Лукич. В 1706 г. Карл XII занял Варшаву и принудил Августа II отказаться от престола, Григорий Федорович вернулся в Россию и отличился в Полтавской битве.
Алексей Григорьевич, сын Григория Федоровича, благодаря значению отца и дяди при Дворе быстро шел по службе: губернатор Смоленска, затем – сенатор, гофмейстер, второй воспитатель великого князя Петра Алексеевича.
Молодые Долгорукие
Василий Лукич устроил своего двоюродного племянника 18-летнего Ивана и его братьев – Николая, Алексея и Александра – в гоф-юнкеры. Молодые люди ездили вместе с царем на охоту и быстро сдружились. Вскоре Иван получает чин камергера (14 декабря 1727 г.), невероятный для его юных лет, затем обер-камергера (11 февраля 1728 г.), генерала от инфантерии, в 1730 г. – майора лейб-гвардии Преображенского полка, награжден орденами: Св. Александра Невского и Св. Андрея Первозванного и становится самым завидным женихом в столице, ему быстро подобрали достойную невесту – 15-летнюю Наталью Шереметеву.
Наталья – сирота, но сирота богатая, происходившая из семьи, близкой к Романовым (помните «Шереметева благородного»?), и по всем приметам это настоящий звездный брак. К тому же жених и невеста молоды и красивы: «Думала, я – первая счастливица в свете, – пишет Наталья на склоне лет. – Потому что первая персона в нашем государстве был мой жених, при всех природных достоинствах имел знатные чины при дворе и в гвардии… я почитала за великое благополучие, видя его к себе благосклонна; напротив того и я ему ответствовала, любила его очень, хотя я никакого знакомства прежде не имела и нежели он мне женихом стал не имела, но истинная и чистосердечная его любовь ко мне на то склонила. Правда, что сперва эта очень громко было, все кричали: “Ох, как она счастлива!” Моим ушам не противно было это эхо слышать… Казалось, ни в чем нет недостатку. Милой человек в глазах, в рассуждении том, что этот союз любви будет до смерти неразрывной, а притом природные чести, богатство; от всех людей почтение, всякий ищет милости, рекомендуется под мою протекцию. Подумайте, будучи девке в пятнадцать лет так обрадованной, я не иное что думала, как вся сфера небесная для меня переменилась».

И.А. Долгорукий
Статья в «Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона» приводит такую характеристику Долгорукого: «Человек не без способностей и с добрым сердцем, Долгорукий не имел ни воли, ни нравственных правил; высота общественного положения, которой он достиг без всякого труда и заслуг, вскружили ему голову; никем не сдерживаемый, он вел рассеянную и распутную жизнь». Но девочке, едва с ним знакомой, он, конечно, представлялся самим совершенством.

Н.Б. Шереметева
В конце 1729 г. на обручение Наталии и Ивана съезжается весь высший свет столицы. «Между тем начались у нас приготовления к сговору нашему, – вспоминает Наталья. – Правду могу сказать, редко кому случилось видеть такое знатное собрание: вся Императорская фамилия была на нашем сговоре, все чужестранные министры, наши все знатные господа, весь генералитет; одним словом сказать, столько было гостей, сколько дом наш мог поместить обоих персон: не было ни одной комнаты, где бы не полна была людей. Обручение наше была в зале духовными персонами, один архиерей и два архимандрита. После обручения все его родственники меня дарили очень богатыми дарами, бриллиантовыми серьгами, часами, табакерками и готовальнями и всякою галантерею. <…> Мои б руки не могли б всего забрать, когда б мне не помогали принимать наши. Перстни были, которыми обручались, его в двенадцать тысяч, а мои – в шесть тысяч. Напротив и мой брат жениха моего одарил: шесть пудов серебра, старинные великие кубки и фляги золоченые. Казалось мне тогда, по моей молодости, что это все прочно и на целый мой век будет, я того не знала, что в здешнем свете ничего нету прочного, а все на час. Сговор мой был в семь часов пополудни; это было уже ночь, по этому вынуждены были смоленые бочки зажечь для свету, чтоб видно было разъезжающимся гостям, теснота превеликая от карет была. От того великого огня видно было, сказывают, что около ограды дому нашего столько было народу, что вся улица заперлась, и кричал простой народ: “Слава Богу, что отца нашего дочь идет замуж за Великого человека, восстановит род свой и возведет братьев своих на степень отцову”. Надеюсь, вы довольно известны, что отец мой был первой фельдмаршал и что очень любим был народом и доднесь его помнят. О прочих всех сговорных церемониях или весельях умолчу: нынешнее мое состояние и звание запрещают (Наталия писала это письмо, будучи монахиней. – Е. П.). Одним словом сказать: все что, что можете вздумать, ничего не упущено было».
Помолвка Наталии и князя Ивана состоялось через три дня после обручения Петра II с сестрой Долгорукова – Екатериной Алексеевной. А что же прежняя невеста Петра Мария Меншикова? Для того, чтобы узнать о ее судьбе, нужно вернуться на два года назад.
«Я хочу уничтожить фельдмаршала!»
В дни всевластия Меншикова в его дворце на Васильевском острове состоялась такая сцена: Петр вошел в комнаты князя и, застав там гостей – нескольких вельмож, сказал им: «Я сегодня хочу уничтожить фельдмаршала». Все застыли в недоумении. И тогда Петр подал Меншикову бумагу: это был подписанный рукою государя патент на чин генералиссимуса. Этот маленький спектакль, скорее всего, срежиссировал сам тщеславный «Данилыч».
Теперь же Долгорукие искусно подогревали обиды юного Петра на Меншикова, и недовольство навязанной невестой. Тщеславие и жадность генералиссимуса – самые верные их союзники. Летом 1727 г. цех петербургских каменщиков поднес императору 10 000 червонцев. Петр отправил эту сумму в подарок своей сестре – Наталье Алексеевне. Узнав об этом, Меншиков забрал деньги себе, Петра это разозлило, в ярости он был подобен деду, но «Данилыч» урока не усвоил и это не единственная стычка с подрастающим царем из-за денежного содержания. Очень скоро Петр пришел к выводу, что Меншиков его обкрадывает.
Уже все при Дворе начинают понимать, что положение «полудержавного властелина» шатко. Все, кроме него самого. Прусский посланник пишет: «До́лжно сознаться, что Меншиков легкомысленно отказался тогда от всего, что ему советовали добрые люди для его безопасности; временщик сам ускорил свое падение, поддаваясь своему корыстолюбию и честолюбию. Ему надлежало действовать заодно с Верховным тайным советом, поддерживать им же заведенный государственный строй, а, вместе с тем, приобретать расположение к себе и царя, и его сестры. Меншиков же прибрал к рукам все финансовое управление, располагал произвольно всеми военными и гражданскими делами, как настоящий император, и оскорблял царя и великую княжну, сестру государя, отказывая им в исполнении их желаний; все это делал он, увлекаясь тщеславною мыслью, что ему надобно обоих царственных детей держать под ферулой[16]».
В день именин Александра Даниловича царь не приезжает к нему в Ораниенбаум, это – дурной знак. 3 сентября 1727 г., в воскресенье, Меншиков назначил освящение своей домовой церкви в Ораниенбауме, надеясь на этом празднике примириться с Петром, но царь снова не приехал, хотя вместе с Натальей находился в двух шагах от Ораниенбаума – в Петергофе. На праздник Меншиков созвал всю знать, и они стали свидетелями его позора. На другой день Меншиков отправляется в Петергоф, там готовятся к празднованию именин Елизаветы, а царь с утра уехал на охоту. Меншиков недолюбливал Елизавету из-за того влияния, которое она имела на Екатерину, а теперь на Петра. Переступив через свою неприязнь, он идет к ней на поклон, не добившись от нее никаких обещаний, уезжает в Петербург и не присутствует на Петергофском празднике. Петр приказывает перевезти все царские экипажи и все царские вещи из дворца Меншикова в царский Летний дворец. Меншиков приказывает вывести с Васильевского острова, квартировавшие там гвардейские полки, видимо, опасаясь, что им будет отдан приказ о его аресте. Однако эта мера не могла его спасти.
На обеде с Долгорукими и с членами Верховного тайного совета Петр говорит: «Я покажу Меншикову, кто из нас император – я или он. Он, кажется, хочет со мной обращаться, как обращался с моим родителем. Напрасно. Не доведется ему давать мне пощечины» и через Остермана передает Тайному совету приказ: «Понеже мы восприяли всемилостивейшее намерение от сегодня собственною особою председать в Верховном тайном совете и все выходящие от него бумаги подписывать собственною нашею рукою, то повелеваем, под страхом царской нашей немилости, не принимать во внимание никаких повелений, передаваемых через частных лиц, хотя бы и через князя Меншикова».
От дворца Меншикова удаляют почетный караул, полагавшийся ему как генералиссимусу, и объявляют о его аресте. Остерман и Долгорукие одержали бескровную победу.
12 сентября Меншиков получил приказ, в котором сообщалось, что он лишается всех чинов и званий, и должен ехать со своим семейством в Раненбург – маленькую крепость недалеко от современного города Липецка. Один из современников вспоминает: «Проезжая по улицам петербургским, он кланялся направо и налево из своей кареты и, видя в сбежавшихся толпах народа своих знакомых, прощался с ними так весело, что никто не заметил в нем ни малейшего смущения». По дороге кавалькаду карет и повозок, увозивших семью Меншикова, нагнал курьер с приказом отдать все ордена. Александр Данилович в пути занемог, его везли на носилках, привязанных к лошадям.
В Раненбурге Меншиков сделал последнюю, довольно робкую попытку изменить свою судьбу: празднуя день рождения, раздал охране дорогие подарки. Начальник охраны, опасаясь доноса, решил сам доложить об этих дарах. Его тут же сместили с поста, Меншикова обыскали, арестовали все его имущество, привезенное в Раненбург, а позже отправили дальше на восток – в город Березов Сибирской губернии.
Меншикову оставалось жить всего два года. Он умер 12 (23) ноября 1729 г. в Березове, в возрасте 56 лет. Дарья Михайловна скончалась еще по дороге в Березов, в Казани, старшая дочь Мария, «порушенная» невеста Петра II, умерла от оспы. Из ссылки вернулись – сын Александр, который продолжил род Меншикова и младшая дочь светлейшего, вскоре вышедшая замуж.
«Порушенные» невесты и разрушенные планы
Теперь Остерман и Долгорукий-старший могут праздновать победу, а две невесты – Екатерина Долгорукая и Наталья Шереметева готовятся к свадьбам.
Леди Джейн Рондо, жена английского посла в России, жившая в Петербурге и Москве в 1729 г., рассказывает в письмах своей приятельнице: «Некоторое время тому назад я познакомилась с юной дамой, которая не играет в карты по причине ли той же непонятливости, что и я, или же потому, что ее сердце преисполнено более нежной страстью; я не берусь определить. Кротость, доброта, благоразумие и учтивость этой восемнадцатилетней особы заключены в хорошенькую оболочку. Она – сестра фаворита, князя Долгорукого. Предмет ее любви – брат германского посла; все уже оговорено, и они ждут только каких-то бумаг, необходимых в его стране, чтобы стать, я надеюсь, счастливыми. Кажется, она очень рада, что в замужестве будет жить за пределами своей страны; она оказывает всевозможные любезности иностранцам, очень любит жениха, а тот – ее».
Так начинается эта история в письме Джейн Рондо от 4 ноября.
А между тем у родственников Екатерины совсем иные заботы – настало время решать, кто будет руководить юным царем – они или Остерман. К Остерману Петр и Наталья питают глубочайшее почтение, и благодарность, что тот избавил их от Меншикова. Но он – иностранец, и всем известна его хитрость в государственных делах, поэтому Петра легко навести на мысль, что в следующий раз Остерман может применить эту хитрость против него. На стороне Долгоруковых – глубокие русские корни их семьи, а также молодость Ивана – Петр смотрит на него как на товарища, спутника во всех забавах. Поэтому Долгорукие пытаются как можно больше развлекать юного царя. Остерман ворчит, упрекает Петра, за то, что он мало времени уделяет наукам, а Долгоруким только того и надо. Тринадцатилетний, неопытный, уже избалованный, мальчик, почувствовавший вкус власти, вряд ли будет благодарен тому, кто напоминает ему, что с властью сопряжены также и обязанности. Остерман опытен в придворных играх и находит себе нового союзника, вернее – союзницу, царицу Евдокию, первую жену Петра, насильно постриженную в монастырь. Сначала он наладил переписку между бабушкой и внуками, а после устраивает ее переезд в Москву, куда вскоре должен приехать Петр на коронацию. На эту поездку рассчитывают и Долгорукие, рассказывая Петру о том, какая прекрасная под Москвой охота – на зайцев и лисиц, на волков и медведей, на птиц – с кречетами, соколами и ястребами. Но в Петербурге отъезда царя многие боятся, он может не вернуться в про́клятую когда-то Евдокией столицу[17].
9 (20) января 1728 г. Петр выехал из Петербурга в Москву со всем Двором, 24 февраля (7 марта) совершилась коронация. Празднования длились восемь дней. Город с утра до вечера оглашался колокольным звоном, по вечерам горели потешные огни; в Кремле били фонтаны, из которых струились вино и водка. Алексей Григорьевич, отец молодых Долгоруких, и их дядя – Василий Лукич официально приняты в число членов Верховного тайного совета. Иван Долгорукий возведен в чин обер-камергера и получил чин майора Преображенского полка (равнявшийся тогда чину генерала).
Можно возвращаться в Петербург, но царь не спешит, охота под Москвой и впрямь оказалась прекрасной, а после охоты царь со свитой часто заезжают в подмосковное имение Долгоруких Горенки, где гостей принимают жена Алексея Григорьевича – Прасковья Юрьевна Долгорукая и их дочь 16-летняя Екатерина, та самая, которая мечтала выйти замуж за графа Милезимо, родственника австрийского посланника, и уехать из России.
В следующем письме Джейн Рондо от 20 декабря, мы узнаем о перемене в судьбе героини: «Со времени моего последнего письма здесь произошли удивительные перемены. Юный монарх (как предполагают, по наущению своего фаворита) объявил о своем решении жениться на хорошенькой княжне Долгорукой, о которой я упоминала в том письме.

Е.А. Долгорукая
Какое жестокое разочарование для двоих людей, сердца которых были всецело отданы друг другу! Но в этой стране монарху не отказывают».
Старшие Долгорукие, Остерман, царевна Елизавета, разделяющая с Петром страсть к охоте и старающаяся не утратить влияния на него. После смерти матери, а потом и старшей сестры – супруги герцога Курляндского, ее положение при Дворе весьма шатко, продолжают танцевать «политический менуэт». Остерман уговаривает Петра сделать Ивана Долгорукова обер-камергером, добивается того, чтобы тот получил польский орден Белого Орла. С Иваном ищет сближения и Елизавета. В то же время Алексей Григорьевич все больше недоволен старшим сыном и хочет «продвинуть» другого сына, сделать его фаворитом. В то же время Алексей на людях любезен с Остерманом, а за глаза бранит его и пытается очернить Елизавету в глазах Петра. Чего же хочет сам Петр? Кажется, только одно – травить зайцев.
Внезапно от чахотки умирает царевна Наталья – это большое горе для Петра и повод для волнений и перестановок в придворных кругах, Долгорукие спешат обручить Екатерину с молодым царем.
Джейн Рондо пишет: «Два дня тому назад состоялась церемония публичного объявления об этом, или, как русские его называют, “сговор”». За день до этого княжну привезли в дом одного вельможи близ дворца, где она должна оставаться до свадьбы. Все люди света были приглашены, и общество расположилось на скамьях в большом зале: государственные сановники и русская знать, по одну сторону, иностранные министры и знатные иностранцы – по другую. В дальнем конце зала был балдахин и под ним два кресла; перед креслами – алтарь, на котором лежала Библия. По обе стороны алтаря расположилось многочисленное духовенство. Когда все разместились, император вошел в зал и несколько минут говорил с некоторыми из присутствовавших. <…> Княжну привезли в одной из его карет из дома, где она пребывала; с нею в этой карете ехали ее мать и сестра. Ее брат как обер-камергер (lord highchamberlam) следовал в карете перед ними, а позади – большой поезд императорских карет.
Брат проводил княжну до дверей зала, где ее встретил царственный суженый, сопроводил ее к одному из кресел, а в другое сел сам. Хорошенькая жертва (ибо я княжну, считаю таковой) была одета в платье из серебряной ткани с жестким лифом; волосы ее были завиты, уложены четырьмя длинными локонами и убраны множеством драгоценных камней, на голове – маленькая корона; очень длинный шлейф ее платья не несли. Она выглядела спокойной, но была очень грустна и бледна. Посидев какое-то время, они поднялись и подошли к алтарю, где он объявил, что берет ее в супруги; затем отдал ей свое кольцо, а она ему – свое, и он укрепил свой портрет на запястье ее правой руки; затем они поцеловали Библию, архиепископ Новгородский прочел краткую молитву, и император поцеловал ее. Когда они снова сели, он назначил кавалеров и дам ко двору невесты и пожелал, чтобы они сразу приступили к своим обязанностям. Они подошли поцеловать ей руку; жених, держа в своей ее правую руку, подавал ее каждому подходившему, поскольку все совершили эту церемонию. Наконец, к всеобщему удивлению, подошел несчастный покинутый обожатель. До этого она все время сидела, не поднимая глаз; но тут вздрогнула и, вырвав руку из руки императора, подала ее подошедшему для поцелуя. На лице ее в это время отразилась тысяча различных чувств. Юный монарх вспыхнул, но подошли другие засвидетельствовать свое почтение, а друзья молодого человека вывели его из зала, посадили в сани и как можно скорее увезли из города. Поступок этот был в высшей степени опрометчив и безрассуден и, осмелюсь сказать, неожидан для княжны.
Юный монарх открыл с нею бал, который скоро закончился к ее, насколько я могу судить, большому облегчению, ибо все ее спокойствие улетучилось после этой опрометчивой выходки и на лице ее теперь не отражалось ничего, кроме страха и смятения.
По окончании бала ее препроводили в тот же дом, но теперь она ехала в собственной карете императора с императорской короной наверху, причем одна, в сопровождении гвардии. <…>
…На невесту смотрят теперь как на императрицу, но все же, я полагаю, если бы можно было заглянуть ей в сердце, то стало бы ясно, что все это величие не облегчает страданий от разбитой любви».
Наступает звездный час Долгоруких. Московская знать и иностранные посланники наперебой ищут их расположения. Остерман, кажется, отставлен и забыт.