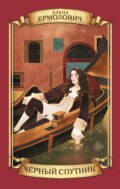Елена Ермолович
Саломея
Доктор поглядел на него, вернее, на них двоих – на герцога, в дрожащих пальцах сжимающего бледную руку гофмаршала, и на самого гофмаршала, спящего, как дитя, в детской позе с подобранными коленями, белого, как фарфор, в смазанных стрелках.
– Ваша светлость, мне нужно спуститься за льдом для компресса, как лучше – кликнуть лакея, или вы изволите дождаться? Я не желал бы бросать его одного.
Он говорил с герцогом, как с равным. Это умиляло. Смелость не может не умилять, когда ты сам – главное чудовище, первый изверг двора.
– Ступай, доктор, я тебя дождусь, – позволил герцог.
Доктор поклонился и вышел. Герцог остался сидеть, с холодной рукой в своей – горячей, как от жара. Он и жил свою жизнь – как в лихорадке, в тумане, в красном мороке горячечного бреда, который уж год. Наощупь, par coeur. Он смотрел на больного – как дрожат ресницы, как вздымается от дыхания тонкое испанское кружево. Не потерять бы… Есть люди, на которых довольно только взглянуть – и уже можно жить, до самого вечера, и не желать при этом повеситься. Вернее, есть один такой человек, и, кажется, он тоже вот-вот – того…
Доктор скоро вернулся с мешочком льда, как и обещал. Герцог поднялся из кресла – серебром облитая статуя.
– Передай графу, как встанет, что завтра я жду его на обед. Нам с ним сегодня не свидеться, день мой до ночи расписан.
В манеже, позади лошадиных чертогов, – а именно так следовало бы именовать обиталища герцогских лошадей, – позади комнат конюхов и чуланов со сбруей, в крошечной каморке сидел Цандер Плаксин и принимал посетителей. Каморку эту он иронически именовал своим кабинетом, хоть и писать приходилось ему на перевернутом барабане, а сидеть – на старом седле, положенном на низкие козлы.
Сейчас Цандер выслушивал давешнего подменного лакея – того самого, что болтал с карлой в доме Волынского.
– Вчера гости были, – докладывал лакей, – и сегодня опять ждёт. Все те же люди. Вчера разговор вёлся о записке, называемой «Представление». В записке советы известной особе…
– Какой? – уточнил быстро Плаксин. – Женского полу или мужского?
– Женского, – отчего-то смутился докладчик, – как империей управлять. И заодно ябеда на трёх злодеев – Остермана, Головина, Куракина. Правда, имена их не названы, но портреты узнаваемы весьма. Теодот мой слушал – сразу понял, о ком речь. И ещё – о герцоге речь, если поразмыслить…
– Всё тебя тянет поразмыслить, Кунерт, – вздохнул Плаксин. – Живи как птица. Пари и гадь, – продолжил он неожиданно свою мысль.
– Так и выходит, – мрачно отвечал Кунерт. – Моя сиятельная милость сожрёт меня, если узнает, чем я с тобою занят.
– У него так широко рот не откроется, – утешил Плаксин. – Были ещё разговоры?
Лакей опять отчего-то зарделся.
– Теодот показывал, что дворецкий у князя не просто дворецкий, а ещё и…
Он сделал непонятный округлый жест и цокнул, как белочка.
– Это нас не касается, – отмахнулся Плаксин, – каждый грешит, как ему угодно. Спасибо, Кунерт, свободен, заходи ещё.
– Следующий?
В дверь просунулась кудрявая голова, почти точно такая же, как у Цандера.
– Волли! – воскликнул Цандер. – Отчего ты здесь, не с патроном?
Кунерт кивнул обоим и пулей вылетел из так называемого кабинета – он отчего-то очень боялся Волли Плаксина.
– Меня сменили на час-другой, пока патрон за картами.
Волли Плаксин вошёл и сел на барабан. Он был такой же тощий циркуль, как и брат его Цандер, с таким же неприметным, словно стёртым лицом. Они были близнецы, но разные, и никогда никому не признавались, кто из них старше. В прошлом пажи Курляндской герцогини, они сделали блестящую карьеру, если, конечно, не терять чувства юмора – Волли вырос до начальника охраны дюка Курляндского и личного его телохранителя, а Цандер… Цандер был его главный шпион. Злые языки врали о братьях, мол, они начинали свою карьеру, сидя в печной трубе (ну да, чтобы подслушивать, недаром же они оба такие тонкие и длинные), но ничего подобного. Плаксины, или, по-немецки, фон Плаццены, в трубах не сидели, доверяли эту честь своим подчинённым. Зато великолепно умели делаться невидимыми в кружевных тенях, ходить бесшумно и читать издалека по губам.
Цандер Плаксин даже побывал как-то раз с дипломатической миссией в Польше – старшему графу Лёвенвольду нужен стал для его дел такой шпион, читающий по губам, и господин фон Бюрен (так звался тогда нынешний дюк Курляндский) одолжил дипломату своего подданного. Да, Цандер повидал на своём веку – и мир, и людей, и великие свершения.
– Ещё ждёшь кого? – спросил Волли, лениво потягиваясь и делаясь ещё длиннее.
– А как же. Балетница Крысина, из труппы господина Арайи. Полночь уже – а она никак не изволит.
– Занята-с, – усмехнулся Волли, – как закончит – так и доложится. Я уходил – они только отплясали, и к ней за сцену генерал один рвался, сам знаешь, какой… – Волли закатил глаза. – Наш безутешный вдовец.
– Что ж, подождём, – вздохнул Цандер. – Мне еще из их галиматьи экстракт выводить. Как раз утром отчитаюсь – и залягу спать до трёх.
– Прикрою тебя, – пообещал Волли.
Братья переглянулись – два чёрных одуванчика – и одинаково рассмеялись.
3
Леталь, куколд и ведьма
Доктор Яков Ван Геделе проснулся – и от того, что печка остыла, и от того, что запахло блинами. Золотистый, маслянистый, словно бы пухлый запах разом напомнил, где он ныне очутился и пребывает.
В Варшаве по утрам в их доме пахло сгоревшими зёрнами кофе, корицей, ванилью и, если ссора вчера была, то валериановыми каплями. Жена отчего-то любила ссориться с ним на ночь, а поутру садилась за стол молочно-бледная и укоризненно накапывала в рюмочку эти валериановые капли, словно мужу в назидание…
Доктор накинул халат и вышел в столовую. Да, гора блинов высилась, объятая паром, и рядышком уютно пыхтел на спиртовке чайник. Слышно было, как в прихожей кучер Збышка вдохновенно торгуется с каретником. Получается, что к вечеру будет и карета. На первых порах из крепости посулили прислать возок, – доктор взглянул на часы, и из часов, как по заказу, со скрипом свесилась кукушка, – десять, выходит, уж через час.
Прежде чем садиться за стол, Яков заглянул в комнату к дочке. Оса спала, вся под одеялом, с головой и пятками – холодно. Доктор не стал будить, пожалел. Вчера набегались, накатались, пусть спит. Тяжкий денёк был вчера, но вроде выстояли, отбились.
Он ведь забрал вчера дочку вовсе не из приёмной господина Окасека. Оса и авантюрная лейб-художница Аделина Ксавье обнаружились, наверное, в самом опасном месте на свете, практически в логове зверя. И в компании зверя… Вот странная есть у русских поговорка – не так страшен чёрт, как его малютка… Доктор отлично знал из писем бывшего своего патрона, что за дрянной человечек этот мальчик, Карл Эрнест фон Бирон. Обер-гофмаршал своих детей не завёл и о чужом писал безжалостно – дурачок, капризный, в папашу, истерик, не видящий берегов, жестокий озорник… Доктор застал свою дочь в зимнем саду герцогов Курляндских. Дворцовая контора примыкала крылом к тем покоям. Дети, Оса и опасный Карл Эрнест вдохновенно расставляли силки для тамошних попугаев и туканов, и легкомысленная дура Ксавье им помогала, в компании ещё одного дурака, бироновского наёмного гувернёра. Какое безумие – играть в лесу, где обитают львы, со львёнком! Когда в любую минуту за детёнышем могут явиться лев или львица. И еще ведь неизвестно, кто хуже: громокипящий злобный герцог или же его прохладная и скользкая, как шёлк, змея-супруга. Доктор поспешно увёл дочь и столь сердито нашипел в коридоре на дуру Ксавье, что та едва не расплакалась. Но потом проглотила слёзы и внезапно сказала:
– Ваша дочь очень талантлива. У неё от природы поставлена рука – лучше, чем у нашего Луи Каравака.
Каравак был придворный портретист, совсем не умевший изображать человеческую голову. Все, понимавшие в рисунке, над ним смеялись, но невежды-царедворцы всё равно у него заказывали.
– Сложно рисовать хуже Каравака, – улыбнулся доктор, уже коря себя за недавний гнев.
– Я могу взять Осу в ученицы, мне по штату положен ученик. А ученику – положено жалование. Я прежде всё никак не могла никого выбрать. Здесь никто не может рисовать. И мой начальник, обер-гофмаршал, меня ругает – не может он спокойно смотреть, когда жалованье положено, а некому его получать.
– Не мала она для вас? Осе девять, она просто очень высокая.
– Я в восемь начинала, с Гизельшей. Может, помните такую? Писала акварели на стенах Кунсткамеры.
Доктор помнил Гизельшу. Они даже ужинали когда-то вдвоём в его доме, Балкша, Гизельша, две подруги, колдунья и художница. Как же причудливо тасуется колода!..
– Ты хочешь? – спросил он дочку.
– Хочу!
Ещё бы – жалованье и возможность глазеть на богатых заказчиков, которых наверняка изрядно.
– Я пригляжу за Осой, никуда её от себя не стану отпускать.
Ксавье как будто прочла его мысли. Неудивительно, после такого дня уже всё, наверное, написано было на лице. У девицы Ксавье были козьи серые глаза, широко разведённые, с золотыми ресницами, с разрезом, изящно приподнимающим внешний уголок.
– Вам прежде говорили, что у вас глаза – как у женщин с полотен Кранаха? – вдруг спросил доктор.
Оса топнула ногой:
– Папа!
– Не говорили, но я сама видела. Женский портрет кисти Кранаха висит в доме графа Остермана. Я расписывала в его доме плафоны.
– За стол садитесь, благородие, вон блинчики-то стынут!
Это Лукерьюшка своим приглашением словно за шкирку выдернула его из воспоминания о прекрасных глазах Аделины Ксавье. И поделом…
Доктор уселся за стол, накрыл колени салфеткой. Лукерья, высокая, конопатая, полная бабёха тридцати лет, налила для него чай, постреливая глазами. Вот чучело!.. Яков Ван Геделе подумал, что и жена его прежде, до Варшавы, тоже звалась Лукерья, и только потом уж стала – Лючия. И было бы ей сейчас двадцать пять, поменьше, чем этой… Та его Лукерья тоже была высокая, словно золотой пудрой, обсыпанная веснушками, но тонкая в поясе и с такими длинными ногами, что они начинались, казалось, от самой талии. Она пела в церковном хоре, да так, что из Кракова приезжали слушать. Она плакала по утрам бог знает о чём, и птичкой порхала на балах, и рисовала в альбомах золотых канареек и золотых же принцев, и умела очистить мандарин, коготками раскрывая его, как розу, и легко выучилась и польскому – о, абсолютный слух! – и верховой езде, и игре на клавикордах. И всё напевала ту песенку, грустную, старую, арестантскую, выдавая себя, вернее, попросту не желая забыть, что всё ещё любит, отчаянно и безнадёжно, другого.
Разложила девка тряпки на полу,
Раскидала карты крести по углам,
Позабыла девка – радость по весне,
Растеряла серьги-бусы по гостям…
Она умерла три месяца назад, от дифтерита. И, слава богу, что от дифтерита – не смогла произнести напоследок, перед смертью, то самое имя, его имя, проклятая влюблённая дура!..
Так что имя Лукерья и веснушки, увы, не прибавляли новой прислуге шансов.
– А доча-то ваша, благородие, поутру к соседу ушла, – со степенным спокойствием поведала прислуга, любовно переставляя на столе молочко и вареньице.
– Она же спит!
– То одеялко лежит, и под ним – подушечки, – ухмыляясь, выдала Лукерья, – а доча-то гуляет.
– Так что ж ты молчала, дура!
«Уволю! – злобно подумал Ван Геделе. – Лукерьюшка, почтеннейшая… почтеннейшая дурища!»
Доктор вскочил из-за стола, отбросив на пол с колен салфетку, и, как был, в тапках, в халате, собрался было бежать за дочкой к соседу, кату Аксёлю. Входы у них были отдельные, нужно было бы выйти с крыльца и перебежать по снегу на крыльцо соседнее…
– Папенька, папенька, пойдёмте со мной, поглядите!
Оса встала в дверном проёме, не заходя, и поманила папеньку за собою. В прежнем своём мальчишечьем, с заплетённой по-мальчишечьи косой, с красными щеками и с невинным видом – ну, как всегда.
Яков пальцем погрозил прислуге и пошёл за дочкой в коридор – чтоб не при Лукерье её ругать. Плутовка Лукерья усмехнулась, повела плечами, закатила глаза и, почти не таясь, взяла со стола баранку – всё равно барину дела нет.
– Ты зачем к дядьке Аксёлю бегала? – строгим шёпотом уже в коридоре напустился на Осу доктор. – Он мужчина, одинокий, бог весть что в голове…
– Папенька, я вовсе не бегала, я…
– Лукерья сказала мне, что ты у соседа.
– Да нет же, нет, вот, глядите же, глядите…
Оса тянула его по коридору, туда, где кладовка, и комната слуг, и эта, швабёрная, как назвал её вчера Аксёль, та, где швабры. И комнатка Збышки, и горшок ещё один, то есть ведро, и забитая гвоздями дверь к соседу, но она вчера заколочена была, и Аксёль говорил, что гвоздями забито…
– Что, открыта оказалась? – догадался Яков.
– Да нет же, глядите!
На стене висел бездарный, плешивый ковёр с лебедями, явно каторжанки плели. Пыльный, толстый, тяжёлый. Оса отогнула пылью пахнущий край ковра, поднырнула под него и папеньку утянула за собою. Папенька чихнул и позволил себя увлечь.
За ковром оказалась каморка, совсем крошечная, с двумя стульями и всё, и освещённая единственным окном. И окно это выходило – вот странно! – в комнату, жилую, с диванчиком, столом и картиной.
«Да это ж Аксёлева гостиная! – догадался Ван Геделе. – А окошко наше – зеркало в его комнате, выходит, мы сейчас за зеркалом у него…»
Вчера он на минуту забежал к соседу, и зеркало это, неожиданное, большое, господское, небывалое в бедной катовой гостиной, очень хорошо запомнил. И они с Осой сейчас стояли позади Аксёлева зеркала, в тайной комнатке, впрочем, вряд ли такой уж тайной, вон и Лукерья знает, оттого и смеялась…
Возок за доктором прибыл ровно в одиннадцать и резво по утреннему снежку долетел до крепости. В России, как знал уже доктор, издан был высочайший запрет на стремительную езду, и нарушать сей запрет доставляло возницам небывалое удовольствие – все сани, даже самые зачуханные, носились по улицам стрелой.
Осу забрала с собой художница Ксавье, заехала за ученицей ещё прежде, чем прибыли к доктору из крепости. Сегодня девице Ксавье предстояла работа у князей Волынских, и Ван Геделе был за дочку относительно спокоен. По прежним письмам от обер-гофмаршала он знал и Волынского, вдового князя, и его дочек, красивых и добрых – гофмаршалу Лёвенвольду, видать, частенько нечем было заняться, он много доктору писал, и в двух или трёх словах мгновенно очерчивал абрисы тех, о ком рассказывал, ядовито или нежно. Доктор не знал, чем приглянулись княжны Волынские его корреспонденту, но запомнил их портреты – написанные злючкой гофмаршалом с неожиданной симпатией.
На входе в крепость доктора поймал давешний красавец Мирошечка, взволнованный, аж зеленоватый от нахлынувших чувств – так на смуглой его коже отражалась бледность.
– Ай, доктор, вовремя! – Мирошечка в коридоре подхватил доктора под локоть и, не дав ни опомниться, ни отдышаться, бряцая ружьём, потащил вверх по лестнице. – В пятой-бэ распопа хвораэ…
«Распопа – это расстрига», – понял Ван Геделе.
– Здорово хвораэ? – спросил он, машинально подделавшись под мирошечкин стиль.
И тот ответил, уже ключом отпирая камеру:
– Помираэ…
В камере лежало на нарах шестеро, вернее, пятеро полулёжа играли в карты и, как дверь открылась, кое-как карты попрятали. А один, в сторонке – помирал. Доктор наклонился над ним, ещё не трогая, потому что вши, чесотка, и прочие острожные прелести. Просто смотрел.
Серая, почти чёрная кожа шла разводами, как муар, и была одним цветом с поповской рясой, – распопа остался верен прежнему поповскому гардеробу. И волосы выпавшие, прядями, вокруг головы на рогоже, и запах чеснока, от кожи, от волос, от всего. Яд мышьяк.
– Крыс не травили в последние дни? – спросил доктор Мирошечку, любопытно тянувшего шею из-за его плеча.
– Не-а. Мы не травим, у нас котов – аж восемь. На них паспорты выписаны, как на людей, и жалованье ежемесячно платится, – выдал болтун-гвардеец тюремную тайну.
– Странно. Где ж он тут яда хватанул? Или уже таков прибыл…
– Ван Геделе, выйди! – крикнули от двери. Доктор оглянулся – в проёме стоял Аксёль, головой почти упираясь в притолоку. Он был, как и вчера, в партикулярном, но поверх одежды повязан был кожаный живодёрский фартук. – Выйди-выйди, доктор Ван Геделе, – повторил кат громогласно. – Этот больной, он не тебе. Мирошка, затвори за нами!
Ван Геделе послушно вышел от распопы, к Аксёлю в коридор, и Мирошечка задорно загремел ключами у него за спиной, запирая камеру.
– Это не тебе, – сказал ещё раз кат. – Те, кто в камерах, подлежат осмотру только после мемории от Хрущова. Он должен тебя направить.
– Так помирает…
– Пускай! – разрешил Аксёль, увлекая доктора за собой по коридору, словно ребёнок взрослого, прихватив за карман. – Как помрёт, тогда и позовём тебя, для протокола. Разве ты не знаешь, как тюремный лекарь работает?
Возле двери, обитой железом, стояли два гвардейца, и как всегда – курили, хохотали. Что-то весёлое всегда было у них, видать, наготове. Аксёль толкнул дверь, пропустил доктора:
– Прошу, но на минутку. Не трогай ничего и никого! Это тоже не тебе.
Эта комната была – пытошная, жарко натопленная, пропахшая кровью, рвотой и палёным волосом. В одном углу тлел огонь, бросая на стены живые шевелящиеся тени. Здесь же с потолка свисали две цепи, замаранные кровью, но, слава богу, пустые. В другом углу сидел за столом хорошенький востренький канцелярист и старательно писал, закусив губу. И на лавке перед канцеляристом валялся арестант – он и был, наверное, то самое, что «Ван Геделе, не тебе». Потому что был избит, и с кровью из носа, и с вывихнутым плечом – так бережно придерживал он его другой рукой.
– Половинов, пойдём с нами, – позвал канцеляриста Аксёль. – Доктор прибыл, поп уходит. Пора, мой свет. Дохлятинку в камеру и айда!
– Мы как раз кончили,… – Канцелярист Половинов поднял от писанины туманные глазки. – Только он не подпишет, не может, ты его поломал. Ничего, копиисту пойдёт и так… Идём, мой свет. Ребята, уносите!
Аксёль, доктор и Половинов покинули пытошную прежде, чем ребята принялись уносить.
«И слава богу!..» – в который раз подумал доктор.
Половинов прихватил с собой поднос с пером, чернильницей, песком и бумагой и нёс его бережно, в вытянутых руках.
– А где твои орудия? – спросил он Аксёля. – Или с голыми руками идёшь?
– Воот. – Кат поиграл между пальцев шёлковым шнуром, сделал кошачью колыбельку и тут же распустил её. – Воот.
– Что мы делаем? – спросил недоумевающий Ван Геделе у обоих.
– Казнь, – пояснил для него Аксёль. – Деликатная, без пролития, по секретному распоряжению Синода. Приговор вчера прошёл, казнь на сегодня. У нас все экзекуции проводятся в восемь пополуночи, по регламенту…
– Как и в «Бедности», – припомнил доктор.
– Видишь, знаешь. Но тут лютеранин, а лютеранский поп у нас придворный, он поздно прибывать изволит, соня. Я и за тобою попозже прислал – что попусту сидеть, если поп задержит. Вот мы и на месте. Поп ещё там?
Аксёль спросил это у единственного солдата, стоящего перед дверью камеры.
– Там, – кивнул солдат.
– Болтушка, – нежно сказал про попа Аксёль и повернулся к доктору. – Ты не заходи с нами. Мы кликнем, и – зайдёшь. Это тяжко поначалу, мой свет…
Доктор машинально кивнул. Он слушал два голоса из-за двери, оба воркующие, жалобные, и всё пытался понять, чей из них – чей. Который – пасторский, а который – жертвы.
– Не слушай, – сказал Половинов, – не утруждайся. Пастор потом отчёт нам напишет, и там всё будет.
– А тайна исповеди?
– Пустоэ, – в духе Мирошечки отвечал Аксёль.
Видать, греческая манера «экать» оказалась для всех заразной.
Дверь клацнула, вышел поп. Он был молодой, но уже лысый, с неуместно нарумяненными щёчками. Поп наклонил голову, приветствуя господ у двери, и тут же почти бегом побежал по коридору прочь.
– Создание нежное, гордое, – определил попа Половинов.
– Бироновский поп, – пояснил для доктора Аксёль, как будто это должно было всё про попа рассказать, – дюков исповедник. Мы идём, и мы кликнем тебя, Ван Геделе.
Конечно, они его кликнули. Потом, когда всё было кончено. Доктор потрогал мёртвому шею, с усилием прикрыл его выпученные глаза – как-никак, удавленник. Половинов подошёл со своим канцелярским подносом:
– Подпишись. Вот тут, где галка.
Доктор расписался.
– Всё. – Половинов присыпал песочком густо исписанный лист. – Свободен, мой свет. Можешь домой отправляться.
– А больные?
– Это не тебе, – в который раз повторил Аксёль, целомудренно прикрывая мёртвого рогожей. Видать, Ван Геделе слишком уж на него таращился. – Тюремный доктор не лечит. Ты разве не понял? Вы и зовётесь у нас – Леталь-первый, Леталь-второй… Ты, выходит, будешь Леталь-третий. Нет, если арестуют какую персону, может, тебя призовут и лечить. Но при мне подобного не было. Трупы вскрывали, это да… – Аксёль задумался, вспоминая, мечтательно вздохнул, потом встрепенулся, словно стряхнув с себя ностальгию. – Нет, наши доктора, конечно, не дёргают висельников за ноги, но они и не лечат. Леталь, понимаешь? Ле-таль.
Доктор спустился на улицу. Снег после крепостного полумрака показался ему столь ярок, что заслезились глаза. Дымок, завиваясь, летел от кухонных труб, и дровни проехали, теряя по пути сено. Кошка с аппетитом вылизывалась в снегу, акробатически задрав ногу, и воробьи дрались над конскими яблоками. Солнце играло в сосулях…
– Так хорошо, и ненадолго забываешь, что в аду…
Недавний бироновский поп, уже в бобровой шубке и в пуховой шляпе, тоже стоял на крыльце и пальчиком улавливал брызги, падающие с сосулек. Доктор присмотрелся к нему, прищурясь на ярком свете, и вдруг увидел, что пастор плачет – светлые слёзы бегут и бегут из глаз его, смывая румяна.
– Напьёмся, падре? – предложил ему доктор. – Или вам нельзя?
– Нам нельзя, – согласился поп, но тут же продолжил: – Я в мирское переоденусь, и станет – можно. И мы поедем с вами, тюремный новый доктор, и пить, и даже играть. Потому что иначе я просто вытошню своё сердце.
Оса принялась любопытствовать ещё по дороге, в санках.
– А вы, Аделина, обер-гофмаршала видели?
– Конечно, видела, он ведь мой начальник, – несколько удивилась вопросу девица Ксавье.
– И он в самом деле такой-растакой красавец?
– Красавец, – согласилась художница, – но превредный. Да вы и сами его увидите, и скоро. Непременно.
Оса решила – раз увидит, то и нечего дальше выспрашивать, и начала про другое.
– А что мы будем рисовать – опять птичек?
– Нет, Анна Артемьевна не столь прихотлива, у неё всего лишь цветы на плафоне.
– Цветы я умею, – обрадовалась Оса.
– Вот и попробуете. Если что, я подправлю. А давайте на «ты»?
Оса на радостях кивнула так скоро, что прикусила губу.
В доме Волынских девицу-художницу уже ждали. В комнате, предназначенной для росписи, прислуга укутала тряпками мебель и застелила мешковиной драгоценный наборный паркет. Несмотря на раннее утро – не было ещё и полудня – заказчица, Анна Артемьевна, явилась взглянуть на эскизы.
То был нежданный сюрприз для Осы – не успели они с мадемуазель повязать на талии передники и волосы прикрыть косынками от краски, как в комнату прибежала девчонка, всего-то года на два старше Осы, и Аделина поклонилась ей по-мужски (глупо ведь приседать, когда ты в штанах):
– Доброе утро, Анна Артемьевна! Раненько же вы – я думала, ваша милость ещё в объятиях Морфея.
– Ваша милость ранняя пташка! – рассмеялась девочка.
Она была золотая и белая, как молоко и мёд, с чёрными глазами, высокая, полная, вся перетянутая голубыми лентами, где надо и где не надо. Оса на одном домашнем чепце насчитала одиннадцать бантов.
Аделина раскрыла папку с эскизами, и Анна Артемьевна, совсем как большая, стала перебирать листы, оставляя французские глупые комментарии. На Осу она и не глядела – это было обидно. Оса уселась на стул, принялась болтать ногами.
– А папенька ваш – он тоже пташка ранняя? – осторожно и почтительно спросила хозяйку Аделина.
– Папенька – нон! – опять рассмеялась Анна Артемьевна. – Он-то почивает, и до трёх пополудни. Вчера охота была. Но дворецкий рассчитает вас, не беспокойтесь. А отчего ваш мальчик так на меня глядит – как волчонок?
– Этот мальчик – девочка, Анна Артемьевна… – начала было Аделина.
Но тут в комнату заглянула ещё одна девочка, почти такая же, как Анна Артемьевна, в таких же лентах, но разве что постарше:
– Нюточка, кататься!
– Ах, Машечка, да!
Юная хозяйка мгновенно потеряла интерес к росписи, бросила этюды в руки Аделине и убежала.
– Сколько им лет? – мрачно спросила Оса.
– Княжнам? Четырнадцать и двенадцать. Они сами выбирали рисунок на плафон, но заплатит нам дворецкий, – пояснила художница. – Ты сразу его узнаешь, такой раскосый щёголь. Вот при нём только – так не дуйся. Ты так смешно ревнуешь – совсем как его светлость Карл Эрнест…
Оса не ревновала, она толком не смогла бы объяснить, что чувствует. Вот есть девчонки, но живут, как большие – едут кататься, выбирают рисунок на плафон, повелевают художницами, а папенька платит. А есть те, кто ну никак, никак… Максимум достижений – право носить мужские штаны.
Аделина забралась по лесенке под самый потолок, и Оса изнизу опять ей подавала – краски, кисти и тряпку. Благородное сфумато ведь делается именно тряпкой. Потом они поменялись местами, и Осе дозволено было изобразить единственную розу. Оса пыхтела, вся обляпалась краской, но роза вышла хороша, разве что чуть грубовата.
– Я растушую, – пообещала Аделина, – а ты поймай лакея и попроси принести нам воды, мы всю истратили.
С пустым ведёрком Оса вышла из комнаты, огляделась в коридоре – увы. Когда они прибыли, слуги так и вились вокруг, а сейчас, как назло, не было ни одного. Дом стоял, как будто пустой и сонный, весь просвеченный, пронзённый солнечными лучами – переливался шёлк обоев, играл фарфор, масляно блестели тяжеленные рамы вокруг сумрачных фамильных парсун, ещё, наверное, времён царя Василия Шуйского.
«Сама возьму, – подумала Оса, – на кухне».
Она пошла по коридору, поигрывая пустым ведром, под неодобрительными взглядами лупоглазых портретных Гедеминовичей – к лестнице. И – нечаянная радость – за портьерой разглядела слугу, коренастого мальчишку в ливрее, отчего-то присевшего на корточки.
– Эй, любезный! – Оса зашла за портьеру и встала над ним, по-прежнему играя ведёрком.
– Цыц! – слуга резко притянул её за передник, усадил возле себя и повторил своё непонятное. – Цыц! Не замай…
Оса не настолько знала по-русски, чтобы понимать эти его «цыц» и «не замай». Она присела, заворожённая, рядом за портьеру, пристроила у ног ведёрко. Приключение… У мальчишки обнаружились на лице усы, бодро закрученные кверху.
«Карла!» – радостно подумала Оса.
Карлы, как и пони, ей безотчётно нравились, вредные, злые, но такие миленькие.
Она хотела спросить – чего ждём-то? – как в коридоре послышались шаги, и двое мужчин прошли мимо портьеры в комнату – Оса видела изнизу их туфли, шёлковые гладкие чулки и перевёрнутые бутоны расшитых кафтанов. Кавалеры расселись в кресла, и тотчас с козьим цокотом прискакал дворецкий на каблучках и на таких изящных кривоватых ножках, с какой-то звонкой тележкой. Оса по тележке и догадалась, что это дворецкий.
– А… – спросила она было, и карла ладошкой закрыл ей рот.
– Т-с-с! Конфиданс…
– Как усердно ни служи, есть потолок, которого головой не прошибёшь, – сердито проговорил один из сидящих в креслах. – Можно сколь угодно нежно и длительно вылизывать светлейший афедрон, и всё равно проживать беспросветно в деревянном жалком домишке. А можно всего лишь уродиться братом светлости и, по слухам, даже не родным, а сводным, как наш генерал Густав, – и дом у вас уже имеется каменный, с великолепными чёрными колоннами…
Оса привстала, чтобы увидеть говорящего целиком. Он был похож на портреты Августа Сильного – ямка на подбородке и очень много бровей. Или ещё – таким мог бы быть повзрослевший и пополневший бог Ганимед с одной варшавской картины. Этот господин говорил несомненные гадости, но улыбался, их произнося, и ямки играли на его щеках, и весь он мерцал и играл, словно поющая сирена, и поневоле чудилось, что говорит он всё-таки хорошее.
– Как архитектор я утешу тебя, – отвечал ему собеседник, он сидел, закинув ногу на ногу, к портьере спиной, и Оса видела лишь, как покачивается в воздухе туфля, – Чёрные колонны генерала Густава – образец безвкусного уродства. А дерево или камень – так материал не показатель роскоши, брат Волынский. Анненхоф и здешний Летний деревянные, а оба они несомненно хороши. И у тебя язык не повернётся обругать лёвольдовский дом, что на Мойке – а он ведь тоже деревянный. Но – стиль, стиль!.. И дьявол Растрелли…
Оса подумала, что приключение приключением, а вот сейчас Аделина соскучится и пойдёт её искать – и найдёт, за шторой со шпионом. И будет ой как стыдно!..
По счастью, дворецкий процокотал по коридору – туда, оттуда – и возгласил:
– Сани поданы, ваша милость! Прошу!
Господа поднялись из кресел, и тот, завистливый, сказал:
– Поедем, поглядим на ледяную игрушку, брат Еропкин. Оценишь, много ли наврали в сравнении с твоим чертежом. Вчера Крафт отчитался по фигурам, сегодня твой черёд. Базилька, подавай шубы!
Все трое ушли – два больших впереди, дворецкий следом, как собачка. Оса встала с корточек и повернулась к карле:
– Будь добр, набери для нас воды. Для нас – это для художниц.
Карла тоже поднялся, подкрутил весёлые усики и покладисто принял ведёрко.
– Как скажешь, милая. Подам воду к вам, в художничью. Со всем моим почтением.
Может, и напрасно Оса считала карликов вредными и злыми…
– Про то, что видала – молчи, или голову оторву! – прошипел быстро карла, оскалил напоследок острые жёлтые зубки и с ведром убежал.
Нет, не напрасно Оса так считала – всё-таки вредные они и злые.
Правда, воду он принёс, очень скоро, втащил ведро за дверь и поставил с почтительным поклоном.
Чувствительный бироновский пастор – фамилия его была Фриц – сперва, в карете, всё жаловался доктору.
– Я почти каждый вечер выслушиваю исповеди моих высочайших греховодников, – говорил он, стирая платком отчаянные слёзы, – а на другой день приходится наблюдать, уже в крепости, плоды высочайших злодеяний. Исповедовать уже тех, кого обрёк мой патрон, протягивать крест для последнего поцелуя.
– Не всех, – поправил педантичный доктор, – только лютеран. То есть от жертв примерно половину. Если не меньше.
– Ах, да! Но это всё равно такое бремя, такое бремя!.. И я обречён влачить и влачить…
То есть Фриц вовсе не жалел герцогских жертв, но весьма настаивал, чтобы пожалели его самого. Доктор, когда это понял, утратил к пастору-плаксе всё наметившееся было сочувствие.
Впрочем, они заехали в пасторский дом, уютный и нарядный, пастор мгновенно переоделся в мирское и с этой переменой как будто и утратил всю свою печаль. Словно лососинный кафтан и лиловые панталоны чудесным образом прибавили падре оптимизма. И в игорный притон он входил, уже пританцовывая на балетных мысках, мерцая улыбкой из-под чёрной полумаски – амур, зефир. Так яблоко перекатывается в ладони, прежде чем от него откусят…