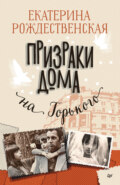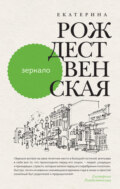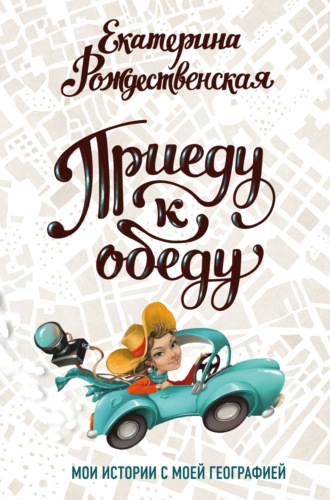
Екатерина Рождественская
Приеду к обеду. Мои истории с моей географией
Ариса как таковая поначалу являлась жертвоприношением древним богам: пшеница олицетворяла собой плодородие, а мясо – удачную охоту, ведь люди вечно мечтали и о том, и о другом. Блюдо это готовили по большим праздникам, варили всю ночь и утром подавали на стол. Считается, что эта пшеничная каша с добавлением курицы и топленого масла – спасительница, которая помогала армянам переживать голодные времена. Но если просто сварить курицу, бросив в бульон недробленую пшеницу, то арисой это не станет, для нее нужно терпение и сноровка. Надо, чтобы курица или мясо хорошенько разварились вместе с кашей, перемешались, друг с другом сжились и стали одним целым. Поэтому, если надумаете варить арису, проследите, чтобы, во-первых, воды в кастрюле было достаточно, чтоб она не просто прикрывала мясо с пшенкой, а пальца на четыре была выше. Во-вторых, не забудьте, как вскипит, снять пену. В-третьих, оставьте теперь вашу будущую арису одну на самом новорожденном огне, не лезьте к ней, не трогайте, не мешайте, уйдите. Можно навещать, не поднимая крышки. А потом часа через три-четыре томления начните тихонько с улыбкой помешивать, вынимая куриные или мясные косточки. Хорошенько так перемешивайте, словно взбивая, теперь добавьте, наконец, соль и сливочное масло. Кашу маслом не испортишь, это практически про арису.
Вес курицы или мяса должен быть вдвое больше пшена – на одну тушку курицы в 1–1,2 кг берут 500–600 грамм пшена. А сколько соли и масла, решите сами.
Но для меня, лично для меня, самая главная кулинарно-гурманная заслуга Армении совсем не в том, что мне открылось великое множество прекрасных блюд, приготовленных в тонире или на мангале, которые я, безусловно, высоко оценила! Да, я попробовала десяток разнообразных шашлыков и знаю теперь о хороваце всё, ну почти всё! Но и не это самое для меня ценное. Конечно, я восхищалась изящными севанскими раками и нежнейшей долмой, я упивалась любимейшим пятизвездочным «Араратом» или гранатовым вином (но не до такой степени, что наутро мне нужен был хаш, конечно). Дело совсем в другом – именно в Ереване я научилась есть кинзу и вообще зелень! До этого момента всю эту зелень, а особенно петрушку, я ненавидела – жесткая, стебли толстенные, как у сорняков, и, главное, вкус, резкий, отбивающий все остальные ароматы, такой прямолинейный и не терпящий возражений. Помню, что всегда просила бабушку никуда эту петрушку не класть, ни в бульон, ни в котлеты, ни в салаты. Под шумок я не ела и кинзу, хотя к ней относилась терпимее, толерантнее, как сейчас принято говорить и вставлять это слово по любому поводу, но любить – не любила. А армянскую вдруг полюбила! С маленькими листочками, нежная, невинная, с выпуклым наивным основанием стебелька, она вдруг показалась мне совершенно с другой, неожиданной для меня стороны – и как компаньон к помидорке, и как партнер к салатному листу, и как прекрасное дополнение к сыру, и как абсолютно самостоятельная единица.
И так буднично все тогда произошло – спустилась на завтрак в гостинице в тот самый свой первый приезд в Ереван, и на большом блюде совершенно невзначай подали зелень. Ее никто и не заказывал, просто, видимо, так полагалось. Я машинально в лаваш с сыром положила пару веточек. Для красоты, так сказать, исключительно для эстетического восприятия. Захотелось зелёного цвета.
И представляете, я запомнила этот день и этот ресторан именно потому, что в мою жизнь добавилась новая вкусовая нота!
С тех пор кинзы всегда покупаю много и готовлю впрок. Как открываю холодильник, на меня обязательно смотрит ярко-зелёная веселенькая баночка с протертой кинзой! А если заканчивается, готовлю новую. Даже не знаю, как назвать то, что я делаю, назовите сами! Похоже на песто, только из кинзы. Все очень просто: складываю в блендер кинзу, чеснок, соли побольше, это ж будет концентрат, грецкие орехи, немного оливкового масла и нажимаю кнопочку «пуск». Когда был хороший пармезан, добавляла и его. Если кто любит поострее, можно туда же размолоть и зелёный острый перец. На самом деле, ингредиенты зависят от сезона и фантазии. Почему бы, например, не крутануть с кинзой фейхоа? Манго? Или вместо грецких орехов кедровые? Подходит такая паста для всего – на хлеб, в творог, с макаронами, в пирог, смазать мясо или курицу перед жаркой, да и в суп ложку-другую самое оно.

А можно с теми же составляющими сделать и масло. Возьмите хорошее сливочное масло, подержите при комнатной температуре и вмешайте туда всю эту зелёную красоту. Потом в форму и снова в холодильник. Потом из холодильника, да на горячий армянский лаваш! Восторг!
Дивногорье
Россия для меня – понятие абсолютно живое и совсем даже не географическое, а духовное, очень личное и незыблемое. Можно по-разному относиться к правительствам и вождям, к строю и личностям, но сама Россия всегда стоит выше этого. Иногда ей больно от того, что она переживает, иногда (хотелось бы почаще) она гордится тем, что происходит.
Пускай всё это звучит пафосно, но такой мощи, величия, душевности, красоты и терпения не встретишь нигде! А какие люди! Это можно только понять, хорошенько поездив по стране, сидя в Москве, я вообще никогда об этом и не задумывалась. Я и путешествую по своей стране, и достаточно много. Дышу, радуюсь, накапливаю впечатления, удивляюсь, записываю, делюсь с вами.
Много езжу по монастырям, ведь с них, бывало, и начинались когда-то города. Разрастались вокруг монастырских стен, укреплялись, зацветали. До сих пор остались еще такие места, где древние стены охраняют прошлое, где так же, как и встарь, спокойно, несуетно идут дни, и после городской жизни в такую благодатную тишину очень тянет. Всё историей дышит. Нравится мне туда приходить. Хожу по тропинкам, слушаю перезвон, смотрю на бушующие цветы. Воздух особенный. Поэтому и пишу много о монастырях, о тех, которые запомнились и без которых Россия – не совсем и Россия, или совсем не Россия.
Приехали утренним поездом в Воронеж, и сразу машиной в Дивногорье, на меловые разломы. Часа два ехать до этой красоты. Природа несусветная – на горе стоят меловые дивы, внизу Дон течет, травы ковром, пахучие и разноцветные, запах давленой земляники на разогретой солнцем сосновой хвое, чуть со смольцой, бабочки оранжевые по воздуху шастают, остатки ковыля доцветают и легкомысленно волнуются на ветру. Растения неизвестные, драть нельзя, конечно же, только нюхать, половина Красной книги здесь, под ногами – степные растения России. Церковь в скале, в вышине, до нее идти и идти, вся меловая, белая, на семи ветрах.

Столько красоты вокруг, так хочется уберечь ее, поддержать, не дать сгинуть и раствориться в стройках, коттеджных поселках и необдуманных решениях… Как противостоять напору денег и бизнеса – не представляю…
Решила приобщиться немного к монастырской жизни, ну и ушла на один день в женский монастырь. Мне всегда все интересно, в том числе и пообщаться с монахинями, послушать их, что сподвигло взять на себя такой огромный труд – отмаливать грехи других, как они живут, как содержат хозяйство, видятся ли с родными. Посидеть с ними в трапезной, поесть настоящей монастырской пищи, переночевать в келье. Должна сказать, все ожидания оправдались сторицей! Удивительное погружение!
Монастырь в Воронежской области, куда мы приехали, называется Спасский женский монастырь Костомарово. Стоит в горной меловой расщелине, в природном заповеднике, в уникальном месте. Встретила нас матушка Сергия, объявила, что сегодня у нее послушание – встречать гостей. Повела с порога прямиком в трапезную – вкушать. По дороге от ворот к храму я по простоте душевной стала здороваться с монахинями, но безответно, только кивок головой и глаза в пол. Не положено отвечать.
Пока шли по длинной аллее в трапезную, заметила, что на территории монастыря все деревья очень странные – у них за ветками почти не видно ствола, и все ветки начинают расти прямо от самой земли, будь то береза, ёлка, рябина или вишня. То ли почва какая-то меловая, чем-то таким особым богатая так, что прет из нее зелень, то ли само место необычное, то ли еще что. У трапезной – розы небывалой красы и пышности и коты без счета. Трапезная внушительная, два длинных стола – для сестер и гостей, и один маленький, под иконами, для игуменьи. Стол для нас, гостей, уже накрыт – огурчики из своей теплицы, хлеб свежайший, только что из печи, молоко, сыр, сметана, йогурт, творог и масло из-под своей монастырской коровы, ну и яишенки-глазки. Потом сестра поднесла щавелевые щи и восхитительную тушеную картошку, похожую я последний раз ела только в детском саду. Вкус у продуктов забытый, не московский, а удивительно-ностальгический. Батюшка, который службу вел, тоже подошел потрапезничать, сел поодаль. «Как у вас там в Москве, суетно, а? – спрашивает. – Покоя там не осталось, покоя…» – и покачал головой. Я только и кивнула – как тут не согласиться…
Чуть позже на трапезу сама игуменья монастыря подошла, познакомиться, видимо. Среднего возраста, мягкая, спокойная, с тихим, но уверенным голосом. Я, конечно, полезла с вопросами своими пытливыми – приезжают ли, например, родственники? Да, говорит, конечно, у нас дом для паломников есть, вот туда и приезжают. А бывало, и мать с дочерью обе в монастырь уходят. А если старенькая монахиня заболевает совсем, подняться уже не может, ее отдают в дом престарелых? Что вы, говорит игуменья, ходим за ней до последнего, жизнь продлеваем как можем. А мужчины к вам приезжают? Конечно, и паломники, и работники, а как же! Но с улицы стараемся незнакомцев на работу не брать, только по чьему-то слову. А расстриги бывают? Уходят, всяко бывает, но это уже падший ангел, душа так и останется до самого конца дней неспокойной.
Посидели, поговорили обо всем, словно давно и хорошо знакомы, ответы на многие вопросы нашла, душа иногда такого требует… Потом ужин начался, сестры подошли. Их стол отдельно, пришлые за другим сидят. За столом каждая смотрит скромно перед собой, только к себе в тарелку, не по сторонам, у других ничего не просит и своим не делится, не принято это, зачем вводить соседку во грех чревообъедения. Поспрашивала поподробней про правила трапезы, интересно мне. Знала, конечно, но очень приблизительно и захотелось уточнений. Ведь монастырская еда считается у нас важной ветвью русской кулинарии и вобрала она все лучшее, народное, что пошло от исторической русской кухни. Именно в монастырях сохранились народные традиции и кулинарные привычки, именно в таких вот трапезных можно встретить совершенно забытые блюда. Когда вы, например, последний раз ели тюрю? А ботвинью? А кулебяку, тельное, да пироги-рыбники? А слышали хоть? Вот, то-то и оно.
Появились уже и устоявшиеся понятия – монастырский мед, рыба по-монастырски, монастырский квас, монастырский хлеб. Об этом обо всем и рассказали – как было принято питаться раньше, какие существуют правила сейчас, про современные и старинные монастырские рецепты.
Монастырская трапеза – это обязательно коллективный ритуал. Еда два раза в день – обед и ужин, в какие-то дни – всего один раз, а случается, что и вообще день проводят без еды, на воде, когда особо строгий пост. Жизнь в монастыре, в том числе и еда, всегда связана с молитвой, поэтому чередование постов и скоромных дней происходит вполне ритмично: на неделе постятся в среду и пятницу, всего в году четыре долгих поста и три однодневных, то есть около двухсот дней за год, и пища в связи с этим делится на постную и скоромную. Я-то по дурости и незнанию считала, что скоромная – от слова «скромная», необильная, малокалорийная, то есть, совсем скудная, ан-нет, наоборот. Произошло оно от старославянского «скармъ», означающее масло, жир. То есть скоромная еда включает в себя мясо теплокровных животных, яйца и молочные продукты. Но мясо как таковое монахи совсем не едят, коров держат молочных пород и можно сказать, что главное отличие монастырского стола от мирского состоит в том, что в монастырском меню нет мяса.
Обычная монастырская еда очень простая, но безумно вкусная, поскольку продукты все натуральные и, как правило, со своего огорода или стада. Даже мука может быть с монастырских полей, а не покупная, а уж про овощи, фрукты и мед говорить нечего, почти самообеспечение. С рыбой по-разному, у кого-то покупная, у кого-то свои пруды. В монастырских подвалах всегда полно запасов разнообразного кваса (свекольного, медового, фруктового, ягодного, из мяты), солений, маринадов, своих консервов, ну и всякого такого, долгоиграющего.
В будничном меню со стародавних времен, да и по нынешние, на первое в монастыре обычно ели всевозможные «шти» (щи) – свежие, из рассады, с картошкой, с репой, с перловкой, из квашеной капусты, с грибами, щи «с подтиркою» (с приправой, которая готовилась из муки с водой или с постным маслом), борщики или уху, если в этот день дозволялось, рассольник, овощной, грибной или молочный суп. Я-то в тот раз борщок ела холодный прекрасного свежего вкуса, выспросила, как готовится, рассказали.
Свеклу отварить в одежке, очистить, натереть на крупной терке, залить кипятком, бросить туда кусочек черного хлеба, чтоб началось легкое брожение и оставить в прохладном месте на сутки. На следующий день процедить и поработать над вкусом, довести борщок до ума: посолить, посахарить, добавить уксус, ну всё, что полагается, потом пошинковать туда чищеное яблочко, огурец, редиску, зеленый лук с укропом и всё, готово! Можно иичко еще по праздникам.
Список вторых блюд всегда богатый, но основу чаще всего составляет простая белая рыба – треска, пикша, мойва, навага, палтус – вареная, жареная, живопросольная, тушеная, припускная, чиненая (с начинкой) грибами, ягодами, кашей, овощами. На гарниры горох, капуста, лапша, толокно, яичница, каша. Яичница на монастырском столе всегда, и как отдельное блюдо, и как гарнир, самый доступный источник белка. Еще творог с разной кисломолочкой. Хлеб свой, естественно, но и пироги с пирожками, как их раньше называли, праздничный хлеб, часто на столе, пряженые (жаренные) в масле, с разной начинкой. Фантазия в приготовлении вторых блюд у монастырских поваров очень богатая, ведь надо приготовить сытную и вкусную еду, обойдясь без мяса. Поэтому и делают блюда с зачастую нам уже непривычным, но неожиданно вкусным сочетанием продуктов. Например, гречка с горохом и луком, так называемая тихвинская каша, которую очень уважала Екатерина II. Но а почему бы и нам не попробовать? Я и решила ее приготовить. Получилось вполне мило и необычно, какой-то новый, наконец, вкус в нашей будничной еде.
Горох надо замочить на ночь, с утра в этой же воде и отварить. Лук мелко порезать, поджарить до красивого цвета и добавить вместе с гречкой к гороху. Потом посолить и поставить тушить-варить на маленький огонь. Получается сытно и интересно, правда. Видимо, после такой насыщенной еды монахам долго не хотелось есть.
Еще один необычный монастырский и очень полезный рецепт, который пригодится каждой хозяйке – паста на хлеб из пророщенной зеленой гречки. Для проращивания надо залить зеленую гречку водой (обычная темная обжаренная не подойдет) и оставить на день-другой. Когда крупа разбухнет, размельчить ее в блендере с чесноком, приправами и водой, добавив немного хлеба. Консистенцию – погуще или пожиже, регулируйте сами. Не знаю уж, догадается кто-то из домашних, из чего эта паста или нет, но добавку попросит точно, да и здоровья прибавит.
Во время постов едят намного меньше по объему, да и калорийность блюд значительно снижается, одни продукты заменяются другими. Вместо кваса, скажем, пьют воду, вместо картофельного пюре мнут вареную цветную капусту, макароны заменяют тонко-тонко нарезанной тыквой или кабачками, привычный хлеб – овсяным или солодяным. На десерт – чай, компот или кисель, пирожки, печенье. Воскресное меню состоит из рыбного борща, жареной рыбы с гарниром из картофельного пюре или риса с овощами, свежих овощей, рыбной нарезки и разных продуктов с монастырского подворья – сыра, сметаны и молока.
Ну а после трапезы и подробного рассказа провели нас по пещерным храмам, игуменья попросила все показать. Храмы выбиты в меловых горах, небольшие, уютные, внутри так холодно, что пар изо рта валит. В одном из них ласточки поселились, и когда монахини поют высокими ангельскими голосами откуда-то сверху, словно и нет никого телесного, один прекрасный божественный звук и только ласточки кругами летают под куполом, – удивительное ощущение, до мурашек. И усилило это ощущение благодати еще и то, что мы в Троицу были – траву с пола, дерева с листочками пока что не убрали, входишь в церковку, как в студеную рощицу, запах сена и трав, лампадки горят, сердце замирает! Место намоленное, душу тревожащее и переворачивающее. Да и дух там правильный, это сразу чувствуется. Случаются вот такие моменты, когда все совпадает – и мысли твои, и место необыкновенное, и время особенное, – именно сейчас и ни минутой позже – и происходит какое-то чудесное очищение. Это не пафос, пафос я не люблю. Это то, о чем и не напишешь, и никак не расскажешь, и не передашь. Вошла – и полились сами собой слезы – вот как это происходит? Почему здесь? Почему сейчас? Почему потом с трудом остановилась? Что это такое было?
А вечером на закате полезла на соседние горы, чтобы порадоваться волшебному виду на монастырь. Покой, солнце на исходе, оранжевое и не такое резкое, шорох травы, крики вечерних птиц, а запах такой, что будит внутри все остатки настоящести, неиспорченности и тихого счастья, о котором хочется кричать… Но не буду.

Тбилиси и Батуми
Прилетела в Тбилиси! В первый раз! Позор, конечно, что до сих пор не была. Из аэропорта нас вез человек-футляр, крупный такой дядя с сильно волосатой шеей и еле помещавшийся в кресле, вполне молчаливый, но активно мрачный. Везет и везет себе, но все время как-то суетится. Креслом поскрипывает, задом шустрит, все время в движении местного значения. Оказалось, что у него все в салоне аккуратно припрятано, педантично рассовано по своим местам, на виду ничего нет. Видимо, не нравится ему беспорядок: очки в бардачке на потолке, и он каждые несколько минут нажимает на кнопочку и достает их, чтобы посмотреть навигатор. А навигатор-то в чехле! Дядя снимает чехол, водружает телефон на держатель, надевает очки, строго глядит на пробку, потом снимает очки, кладет их в нишу над головой, закрывает, потом берет телефон, закрывает чехлом, убирает в бардачок, но в последний момент забывает посмотреть что-то важное и достает его снова, даже не успев закрыть бардачок. И всё по новой – крыша, кнопка, очки, телефон, чехол…
Потом к этому захватывающему ритуалу присоединились еще и ручки с карандашами, которые он доставал из приделанного к приборной доске стаканчика и складывал на сиденье рядом по старшинству. Но их же нельзя было там оставить навсегда! Надо было, видимо, пересчитав, положить обратно! Что он и сделал. А еще всю дорогу он то открывал нам окна, то закрывал, по своему усмотрению…
Интересно с ним было ехать, необычно. Но хоть довез без потерь, и я ему очень благодарна! Так смешно и странно началась Грузия.
А куда обычно в Грузии везут с самолета? Правильно – сразу к столу, а как иначе? Сели, выдохнули, расслабились, выпили по рюмочке и вдруг за соседним столиком началось совсем незапланированное застольное пение, какие-то женщины запели. Кровь моментально всколыхнулась, на месте не усидеть, я и пошла в самую гущу слушать. Петь, думаю, умеют все грузины, это в крови. И поют они, словно говорят, ненатужно, спокойно, и голос идет откуда-то из нутра, из прошлого, хотя поют при тебе – вот они, эти женщины, совсем рядом. И ты стоишь в этом звуке и ощущаешь его, он абсолютно осязаем, и ты понимаешь, что так бывает.
А потом, уже почти ночью, нас повели в театр. Не на спектакль, нет, после того как все закончилось и театр опустел. Я впервые в жизни пришла в театр в это сонное время. А я так люблю все делать впервые. И это был один из тех удивительных разов. Театр имени Шота Руставели в Тбилиси.
Закулисье как зазеркалье, вступаешь в темноту – и уже в другом мире. Сначала запах. Необъяснимый, могучий, объемный, пыльный, какой-то знакомый, но подсознательно, не явно. Потом кто-то включил свет, не весь, а робкий и намекающий, не высвечивающий все углы и закоулки, а осторожно обозначающий путь. И вдруг видишь старое зеркало с поплывшей амальгамой, размазывающее силуэты и отдаленно отображающее реальность. И конь, вернее, его остов, из какого-то древнего, уже давно окончившегося и забытого спектакля, все равно стоит и гордо ждет у выхода на сцену, а вдруг понадобится именно сейчас?
И сама сцена, на которую я ступила, – как отдельное государство, в котором проживается столько придуманных и настоящих жизней, где бушуют самые мощные страсти, где столько раз умирают, чтобы потом встать и поклониться, где столько раз любят, чтобы потом взять и возненавидеть.
Ну что ж, всё, как в жизни. Удивительные спектакли, великие актеры, всемирно известные режиссеры, это даже не обсуждается. Познакомилась с ангелом-хранителем театра, маленькой изящной женщиной, похожей на Эдит Пиаф, на ее породу, вы понимаете. Она живет в театре, иногда в прямом смысле, у нее диван в реквизиторской и вешалка с платьями: это – на премьеру, на всякий случай, маленькое черное, если домой не успеет, это – простое и тоже маленькое черное, на каждый день. И реквизит – каски, зонты, черепа, маски и скромные, чуть запыленные крылья ангела на резинках в углу. И она сама среди всего этого…
Именно она и познакомила нас с ночным театром в день нашего приезда, привела на сцену, постойте минутку здесь, сказала, и ах – включила свет… Призраки гамлетов и отелло прошелестели в колосниках и исчезли.
А совсем поздно, показав нам весь театр с самого верхнего этажа, повела в нижнее фойе, почти под землю, где в начале прошлого века гудело кафе, а стены, как это было принято в Париже, расписывали великие художники. Фрески сохранились, хоть в 1949 году было землетрясение, и театр сильно пострадал. Женщины с русалочьими глазами Ладо Гудиашвили, смешные лягушки Судейкина, еще Зига и Какабадзе… Ходишь, удивляешься, радуешься, что увидела все это, что осталось.
Как, оказывается, здорово иногда еще удивляться!
#######
Пока кровь наадреналинена, срочно пишу. Тот случай, когда необходимо поделиться, но плохо со словами, они забыты, забиты эмоциями, всё, я пропала…
Пригласили на репетицию народного грузинского ансамбля имени Сухишвили-Рамишвили. Ребята в трениках, разные, совсем не на подбор, похудее-потолще, пониже-повыше, полысее-поволосатее, но почти все удивительно голубоглазые, ждут сигнала. Просто ребята, просто стоят в сторонке, просто ждут, ничего особенного.
И вдруг – эхххххх!.. и они превращаются в единый организм, живой, живучий, потрясающе слаженный, мускулистый, залихвастский, глаза навыкате, все 276 или сколько там зубов у каждого, напоказ, аж страшно! И все с таким природным достоинством и статью, с такой породой и благородством! Другой, непривычно бурлящий и выплескивающийся темперамент воспринимается совершенно инопланетно, и ты вдруг понимаешь, какая же медленная и снулая у тебя ленивая северная кровь, которая так скучает и так отзывается на такое «эххх!!!»
Рядом с нами, на скамейке у зеркала, репетиторы, из прошлого века, основной костяк, легенды. Одна красавица, в джинсиках, с шикарной миниатюрной фигуркой, длинными белыми локонами и совершенно без возраста, стала мне нашептывать, чуть растягивая гласные:
– Какие у нас мальчики, а? Красавцы! Но вон тот поднабрал… Я знаете чтооо, – тут это надо все читать с шикарным грузинским акцентом, – обычно подхожу, беру за жопуу, – и она по-дружески положила руку мне на попу, – щипаааю болно и говорю, это что такооое, ты пригаеш, а потом ждешь, когда за тобой твоя жопа прилетииит? Это как не стыдно? Вах! Срочно на диету!
Мне стало вдруг так обидно за того милого мальчика, вполне худенького, на мой вкус, и так стыдно за мою нетанцевальную жопу, явно не подходящую под эти бешеные танцы, даже под эти разговоры, что я срочно перевела тему в другое русло:
– А какие у вас костюмы? – спросила о том, что интересовало.
– Пойдемте, покажу, это наша гордость! – красотка вспорхнула, и мы пошли из зала.
– Манана, принимай! – Манана, костюмер, расплылась в улыбке и распростерла руки, не то защищая все висящие у нее за спиной костюмы, не то мечтая нас обнять.
– У меня тут не совсем костюмерная, а почти музей! Вот этим костюмам по 70 лет, этот помоложе, 55, эти вот совсем новенькие, 7 лет назад сшитые. Это наша гордость! 16 лет с ними работаю, – она говорила о костюмах, как об артистах! – А когда новый танец учим, вы не представляете, что тут у меня делается! Одна Манана, я то есть, на 200 человек!

С прекрасной Нани Брегвадзе
В общем, этот яркий час репетиции сделал мой день! Я поняла, что, во-первых, я вампир – напиталась допьяна и досыта видом дерзких молодых танцующих парней, и, во-вторых, хочу эмоционально хотя бы иногда превращаться в грузинку!
#######
Весь день гуляла по Тбилиси. Погода чудесная, лето, приближенное к бабьему, дышится легко. Просто по туристическому центру гулять не люблю – захожу во дворы-подворотни, лезу на крыши-чердаки, спускаюсь в подвалы в поисках настоящести и красоты. Так везде. Обожаю старые подъезды, пусть чуть трухлявенькие и замызганные людьми и временем, но живые и говорящие, пахнущие бывшим жареным луком и котиками, а на самом деле, жизнью. Какие прекрасности я нашла тут, в Тбилиси! Шедевры! И сразу у меня появилось хобби – фотографировать старые подъезды. Вот один, например. Раньше здесь была модная и роскошная гостиница «Лондон», где останавливались Чайковский и Кнут Гамсун, когда приезжали в город. Чего в этом доме только не было! Во время Первой мировой в нем разместили больницу, через 10 лет Дом крестьянина, потом милицию, а в 60-х отдали гражданам под жилье. Много слышала об этом доме, захотелось побывать.
Такие путешествия из настоящего в прошлое очень редки и сегодня почти не случаются. На этот раз случилось. Вот дверь, не самая красивая, скорее, обычная, но всего лишь шаг – и за ней уже другое измерение. И слышатся какие-то шелестяще-шуршащие шорохи, подобие чуть различимых вздохов, дымок, неизвестно откуда взявшийся в луче света, запахи прошлого, чуть пыльного, с еле уловимым ароматом выцветших духов и лежалого табака, да и лампочка в паутине мигает нехотя…
С этими ощущениями ты проваливаешься в начало ХХ века, скажем, словно попадаешь в часы, стрелка которых движется назад… Сердце как-то бешено колотится, то ли тахикардия, то ли излишняя впечатлительность, не знаю, но ощущение яркое, с мурашками. Казалось бы, заходишь в подъезд, просто тыкаешь дверь и заходишь, а почему же тогда каждый такой «заход» превращался для меня в захватывающее и очень осязаемое путешествие? Пошла по улице дальше, рассматривала дома, выбирая те, что по нраву, и храбро толкала двери подъездов. Какие-то были заперты, какие-то были распахнуты настежь, какие-то скромно прикрыты. Но вот еще одна тяжелая дверь поддалась, и я вошла в еще один мир…
Подъезд расписной, невероятной красоты. Его реставрируют какие-то девчонки. Освещение сильное, на каждом этаже стоят прожектора, чтобы художницам было хорошо видно. Около панно высятся стремянки, оседланные девочками-реставраторшами, у них-то я все и узнала.
О хозяевах этого дома известно мало: два брата, купцы-табачники, помимо своего бизнеса владели десятком доходных домов по всему Тбилиси, но жили именно в этом красавце – один на третьем с семьей, другой на втором. Дом и прозвали в городе «домом-табакеркой» – маленькая расписная драгоценность, принадлежащая табачным королям. Строили его долго, с 1905 по 1911, эта дата выложена на пороге у входа. В момент, когда мы зашли в подъезд, как раз делали последние штрихи, заканчивая реставрировать фрески, и я с интересом их рассмотрела. Вам сильно повезло, сказала одна из художниц, подъезд всегда закрыт, но сейчас должны подвезти краску, ждем вот. А вы уж посмотрите пока, только ничего не трогайте, краска еще не высохла.
Картины довольно странные: там и индейцы вокруг костра, и мужчины в высоких цилиндрах, и церквушки среди полей, и мечети на фоне гор, и павлины, звери, люди, эдакое учебное пособие по географии, наверное, – краткое и очень своеобразное представление о земле в рамках одного подъезда.
Представляю, какими были сами квартиры, если подъезд такой восхитительный…

С драматургом и режиссером Резо Габриадзе
Дом жил своей жизнью, страдал, горел, тушился водой, заливающей роскошные фрески, и даже обворовывался – в 90-е сняли с петель и утащили роскошную резную входную дверь, а вы ж понимаете, дом без двери долго не простоит, исчезли плафоны, резные деревянные детали… Уносили тогда все, что плохо лежало. Но позже дверь каким-то чудом отыскали, восстановили и водрузили на место.
Сейчас подъезд уже полностью отреставрирован и превратился в настоящий шедевр, в том первозданном виде, в котором и был задуман, зайдите, если удастся уговорить какого-нибудь доброго жильца показать эту сказку. Любой тбилисец знает, где дом купцов Сейлановых.
#######
Тбилиси – чудесный и теплый город, теплый не столько погодой, сколько прекрасной атмосферой и удивительными людьми.
Познакомилась с Резо Габриадзе, замечательным художником, режиссером и сценаристом. И еще редкого обаяния человеком! У него кафе и театр в центре старого Тбилиси. Кафе он оформил сам – разрисовал столы, стулья, везде цитаты из «Мимино» и «Кин-дза-за».
На каждом столике своя надпись. Там, где мы сидели, например, нацарапан телефон Ларисы Ивановны, «которую хочу», но обманный, с питерским и московским началом вместе. С утра батоно Резо всегда в кафе, встречи, дела, всякое разное.
Заулыбался, вспомнил моего отца, и сразу попросил своего сына показать нам театр. Там волшебно, таинственно, безмолвные пыльные кукольные актеры лежат или висят по своим местам, глядя вечно открытыми выпученными глазами в пустоту. С особыми характерами, биографиями и настроениями. Ждут, пока их поднимет хозяйская рука, и они наконец оживут, заговорят, зачувствуют. Сильное впечатление от этого безмолвия и ощущаемого ожидания.
Я прям их слышала, этих живых деревянных кукол… А потом вернулись в кафе к их «отцу», и тут нам угощение – самое известное блюдо в кафе у Габриадзе, пончики с кремом, легенда и гордость этого заведения. И это было сложносочиненное счастье – такое общение с таким кремом.