
Екатерина Поспелова
Как я выступала в опере
Я сказала, шепелявя:
– Фмотри, какие крафотки в твоем клаффе. А ты гуляеф с уродиной!
– Ну что поделать, – отвечал мой рыцарь, – надо ж кому-то гулять и с уродинами…
Как я провела выходной
Выходной в театре – это какое-то немыслимое, невообразимое, несбыточное и нереальное счастье.
Как правило, он приходится на понедельник, потому что уикенд достопочтимая публика проводит в местах увеселений и наслаждений, которые им доставляет кто? – а мы, работники театра. Обычные люди поспят-понежатся, проведут лениво-праздный день, а вечерком хлоп – да и пойдут в театр музыку послушать.
А там – мы!
Развлекаем, одурманиваем, дарим смыслами, восхищаем и возмущаем!
Но вот выходные прошли, и обычные люди (это такие странные – «не мы» – существа), нагладив загодя рубашки мужьям, подымаются в предрассветной мгле «трудиться»…
А мы – спим…
Тут подождите и представьте…
Иногда встанешь попить водички часов в семь утра, глянешь во двор: а там все выходят из подъездов, ползут мимо помоечки, в горку, обходя строительство… – ну, не буду злорадствовать, хотя так часто занималась этим, зная, что лично ты-то можешь сейчас вернуться в ароматный ворох тепло-прохладных простыней и придавить еще часа два, или три, или…
Бывают, конечно, печальные исключения – когда часть труппы и персонала в понедельник не отдыхают, занятые в готовящейся постановке, работают…
Но что нам до них, мы свое дело сделали, до девяти в воскресенье работали – и спиммммм…
Но нет.
В одиннадцать раздается звонок из режуправления.
– Поспелова, это вы вчера репетировали до девяти в четыреста первом?
– Д-да, я, – я хоть и не вокалистка, но голос у меня до полудня не просыпается.
– А ключ на вахту сдали?
– С-сдала…
– А если подумать?
Ах, я уже знаю, что чертово режуправление всегда право и ключ лежит сейчас у меня в кармане пальто…
– Но, – откашливаю я сладкую выходную дремоту, – Тамила Николавна, может, можно взять запасной ключ у охранника? – говорю и киксую, как непроспавшаяся валторна.
– Нееет, нельзя взять, – ожесточенным и стальным голосом щелкает Т. Н., – потому что ваш ключ и есть запасной, а другой ключ унес вчера в кармане концертмейстер Полозков, который еще больший идиот, чем вы, Поспелова, потому что он с ключом улетел сегодня в шесть утра в Астрахань дирижировать «Аидой»!
И гудки.
Суперталантливый пианист Полозков – еще и дирижер, и вернуть его с ключом из Астрахани невозможно.
А я тут, не дирижирую Аидой.
Значит – ехать, отвозить ключ.
Через пятнадцать минут мое такси выруливает на слепящее весенним счастьем Садовое кольцо, а в такси я: наспех умывшаяся, с противным вкусом во рту, ничего не проглотившая, в чем попало одетая.
– Хороший денек, – говорит таксист, – теплынь, как будто и впрямь весна!
– Точно, – вторю я, вдыхая запах весны из открытого оконца такси.
– Вы вот даже в легкой курточке, – кокетливо говорит таксист.
– Дааа, – выдыхаю я, горестно ощупывая пустой карман (ключ-то в пальто), – эээ, пожалуйста, развернитесь…
Через час или полтора приезжаю, сорвав репетицию незнамо на сколько.
Режиссерша, мрачно взяв ключ, уходит по коридору… Репетировать.
А я сегодня не нужна… меня нет в подслеповатом расписании на доске.
Театр по-выходному пуст, репетируют только те, кто заняты в премьере.
Тихо темнеют большие фикусы в кадках, тянутся ковровые дорожки, дремлют кулеры с водой.
Иди, Катя, домой, доспи, позавтракай, делай свои дела, попиши, порисуй, поиграй на рояле…
Но бацилла театра уже попала в меня и распускается.
Ем в буфете, странно пустом.
Иду на третий этаж, где гримеры.
Ида и Валя валяют дурака, представляя, как будет выглядеть тенор Ступкин и баритон Шведов в париках, которые только что пришли из мастерских.
– Кать, может, постричь тебя? – спрашивает Ида, недовольно оглядывая непричесанную меня.
– Да! Конечно! Постриги!
Под блаженные сплетни обо всех на свете из моей головы делают чудо, которого никогда не видывали наши парикмахерские.
Ида стрижет, а Валя заваривает кофе, которого никогда не дадут в кофейнях.
Комическая сценка при передаче денег. Я хочу дать тыщу, Ида брезгливо морщится, в результате берет половину.
Валя за моей спиной делает ей знаки: чего валяешь дурака? Бери, коль дают.
Ида не берет.
Обе замечают, что у меня не все в порядке с правым башмаком. Ремешок отрывается.
Вдохновение на лицах.
Звонок по внутреннему в реквизиторский цех:
– Ваня, ты на месте? Сейчас к тебе Поспелова придет, подклей ей ботинок! А потом к нам дуй!
У них свои планы на Ваню, и я, кажется, помогла в чем-то. Без меня не было бы повода Ване позвонить.
По пустому театру спускаюсь к Ване.
Он старший реквизитор, работает тут еще с тех пор, как наш театр отпочковался от другого, и реквизитор Ваня перешел на новое место, невзирая на понижение зарплаты и прочие неудобства.
У него в подземелье – свои порядки. На стене висит плакат, вязью тщательно самим Ваней написанный и гласящий: «НЕ УЧАСТВУЙТЕ В ДЕЛАХ ТЬМЫ» (ЕФ. 5:11).
Пока Ваня приклеивает мне оторвавшийся ремешок на башмаке, к нему приходят из соседних нор монтировщики: один, Игорь, спросить, когда именно надо уносить скамейку в чистой перемене между первой и второй картиной Риголетто. Я пытаюсь объяснить, но меня монтировщик не слушает, а только Ваню.
Он авторитет, а у меня, вообще-то, выходной, чего лезть-то?
Другой, Илья, состоит у Вани в учениках. Потому что Ваня – меломан. Все полки реквизиторской заставлены грампластинками, по большей части – Гилельса. Ваня принадлежит к партии, которая считает, что истинный пианизм и вдохновенность – это только Гилельс, а Рихтер – это дутая фигура.
Я считаю, что оба они замечательные музыканты, но молчу, потому что Ваня, клея мой башмак, заводит двадцать седьмой концерт Моцарта в исполнении Гилельса (он изумительно играет!), а монтировщик Илья сидит в дверях каморки Вани на корточках и вдохновенно слушает.
Скажи я ему, что Рихтер – тоже музыкант хоть куда, он не поверит, и это пошатнет его универсум, созданный Ваней.
Подклеив мой ботинок, Ваня спрашивает:
– Ну, поняла наконец, что такое настоящий пианизм? – и ревниво следит, как я завязываю шнурки.
Я благодарю, и как свежеподкованная лошадка взбегаю наверх.
В режуправлении уже отошли от гнева за несданный ключ, но свято место пусто не бывает, и распускаются, как вешний куст, еще несколько упреков мне: не доложила, что постоянно опаздывает сопрано Воскобойникова, не подала заявку на ввод артистов в роли Марулло и Борсо, не расписалась восьмого марта за подарок дочери…
На мое счастье звонит телефон – хозяин моей квартиры хочет денег. Я должна была с ним встретиться в два, но, поскольку меня вызвали в театр, обо всем забыла, а он ждет меня на остановке около театра.
А денег-то нет! Они дома!
Все столпившиеся в режуправлении принимают мою проблему как свою.
Не проходит и пяти минут, как я набираю восемь тысяч – с миру по нитке. Все записываю – завтра отдавать.
Убегаю из режуправления, напутствуемая криками:
– Не потеряй, Поспелова, мы тебя знаем, выронишь!
– Что за идиот берет за квартиру на Арбате восемь тысяч?
– Чтоб завтра не опаздывала!
Выйдя на улицу, я не узнаю мира.
Внешний мир и мир внутритеатральный совсем никак не соотносятся.
Пока я стриглась, чинила башмак, слушала Гилельса и собирала деньги, в мироздании произошло примерно то, что сегодня – весну отменили, подул пронизывающий ветер, перехватывающий дыхание, полетел снег, и я, без шапки, перехватывая дыхание, едва добралась до остановки, где меня ждал хозяин моей квартиры – странный субъект, знающий десять европейских языков, но чудик: в шляпе, в тренировочных штанах и со спичками в обоих ушах.
– А, здравствуйте, здравствуйте, – залопотал он, пока я вынимала конверт с собранными деньгами.
– Пересчитайте, пожалуйста, – сказала я, он взял конверт и стал перебирать разномастные купюры, которые мне только что дали певцы, реквизиторы, работники режуправления и еще кто-то.
Внезапно налетел порыв ветра и вырвал у него из рук все это трепетное богатство. Несколько купюр прилипли к нашим пальто, парочка улетела под ларьки, окружавшие площадь, еще несколько закружились над спинами машин, стоявших в пробке на перекрестке.
Ужас.
Мы с чудиком – хозяином квартиры бегали и ловили. Ветер дул, машины гудели, пятисотки разлетались.
Кто-то вылез из машины, отлепил тысячную от лобового стекла и подал мне…
Последние сто рублей нашли под палаткой с газетами… И вот представьте – потеряли всего только тысячу!
Хозяин, безнадежно слушая мои увещевания, что я, мол, завтра же все восполню, запихнул все в пластиковый мешочек, попрощался и ушел в муть пурги.
А я?
Нет бы пойти домой!
А я пошла опять в театр!
Зачем? А рассказать о только что произошедшем!
Заврежуправлением Тамила Николаевна тогда сказала мне:
– Знаете, Поспелова, вы и Полозков, наверное, гении…
– Это почему это? – недовольно спросила я.
– Ну, со мной таких безобразий никогда не происходит…
Не помню, что было дальше, но настали сумерки, день прошел.
Мой законный выходной.
Завтра на работу.
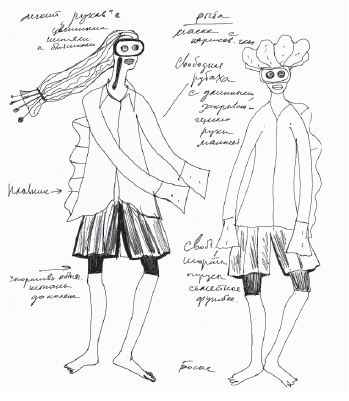
Про корысть
Вот смотрю я иногда на себя с холодным вниманием и думаю:
В сущности, я человек бескорыстный.
А внутренний голос говорит: «лжешь».
И впрямь.
Правда, чаще корысть не задумывается мной специально, а получается сама.
Расскажу две истории.
Работала я несколько лет режиссером по вводам в театре «Новая Опера». И там был один спектакль, который мне чрезвычайно нравился, а народ почему-то плохо шел на него. Некоторые мои коллеги, и даже начальство, высказывали предположение, что простую публику пугает название: «Сельская честь». Думают – это какая-то советская опера про косилки-сеялки-молотилки.
Кстати, может быть.
Я даже предлагала начальству написать подзаголовок или вот так просто назвать «Cavalleria rusticana, или Кровавая драма на Пасху». Потому что там и впрямь дело происходит на Пасху, а в конце спектакля один темпераментный корсиканец кусает за ухо второго и умирает в результате поножовщины. Начальство смеялось, но название не меняли, и зал был полупустой.
А спектакль был замечательный, ставил финский режиссер Карри Хейсканен, вдохновенно ставил, упруго, музыкально, напряженно, со смыслами, с чудесными находками – и солисты были изумительные.
Тогда я разослала похвалы этому спектаклю и приглашения его посетить на пятьдесят шесть адресов случайно взятых людей в социальной сети «Одноклассники» (тогда я не про «контакт», ни про «фейсбук» ничего не знала). Просто – вижу приличное лицо в случайной выборке тех, кто сейчас бдит перед экраном, – и посылаю. Через пару часов сайт меня заблокировал, известив, что я занимаюсь рассылкой спама. А я все совершенно бескорыстно делала! Просто – от себя!
Но еще до блокировки откликнулась, среди прочих, одна женщина, прекрасная на вид, и спросила:
«А почему вы именно меня пригласили на этот спектакль?» А ей отвечаю (умалчивая про остальные пятьдесят пять приглашений):
«Потому что наши тенора и баритоны лучше поют, когда видят в зале красивое лицо». Ей, кажется, ответ понравился, и она говорит:
«Я обязательно пойду. А что я могу сделать вам в ответ приятного? Я гинеколог».
Забегая вперед, скажу – я подружилась с этой прелестной незнакомкой на года, и в гости звала, и профессиональными советами ее пользовалась, и подруг к ней посылала… Она – чудо. Кланяюсь ей тут, между строк.
Второй случай был такой.
Моя подруга, которая вела «бегущую строку» в театре Вишневской, заболела. И просила меня ее выручить – провести эту строку. Это значит – нажимать на кнопочку в тех местах клавира, где актеры уже закончили петь немецкий или итальянский фрагмент текста, перевод которого светится на табло над залом, – и надо сменить его другим.
Я это делала редко – и волновалась.
Хотя опера была «Кармен», а я ее наизусть с детства знаю, правда, в русском переводе: «Здесь тебя красотка искала, она так мила, но имя не сказала».
И вот я ухожу в театр, а мой сосед по мастерской, художник, с работы пришел. Я ему говорю:
– Хочешь в оперу сходить со мной?
– Не, я с занятий с детьми, там заляпался маслом, потом оттирался, и у меня штаны керосином воняют, а других нет.
Я говорю:
– Не страшно, мы будем сидеть не в зале, а в специальной рубке, где никого нет, а я при этом буду работать, – и объяснила как.
Он страшно загорелся любопытством и согласился.
По пути оказалось, что он в опере вообще никогда не был, и я заливалась соловьем всю дорогу, объясняя про оперу, излагая либретто и прочие премудрости. Он шел, затаив дыхание.
В театре мне отвели место под потолком, за сеткой, – там можно было ходить только согнувшись, а рядом, в шаге, справа и слева, стояли прожекторы, которые вдруг, при модуляции в си-бемоль-мажор, начинали трещать, пыхтеть и нагреваться, набирая мощность, – чтоб к переходу в фа-мажор запылать вовсю! Я их немножко побаивалась – вдруг чего рванет или перегорит…
Сама я сидела на каких-то рваных подушках от старых кресел, по-турецки, клавир лежал на стуле передо мной, лампочка – чтоб я видела текст – была прикручена к стулу липучкой.
Сосед просто на полу рядом сидел – и благоговел.
Оказалось еще, что клавир с пометками – когда нажимать кнопочку – кто-то взял в библиотеке и не вернул, и я делала все по слуху, хотя французский знаю хреново. Пару раз налажала, но никто не заметил и помидором в меня не запустил (да и кто знал в зале, что в этой темной щели под потолком люди могут сидеть!).
Был антракт, и мы ходили в буфет.
Сосед так загордился своей причастностью к ходу спектакля, что перестал стесняться своих штанов, которые и впрямь пованивали бензином. Когда капельдинеры стали нас гнать в зал после третьего звонка и отрывать от сосиски с чаем, я ему объяснила:
– Спокойно, там будет еще симфонический антракт, мы успеем. – Он гордо сказал капельдинерше:
– Мы тут работаем – после симфонического антракта!
Она уважительно кивнула и ушла.
А мы полезли опять на верхотуру.
Когда Хозе убил Кармен, сосед, кажется, плакал. Я не оглядывалась, – потому что в финале очень важно, чтоб реплики вовремя высвечивались, – но хлюпы слышала.
На пути домой, в мастерские, сосед задал мне множество вопросов про сюжет, инструменты, голоса, – а я с удовольствием отвечала (училка же).
Простились у дверей.
Через час (я уже приняла душ и хотела спать) – стук.
Сосед.
– Катя, ты не представляешь, какое счастье ты мне подарила! Чем я могу быть полезен? Я вот каждое утро купаюсь в проруби (был февраль). Хочу пригласить тебя завтра со мной в прорубь, в восемь утра, это тоже незабываемые ощущения – не как опера, но тоже – совершенно незабываемые!
Что видно с балкона
Дочь Лиза переезжает в свое первое собственное гнездо, недалеко от нас с мамой, – и на этой почве совершенно сдвинулась: у нее тетрадки в клеточку, где сто нарисованных в масштабе планов будущей квартиры с расстановкой всякого барахла.
Она знает наизусть, что 60 на 60, а что 200 на 145, что 85 или 93 в высоту, а что «эргономично»,
заказывает новые окна «с откосами»,
важничает по телефону с грузчиками.
Я ее в меру инструктирую, а в меру дразню.
Например, объясняю, псевдо-эзотерично, что очень важно для чакр-макр и вообще «фэншуйно», если в доме будет много рыбок – и посылаю ей дурацкие картинки изголовья кровати с рыбками (смерть клаустрофобу), пианино с рыбками (молчащего, как рыба), сливного бачка с рыбками (одноразовыми) и персональную гитару с рыбками для ее молчела, бас-гитариста Сережи.
В общем, я демократичная мать. Слишком даже.
Не ругаю за шалости. Стою я, например, на высоком балконе, выходящем во двор. С сигаретой. Лилово-оранжевый закат, дальние виды Москвы-сортировочной, купы ржавеющих тополей на уровне глаза, птичье щебетанье.
Вдруг страшный, гулкий и грубый голос:
– Женшына, прекрашшайте курить!!!
Роняю сигарету, в ужасе смотрю вокруг на балконы двора-полуколодца.
Никого. Только внизу несколько человек отшатнулось и оглядываются.
Присматриваюсь.
А это Лиза моя, хрупкая, на каблучках и в платьице, с работы идет, ключик по пути из сумочки вынимает.
Маленькая, думаю. Это она орала, какая прелесть…
Я не контролирую, когда она приходит.
Звонит и говорит:
– Мамёнка! (Черт знает что такое.) Закрой дверь на верхний замок и ложись спать. Я буду поздно.
Я все покорно исполняю и засыпаю.
Днем стою опять на балконе с сигаретой.
Вижу – дочь входит в наш переулок, с молчелом, а у того на поводке – собачка. Счастливые и безмятежные.
Так, думаю, понятно: окна вставили неделю назад, кровать привезли позавчера. А вчера они, наверное, там заночевали, и Сережа подарил ей собачку…
(Лиза, Сережа и собачка проходят детсадик во дворе.)
…Собачка, конечно, ничего, компактная и пушистенькая, – думаю я, – но я б такую не завела, мне бы хаски или ирландского сеттера, или какого-нибудь эрделя… Ну, чтоб друг был, осмысленное существо.
…Но это как уж они сами… Я-то что?
(Миновали садик.)
…А что они будут делать летом?
…В Сортавалу, в дом композиторов, ведь не пускают с собачками! Разрешали только председателю Союза с болонкой, но болонку звали Моцарт – вроде тоже композитор… А теперь председатель помер, и никому уже нельзя с собачками…
(Лиза, Сережа и собачка равняются с первым подъездом, а живем мы в третьем.)
…Но ничего, думаю, старые связи – может, разрешат, хотя лаять будет, мешать писать симфонии…
(Они проходят второй подъезд.)
…А я буду по утрам к ним заходить и брать собачку на прогулку – все стимул для моциона, а то я сижу пень-пнем и толстею…
(Они идут мимо магазина «Элитные шторы».)
…А аллергия?.. Но, вроде, у меня и у брата Пети – на кошек, а на собачек – нет, пускай, ничего, уютно зато…
(Они подходят и жмут код нашего подъезда.)
…Надо маме сказать, а то она не готова, сейчас в обморок упадет… хотя какое ей дело – дочь не здесь будет жить, за квартиру сама будет платить, и гулять ее не заставит…
(Они входят в наш подъезд.)
…Надо все-таки предупредить маму, пока они в лифте едут…
Гашу сигарету и подхожу к мамочке.
– Мам, ты не волнуйся – сюда идут Лиза, Сережа и их новая собачка. Приготовься и сделай доброжелательное лицо.
– Чего? – Лиза с Сережей и с новой собачкой, очевидно подаренной ей вчера, едут в лифте, сейчас войдут. – Кто?
– Лиза с Сережей и с новой собачкой!!! Давай уберем тапки и сумки на всякий случай! Собачка милая, не огорчай их, мы будем с ней гулять, а летом договоримся с директором ДТК Мариниванной, а собачку они привезут в котовозке, как Маргаритиванна Мурочку возила.
– Лиза?!
– Да!.. (Я обмираю.)
– Лиза идет сюда с собачкой?
– Да! Ну мам…
(Умоляющий жест.)
– А кто ж тогда спит в соседней комнате?!
…….
В Лизиной комнате, среди запахов лаванды и каких-то парфюмов, в живописном беспорядке, среди юбочек, нот, открытого пианино, дисков, проводков, гаджетов, баночек неизвестно с чем, расчерченных тетрадок в клеточку и фотографий мирно спит каштановой головой в свежих простынях, как жук в сметане, моя дочь Лиза.
Очки у меня есть, но я их курить на балкон не надеваю.
Всюду опера
В Сортавале в доме композиторов решили погулять.
Собрались все, стоим, ждем приятельницу Милицы Генриховны Нейгауз, которая копается.
– Покричите ей, – говорит мама.
– Я забыла, как ее зовут, как-то сложно очень, – говорю я.
– Ее зовут Изольда Фаустовна, – говорит Милица Генриховна и смеется, потому что у нее самой не самое простое имя.
– Изольда Фаустовна! – кричу я. – Мы собрались!
Она нейдет.
Мамочка тогда не выдерживает и кричит:
– Аида Тангейзеровна, мы вас ждем!
Нет ответа.
– Норма Новохудоносоровна, ау! – кричу я, подделываясь под мамин голос, а то мне самой непочтительно так кричать.
– Людмила Руслановна! – орет кто-то из детей, и тут всех прорывает:
– Кармен Зигфридовна! Выходите!
– Саломея Вертеровна! Пора!
– Дидона Отелловна, мы вас ждем!
– Турандот Фальстафовна!..
Тут выбегает Изольда Фаустовна с полотенцем.
– Да иду, иду, – говорит на бегу, – а то скоро Могилой Аскольдовной назовут!

Баба Леля
Первая машина моей бабушки называлась «Эмка» (ГАЗ-М1).
Мой прадед профессор-химик Реформатский получил ее в дар от правительства в тридцатых годах и по наследству передал сыну, лингвисту А. А. Реформатскому. Но дед был, как и моя мама, с техникой в напряженных отношениях, не смог освоить задний ход, и машину водила его жена, моя бабушка, баб-Василька.
В конце пятидесятых Эмку поменяли на «глазастый» «Москвич», который водил преимущественно мой папа, Г. Г. Поспелов. Мама тоже не могла освоить задний ход.
Фотография сделана, скорее всего, в пятидесятые годы, когда бабка и дед очень много и увлеченно ездили на охоту. У бабушки был брат В. В. Вахмистров, который служил егерем в охотхозяйстве. Чаще всего ездили к нему в «угодья», но иногда и в другие места, о которых, наверное, охотники оповещали друг друга – мол, там хорошо… не знаю как сказать «клюет» в охотничьем варианте… «Тянет», «подстреливается»?
Я не совсем понимаю прелесть этого занятия, но верю, что это здорово, потому как охоте посвящено столько прекрасных литературных строчек. Даже мой любимый рассказ Чехова «Студент» – там, вообще-то, про Христа и отречение Петра, но вот – поди ж ты – «Иван Великопольский, студент духовной академии и сын дьячка», вместо того, чтоб молиться день-деньской, на тягу в страстную пятницу ходил… Палил по вальдшнепам, пиф-паф, а потом, с мертвыми птичками в ягдташе, рассказывал деревенским женщинам у костра про апостола Петра, а те плакали.
Ездили мои предки на охоту с большим скарбом, с едой, патронами такими, патронами сякими, гончими собачками (Вестой и Иксом), с консервами, крупой, сменами белья и кое-какой посудой. Набивали эту «Эмку» под самую крышу.
Брали часто и мою юную маму. А чаще всего с ними ездила еще и сестра бабушки – врач, Елена Васильевна Вахмистрова, баба Леля, которая не единственная из нашей семьи попала под репрессии и только что тогда освободилась из лагеря. Кто-то, видать, придумал и написал донос, и она была приговорена к расстрелу «за отравление колодцев». Тогда вмешалась двоюродная сестра Е. В. и моей бабушки, Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, вдова писателя.
(Существует семейное предание, как моя баб-Василька, лет пяти от роду, сидела со своей мамой, Н. А. фон Райс, в партере на «Трех сестрах» и после реплики Вершинина: «Пиши, Маша» на весь МХАТ ревела густым детским басом: «Мама, мне Олю жалко!»)
Так вот – О. Л. Книппер написала письмо Сталину и ходила по инстанциям (а к артистам МХАТа почему-то иногда прислушивались: у Сталина МХАТ был слабостью; говорят, он на «Днях Турбиных» побывал одиннадцать раз).
Елене Васильевне расстрел заменили лагерем, а потом и вовсе освободили ее…
В лагере баба Леля работала по профессии, лечила и спасала людей. Когда пришло известие об освобождении, у нее было несколько больных, которых она вела, и Е. В. откладывала отъезд, боясь бросать больных, но начальник лагеря вызвал ее и сказал:
«Немедленно уезжайте, а то еще, чего доброго, ТАМ передумают»…
И она уехала.
Баб-Василька восседала за рулем, дед Реформатский – рядом. Бабушка водила плохо, но лихо, а дед все время бурчал:
«Мама, не гони, мама, осторожнее, мама, налево, мама, направо».
А на заднем сиденье сидели Е. В. и моя мамочка, девчонка, полулежа, задрав свои детские ноги на тюки с охотничьими пожитками.
Когда выезжали из города, и впереди расстилался свободный путь, Е. В. говорила маме:
«Ну, органчик, играй», – и мама всю дорогу пела громогласно песни. Репертуар был – от советских песен до Глинки. Жестокие романсы тоже пелись, «Отвори потихоньку калитку» и прочее.
Когда заканчивалось шоссе и начинались колдобины и распутица, машина порой улетала в кювет и переворачивалась. Мамочка помнит несколько таких случаев… Тогда ждали еще какую-то машину, а чаще отправлялись за лошадью, и Эмку, начиненную кучей вещей, с гиканьем и присвистом вытягивали обратно на дорогу.
Приезжали в деревню.
Там уже встречали, и было известно, что в каком-то доме принимают городских гостей. Им отводили две комнатушки в избе – в одной был стол и кровать, а в другой, без окон, только сенник (матрац, набитый сеном). В комнате поселялись мои дед с бабкой, а в темнушке, на полу, на сеннике, довольно широком, спали баба Леля и моя мамочка.
Хозяйке платили какие-то небольшие деньги и приносили все, что удавалось добыть на охоте. Щипали птицу все вместе: хозяйка, ее дети, парень и девчонка, и гости-охотники. Я думаю, что мало кто в деревне ел на обед дичь, так что хозяйка избы была очень даже довольна постояльцами.
Я спрашивала маму:
– А местные люди не относились к вам как к буржуям?
– Да, было. Именно так и относились, но без ненависти, а с привычной такой покорностью…
Как-то раз, через день после приезда наших, в дом пришел председатель колхоза, грустный, хромой, раненый на войне человек и сказал:
– Колхоз не справляется с планом по молотьбе, пошлите ваших детей помогать.
Хозяйские дети согласились, и моя мамочка вызвалась тоже.
Работали на молотилке одни женщины.
Мужиков в деревне не было почти вовсе. Был пятидесятый год. Кто-то погиб на войне, а еще некоторых забрали по пятьдесят восьмой статье.
(Я сама, когда ездила в фольклорные и диалектологические экспедиции, много спрашивала об этом. Времена тогда были перестроечные, и мне многие деревенские доверчиво рассказывали: из тех, кто ушел воевать, некоторые вернулись, порой искалеченные, иногда даже и с целыми ногами-руками, – но вот из ушедших по 58-й статье не вернулся просто никто. Не было у них заступников во МХАТе.)
И вот по утрам за мамой, двенадцати лет, и за хозяйскими парнем и девчонкой заезжал на телеге Ликарий Ильич Козлов, четырнадцати лет, и всех отвозил на молотилку. Пока дед с бабкой и с бабой Лелей стреляли по вальдшнепам, мамочка «молотила». Ей выдавали фартук и платок, которым надо было замотать шею и все лицо, оставив только глаза, – пыль и мякина летели страшно, попадая в рот и в нос.
Мама рассказывает:
«Помню, как было удушливо жарко и очень громко от работы молотилки, как пот ручьями стекал под платьем».
Но она была в рабочем энтузиазме и трудилась даже лучше местных девчонок и женщин.
Приехала тогда бригада журналистов из местной газеты, мамочку, очень хорошенькую, сразу заметили и стали снимать. Но усталый и симпатичный председатель сказал, улыбаясь и гладя мамочку по запеленутой платком голове: «Ребята, эта девочка очень хорошая, – но не наша, она просто помогает». И для передовицы сфотографировали другую, тоже очень красивую девчонку тех же лет. Та не три дня работала, а все лето, наверное.
Потом Ликарка отвозил всех домой. Кто-то лежал в изнеможении на дне телеги и смотрел на звезды, а может, спал, – а мама без умолку болтала с возницей. Ликарий Ильич влюбился совершенно отчаянно.
Звал замуж. Они обменялись адресами.
Вечером, после ужина с рябчиками и вальдшнепами, сваренными с картошкой и луком, хозяйские уходили спать, и мама, ужасно довольная и усталая, взбивала сенник и тоже засыпала, приткнувшись к стене и оставив место для тети Лели.
Но взрослые еще долго бодрствовали при свечке, потому что Елена Александровна, сидя рядом со спящей мамой на сеннике и уставившись неподвижно перед собой в темноту, вполголоса, бесконечно рассказывала слушающим из соседней клетушки баб-Васильке и деду Санчо про только что пережитое, про этап, про лагерь, про тысячи чудовищных вещей, про жестокости и кошмар, про хороших людей, которые и [там] встречались, про ужас и мерзость – и про островки порядочности и высоты духа, которые есть везде. Они говорили почти шепотом, никто не записывал, и мама до сих пор жалеет, что она дрыхла на сеннике здоровым и заслуженным сном молотильщицы, и все, о чем говорила тетя, знает только по поздним и осторожным пересказам баб-Васильки в годы, когда мама сама всем этим заинтересовалась.


